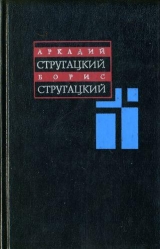
Текст книги "Том 11. Неопубликованное. Публицистика"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 59 страниц)
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН КАК ФАБРИКА ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА. «Второе нашествие марсиан»
Герой повести не просто здравомыслящий. Он неглуп и эрудирован. Намного разумнее и начитаннее большинства жителей городка. Не простой скучный обыватель, но обыватель с широким кругозором и способностью к философствованию (и вовсе не в том смысле, в каком полагает себя философом доктор Опир). Хороший работник, на отличном счету – и недаром. Добавим к этому грамотные и точные высказывания по педагогической психологии и по психологии вообще. «Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей», – сказано, между прочим, вполне в духе идей самих АБС.
Ну, побывал в «котле», сломлен, трусоват. Болен, стар, устал до невозможности. А учил-то, похоже, с интересом – когда-то. Астрономия… «Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров». Четыре тысячи учеников – весь город! И что?..
Да и вообще, ведь это все – лишь характер. А главное? А главное – порядочность. До момента с выдачей партизан – с порядочностью все в полном порядке. Да и выдачей это не назовешь. Он ведь только потом, когда увиделих, тех, кого выдал, тогда только задумался. А раньше это были для него попросту бандиты. Ну да, да, узость мышления, штампы. Всё – да. Но – не подлость. Бездарный мир…
И в этом же герое заметен контраст между конформизмом обывательского характера и интеллектуально-холодным видением стороннего наблюдателя. Ведь он одновременно и «один из них», со всеми потрохами, и он же – вне серой массы по уму. Раздвоение… «Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки». И буквально тут же: «А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение». И – он же: «…какие-то стриженые крикуны… никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немыслимых „измах“, органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность». Обыватель? Трус? Примитив? Сложнее и живее. И – умнее! В точности суждений ему не откажешь. «Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты… Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема».
Мир этого городка – далеко-далеко не черно-белый. Это вам, господа хорошие, не Гиганда… Это – ЗЕМЛЯ.
В какой-то момент АБС все же позволяют себе резко завысить и ум, и речевую культуру героя, сделав его едва ли не носителем авторского монолога. Тот, кто произносит отповедь Харону, – воистину собирательный персонаж, а не просто пожилой неглупый человек, добрый усталый обыватель. Он формулирует отношение интеллигенции конформистской к интеллигенции «революционной» – к тем, кто полагает себя элитой… Или все-таки это отношение человека созидающего – к плесени?.. «Экая жалость – цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! …Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей… воображаете, будто ваша гибель – это гибель всего человечества…»
А в самом деле – кто из них прав? Ведь никакие марсиане для реализации истории «Второго нашествия» вовсе не нужны – как не нужен слег в Стране Дураков. Достаточно всего лишь раз и навсегда устранить необходимость труда за хлеб насущный, в поте лица своего – и… И тогда – что? Исчезнет ли и вправду стремление человечества к некоему никем не определенному «прогрессу»? Или все же потребность в движении для нас важнее, чем наличие у этого движения цели?..
Нет ответа. Писатель не выписывает рецептов и даже не предсказывает течение обнаруженной болезни.
* * *
Анекдотический эпизод с незамеченным марсианином – отличная аллегория. И вполне в духе Стругацких. Инопланетянин появился, протянул бумагу, взял пакетик и исчез. Так сказать, вступил в контакт. А они как раз были заняты насущным – спорили о марках. Вот и не заметили ничего. Делов-то…
* * *
А авторский оптимизм… Его не так уж много, и весь он – в словах Харона: «У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем».
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке»
Как известно, очень тяжело читать книгу (смотреть фильм, слушать постановку), где действуют люди, заведомо более глупые, чем читатель (зритель, слушатель). И уж вовсе невозможно всерьез воспринимать художественное произведение, когда оно рассказывает о дураках. Лично мне известно ровно одно исключение из этого правила – «Сказка о Тройке». Причем книга эта – отнюдь не «экшн». Это – повесть эпохи. Повесть державы. И, как показывает наше время (и чего НИКАК не могли предвидеть авторы), державы не одной. Механизм существования Голема, [59]59
Слово «Голем» употребляется здесь в том значении, которое придано ему в широко известной работе А. Лазарчука и П. Лелика «Голем хочет жить». А именно – надсущество, наделенное инстинктом самосохранения, а также способностью самостоятельно мыслить и действовать, и представляющее собой некую сумму рефлексов и бессознательных реакций всех людей социума.
[Закрыть]его рефлексы в действии, с полным пониманием всего – от реакций на клеточном, так сказать, уровне до базовых инстинктов – здесь есть все. Персонажи этой повести – не жалкие канализаторы. И даже не «внедрившиеся» ребята из НИИЧАВО. Но именно он, Голем.
Законы его жизнедеятельности впервые напрямую приравниваются здесь к законам природы. Корнеев: «Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии».
Что до использования естественно-бюрократических законов в прикладных целях, то главный из этих законов вполне отчетливо сформулировала для Переца Алевтина: «Вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте – это гибель всей административной деятельности». Воевать против законов природы – глупо. А капитулировать перед законом природы – стыдно. В конечном счете – тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Что и делают ученые-маги в финале «Сказки» номер один.
* * *
Эдик в начале «Сказки» – живое воплощение ментальности молодой прозы АБС. Смотрится он, конечно, как пародия, вроде пушкинского Ленского с его «Куда, куда…»
«Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный – избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания… Витька и Роман тоже были такими две недели назад».
Реакция «долгожителей» Китежграда, имеющих дело с реальностью, с живым Големом, достаточно давно – целых две недели, – адекватная: человек, воспринимающий почти реальныймир столь наивно, будто перед ним – один сплошной НИИЧАВО, объявляется эгоистом. «– Я не понимаю, ребята, – сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа…» Соответственно, вместе с Эдиком эгоистичным объявляется и целое мировоззрение. Лозунг которого – понедельник начинается в субботу – потерял свой исходный, немного печальный смысл и превратился в веселенький девиз жизни истинных магов. Нет, лозунг-то сам по себе хорош. Но «работает» он – в сказочном мире… Только и всего.
«Сказка о Тройке» – не просто продолжение «Понедельника», а, как часто случается у Стругацких, – завершение темы сведением к абсурду. И снова – приговором, приговором целой эпохе. Без права обжалования.
* * *
В «Тройке» мы наблюдаем сильный и, насколько я знаю, никем и никогда не применявшийся литературный прием: попытку вывести «то, что сойдет за человека» на контакт с прообразами, превратить на время троечников-канализаторов в истинных администраторов с широким кругозором, то есть в тех, кто теоретическии должен был бы сидеть на их месте. А за компанию с членами ТПРУНЯ и анекдотический старикашка Эдельвейс тоже выходит на контакт с чистым прообразом, мрачным гением, приносящим человечеству страшный дар – ответы на все вопросы. Разыгрывающаяся перед потрясенным читателем сцена, вызванная к жизни эдиковым реморализатором, лежит, мягко говоря, за пределами жанра, в котором написана «Сказка». Этот эпизод, как ни парадоксально – я не боюсь этого слова, но поймите меня правильно, – научная фантастика. И притом наивысшего качества.
На таком контрасте жанров и стилей предельно ярко работает сатирическое начало повести: становится видно, насколько далеки лубочные картинки китежградской жизни от оригинала. То есть, говоря языком Роджера Желязны, – от Янтаря, который единственный существует РЕАЛЬНО, отбрасывая более или менее искаженные тени. Тени, населенные ничего не подозревающими существами, уверенными, что они настоящие… Одна из таких теней предстает перед нами в «Сказке о Тройке» номер один. (Следующая степень упрощения, еще более лубочная картинка – «Сказка» номер два.) Что же в таком контексте представляет собой наш, «реальный» мир? И где бы нам взять Эдика Амперяна с его портативным реморализатором – чтобы увидетьнастоящее, первооснову?..
Впрочем, можно обойтись и без сказочного прибора. Есть учебное пособие по умению смотреть. Творчество Стругацких называется…
* * *
Проблема контакта с негуманоидным разумом. Поколения фантастов так и не придумали, как быть с этой задачкой. Тем более смешны попытки ее решения в исполнении канализаторов. «– Национальность, – повысив голос, продолжал комендант. – Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание иностранных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. …неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта». Суть юмора здесь – в столкновении чисто административного подхода со случаем, не поддающимся ему просто по определению. Какими бы высоколобыми администраторы ни были и какие бы умные инструкции перед ними ни лежали. Здесь, локально, это выявляет самую суть принципа Питера. Тройка уже давно за пределами уровня своей компетентности. В этом же случае планка настолько далеко вверху, что ощущение масштаба канализаторы попросту теряют. В результате чего берутся не просто не за свое дело (это-то им не привыкать), но за дело и вовсе не решаемое – даже в рамках науки, не то что административной структуры…
Напрашивающаяся аналогия – попытки администраторов-троечников «руководить» принципиально неформализуемыми структурами. Культурой, например. Да вот хотя бы той же фантастикой. Получаются сплошные «вероятно»…
* * *
Ресурсы, распределяемые Тройкой, не являясь дефицитными (пока их искусственно не сделали таковыми десять тысяч заявок «от науки») и не принадлежа ТПРУНЯ ни юридически, ни фактически, тем не менее олицетворяют «народные богатства», которыми как раз и распоряжались неправомочные юридически лавры федотовичи – в том самом СССР, о котором, фактически, и идет речь. Именно они, вунюковы, тогда, в семидесятые, решали всё. Да что там в семидесятые!.. Нас десятилетиями приучали к тому, что лавры федотовичи мыслят и действуют только так: они – в своем праве. Отсюда и Афган в конце семидесятых, и… Да вообще всё…
Что же дальше? Оптимисты полагают, будто возможен такой финал, как в «Сказке о Тройке» номер два. Но…
«…оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссорятся? Непонятно…»
Попробуем сформулировать посылку тех, кто полагает, будто ситуация в противостоянии административного и магического (читай – научного) «големов» может быть так или иначе изменена. Получим: человечество развивается. Вывод из этой посылки: научный «голем» МОЖЕТ БЫТЬ нашим союзником в борьбе с «големом» бюрократическим. Однако, как известно, из неверной посылки – все что угодно. Учитывая, что все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию, я постараюсь быть просто точным. Человечество как таковое вовсе и не думает развиваться. Но – и более того – наука тоже очень давно не делает ничего качественно нового. Иносказательно об этом говорится уже в «Понедельнике» – в виде вариаций на темы магии, из которых видно, как мало продвинулось человечество в работе с Силой… Скорее уж наоборот…
А потому – не будем пытаться воздействовать друг на друга эмоционально. Лучше – логикой. Ведь мы имеем дело с законом природы.
Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы…
СЛЕГКА ПОДРАСТЯНУТЬ СОВЕСТЬ. «Обитаемый остров»
IИз «Комментариев» БНС: «Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру – беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Не знаю, что проще, но хорошо знаю, что хуже. В „Стажерах“ Стругацкие меняют, а сразу же после – ломают свое мировоззрение. Они не захотели стать фанатиками. И слава богу».
Попав на Саракш и следуя недавнему примеру собственных творцов, Максим Каммерер меняет, а сразу же после – и ломает свое мировоззрение. Сначала, еще в символической форме, это выглядит как шутка: «Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров, – настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая». Однако позже речь пойдет именно о смене мировоззрения – общего для ранних АБС и молодого да раннего Каммерера. Каковое мировоззрение, будучи уже слегка пошатнувшимся, описывается так: «…воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле». Здесь, на Саракше, Максим находит воистину новую веру, открывая тем самым целое направление для творчества АБС. Отрекаясь от базовых заповедей, впитанных с молоком матери, кристаллизованных ментальностью многих поколений предков-землян, он становится одним из первых истинных миссионеров Человечества – Прогрессоров. А впоследствии – и членом ордена иезуитов, адептов этой веры, существующей отдельно от всего мира Полудня и во многом этому миру перпендикулярной. Пока же он может лишь догадываться о существовании института прогрессорства, хотя кое-что про галбезопасность ему как пилоту известно: «…а на Земле передать материалы угрюмым, много повидавшим дядям из Совета галактической безопасности и поскорее забыть обо всем».
Однако момент, когда Максим увидит очертания новых богов, ощутит, насколько расширились его этические горизонты при отказе от догмата (вместе с «потерей невинности») – этот момент все же настанет чуть позже. Не все сразу. Пока он еще даже не отрекся от старой, детской своей веры, не потерял ощущения, что дом его – на Земле. («…Что же теперь будет? Мама… Отец… Учитель…») Пока он лишь интуитивно прозревает, что попал не просто на очередную скучную неисследованную планету, но – в Новый Мир. Для его чистой души это мир наизнанку, массаракш. Здесь вместо безграничного Космоса – скучная небесная твердь, тупик. Пусть даже и со спрятанным за твердью кумиром по имени Мировой Свет…
Итак, где же оно, то первое отречение от абсолютной веры, от монотеизма (который в данном случае чуть иронически именуется «великолепными изобретениями высшего гуманизма»)? Как ни парадоксально, приходится признать, что задатки ухода от догмата были заложены в душе Максима Каммерера давно, еще на Земле, в самой гуще Полудня: «Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться, и, поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Олегом и с егерем Адольфом – голыми руками, хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы, трое суток не останавливаясь гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога…» И еще: «…он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил тахорга и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно…»
Вот оно, оказывается, как! Коммунару-то вовсе не запрещено убивать. Более того – убивать с удовольствием. Пусть и с соблюдением неких спортивных ограничений – суть от этого мало меняется. Ибо человек, который умеет находить удовольствие в смертельной борьбе, в самом убийстве – будь то убийство оленя ради спорта или голых пятнистых обезьян ради спасения жизни, – такой человек вполне пригоден для «перевоспитания» в Прогрессоры. А точнее, для небольшого толчка – от сказки Полудня к реальности Саракша. Качественная ломка не понадобится. Причастия Буйвола Максим, конечно, не примет. Однако и агнцем его никак не назовешь…
Саракш оказался всего лишь благодатной почвой, которая позволила раскрыться не столь уж глубоко запрятанным рефлексам нормального спортивного парня, никак не склонного давить в себе то, что относится к разряду «ничто человеческое мне не чуждо». Он чист, он порядочен. Он – ПОКА ЧТО – не способен на ложь… Но он уже умеет быть бойцом. И он как раз такой человек, о котором позже, явно и во много раз преувеличивая, сам скажет: «Тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования – надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был… И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться. По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих». Преувеличивал же Каммерер прежде всего ту дистанцию, которую должен пройти сын Полудня (то есть землянин, выведенный из дома рабства, казалось бы, окончательно и навсегда), чтобы вновь возникло в нем умение делить мир на своих и чужих. Во всяком случае ему, Каммереру, потребовалось совсем немного времени – менее двух недель. Вот она, вся пройденная дистанция, начиная со старта, когда при виде первого из аборигенов, Зефа, Максим думает: «…Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о Декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах – не поверил бы». Как видим, налицо и терпимость, и спокойно-иронический взгляд истинного сына Полудня. Но – чуть далее: «У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий Зеф. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постанывал сквозь зубы. А Мах-сим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое…» Так, парень, похоже, задумался. С иронией стало непросто… И наконец, спустя всего десяток дней: «…он обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то он и сам какой-то неприятный. Трудно сказать, в чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной». Все. Готов. Отсюда – всего шаг (и менее часа времени) до того состояния, когда Максим впервые убивает человека сам…
Однако – по порядку. Вернемся на несколько дней назад: нужно ведь еще обменяться с этим вывернутым наизнанку миром хотя бы рисунками, ибо слов пока нет…
«– По-моему, это схема Мира… – Да, возможно… Я слыхал про такое безумие… Такого животного Гай не знал, но он понял одно: это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато… А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка…
…Максим рисовал много, охотно и с удовольствием… животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы…»








