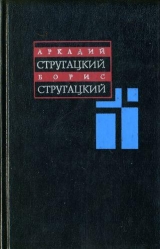
Текст книги "Том 11. Неопубликованное. Публицистика"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 59 страниц)
МЫСЛИТ ЛИ ЧЕЛОВЕК? (Некоторые новые данные о происхождении вида Хомо Сапиенс Еректус)
Перевод с неизвестного языка и примечания И. И. ВАРШАВСКОГО
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:
Вы знаете, я глубоко убежден, что предисловий писать не надо. Всем неизвестный автор по этому поводу сказал: «В начале было слово» (а не предисловие). И вы знаете, я с ним согласен, потому что слово не требует предисловия, если это слово чего-нибудь стоит. А если оно ничего не стоит, то предисловие способно только испортить законченное впечатление о художественном несовершенстве.
Но поскольку приводимый текст не имеет начала, мне захотелось скомпенсировать этот недостаток. Я постарался быть краток, потому что чем короче предисловие, тем приятнее его читать.
Вы, конечно, уже прочли текст (мне всегда было непонятно, зачем вводить в язык два разных понятия – предисловие и послесловие, – если они обозначают абсолютно одно и то же: рассуждения никому не известного человека, которые никого не интересуют до прочтения книги и интересуют только критиков – после прочтения). Итак, текст вы уже прочли и теперь ждете, что в предисловии вам скажут, откуда он взялся и в чем, собственно, дело.
Надо сказать, что это самые трудные вопросы из тех, что можно задать по этому поводу. Об ответах я могу только догадываться.
Дело в том, что в прошлом году я был за границей в командировке и встретился со старинным другом, который там полпредом. Естественно, мы пошли в Лувр и провели там весь день, наслаждаясь прекрасной экспозицией Гогена, а когда я очнулся, то увидел, что лежу у себя в номере, одетый в пальто, но без брюк. Пальто было не мое, а в кармане, кроме рюмки с вензелем N, лежала еще и маленькая плоская обойма для портативного диктофона. На ленте был записан текст, который я передал в распоряжение одного института, где его перевели с помощью одной электронной машины с кодовым названием «Дешифратор шпионской и дипломатической переписки № 6». Перевод осуществляли по методу доктора наук Андреева, и поэтому он представлял собою 7832642 возможных варианта разночтения. Задача, как всегда в науке, состояла в том, чтобы выбрать вариант по вкусу. Так, Андреев и сейчас еще изучает вариант № 0001007, представляющий собой случайное сочетание грамматических форм: овно, овнюк, овённый, овнецо, овновоз и т. д. Главный заказчик института заинтересовался вариантом № 1234567, который начинается так: «Петя, у Джона насморк. Тетя поехала в Гавану страдать неумеренной потливостью. Береги зубы, щеку и солитера...» Этот вариант по требованию заказчика сейчас пытаются дешифровать во втором приближении. А я выбрал вариант № 7000000 и литературно его обработал, т. е. расставил точки и запятые, потому что машина этого не умеет. Конечно, мой выбор не случаен. Происхождение человека, мозг, мышление – все это отличные темы для застольных бесед и поэтому интересуют меня издавна. О происхождении человека хорошо сказал мой годовалый внук: «То, что вы все произошли от обезьяны, – сказал он, – меня не удивляет. Странно, почему вас до сих пор не посадили. В клетку». О мозге неплохо отозвался Гален: «Мозг, – писал он, – есть наисовершеннейшая пища, изготовленная природой». Это сказано сильно, но не верно, потому что наисовершеннейшая пища, изготовленная природой, это коньяк с лимоном. И я не удивился бы, если бы конечной целью Материи было создание вовсе не царя природы – человека, а наисовершеннейшего коньяка с ломтиком лимона, а человек в этом процессе играл чисто вспомогательную роль орудия созидания.
_Мося_: ...онгруэнтно-неконпоротисепарабельная форма не всегда кантуемой псевдожизни. Я кончила.
_Люпус_ _Эст_: Благодарю вас. Вы хотите что-нибудь дополнить, Оруд?
_Оруд_ _Гаи_: Да, с вашего разрешения.
_Люпус_ _Эст_: Прошу.
_Оруд_ _Гаи_: Я хотел бы высказать несколько слов относительно сопутствующих обстоятельств. Дипломантка лишь коснулась предыстории, что и естественно, т. к. ее тема в конечном итоге...
_Голос_: Громче!
_Оруд_ _Гаи_ ( орет так, что ничего не разобрать; постепенно голос его стихает): ...Эта планетная система паразитирует на старой карликовой звезде и содержит одиннадцать больших планет. Мы выбрали третью, потому что она имеет большой безатмосферный спутник с отличным альбедо, а мне очень нравятся лунные ночи. Атмосферу планеты – планету мы назвали Земля – пришлось существенно переменить – там была масса ненужных газов, вызывавших у нас несвоевременные перпендикулы. Было забавно наблюдать катастрофическое вымирание огромных масс бессмысленной протоплазмы, формы которой были бесчисленны. Особенно активно распадались довольно крупные животные, похожие на наших горных ящериц среднего размера. Во время перелета я очень утомился – я работал тогда над математизацией проблемы «смысл слова» – и, чтобы отдохнуть, первые десять-пятнадцать миллионов местных лет (примерно шесть наших суток) посвятил уборке этой весьма запущенной планеты. На седьмой день я почувствовал себя в силах заняться чем-нибудь более важным и засел за работу, поручив Мосе... прошу прощения... поручив дипломантке заняться изменением оси вращения, чтобы создать подходящий климат в той области, где мы решили поселиться. Однако сосредоточиться я не мог. Во-первых, Мося... прошу прощения... дипломантка, покончив с земной осью, сильно скучала. А во-вторых, мне ужасно мешали некрупные волосатые существа, бродившие окрест в поисках пищи. Их волосатая шкура, полная паразитов, их хвосты и бесстыдно замаранные голые...* пробуждали во мне какие-то странные, забытые еще предками, ощущения и чувства. Сравнительно несложный анализ показал, что следует поручить Мосе произвести какие-то действия с этими существами. Действительно, аналитическая цепочка Мося – существа позволяла решить одновременно обе проблемы: существа перестанут отвлекать меня, а Мося перестанет скучать. ( Гул голосов в зале:«Очень интересно!..» – «Нет, это все-таки Гаи! Гаи – есть Гаи! Какой смысловой потуг вы применили, Оруд?..») Я думаю, меня простят, если я не буду распространяться о методах. Все-таки сегодня не я защищаю диплом, а? ( Одобрительный смех в зале.) Итак, вначале я попытался поручить Мосе отгонять этих хвостатых пусковыми клепсидрами, но очень быстро понял, что иду если не по ложному, то, во всяком случае, не по самому простому пути. Нетрудно представить, что это такое – женщина, занятая хозяйством: достаточно посмотреть на наше правительство**. Поэтому, исправив наскоро последствия первого, признаюсь, опрометчивого решения, я предложил Мосе построить несложную кибернетическую систему, способную, так сказать, воздвигнуть стену между мной, носителем Разума, и этими гнусными волосатыми тварями. Киберсистему я назвал ( хохочет)... простите меня, пожалуйста, я назвал ее ( хохочет совершенно неприлично)... о-ох... назвал Человеком ( хохочет; хохот в зале)***. О-ох! Простите меня, старика... Я сейчас кончаю. Техническое задание я сформулировал в общем виде, так что машина получилась довольно способной. Хвостатых отгоняла неплохо, хотя и переняла у них некоторые дурные привычки: чесаться под мышками, искаться, много и бессмысленно болтать, стараться урвать побольше, а сделать поменьше и т. д. Вот и вся предыстория. Мне кажется, Мося поработала неплохо и можно ей присвоить звание и диплом.
* Машине не удалось подобрать нужного слова. Вариант «зады», предложенный Андреевым, был ею решительно отвергнут.
** Намек не ясен. Но ясно, что действие происходит не на Земле. На Земле такого деятеля отправили бы сначала в вытрезвитель, а потом по инстанциям.
*** Смех, в общем, понятен, но объяснить, почему ОНИ смеются, трудно.
_Люпус_ _Эст_: Благодарю вас. Кто желает задать вопросы? ( Пауза.) Вы, Мося?
_Мося_: Прошу прощения, у меня начался телеген. Я хотела бы выйти на две-три минуты.
_Люпус_ _Эст_: О! Поздравляю вас! Прошу, прошу... Надеюсь, за это время собрание сформулирует вопросы...
_Оруд_ _Гаи_: Я мог бы ответить желающим...
_Голос_: Как сформулировать смысл существования ( со смехом в голосе) Человека?
_Оруд_ _Гаи_: Смысл существования – преклонение. Квазистационарная дифференциация смысла: преклонение перед Потомством, преклонение перед Силой, преклонение перед Личностью, преклонение перед Удовольствием и, отчасти, преклонение перед Разумом, но это последнее выражено слабо.
_Голос_ ( скептически): Переработка информации на уровне протоплазмы...
_Оруд_ _Гаи_: А что вы хотите от Человека? ( Хохочет; смех в зале.) Простите... О-ох! Это же _дипломная_ работа!
_Голос_: Но могли бы, в самом деле, закодировать, например...
_Оруд_ _Гаи_: Э-э, батенька! Да кому интересно этим заниматься? У меня на такую чепуху и тогда времени не было, да и сейчас в обрез.
_Голос_: Могли бы хоть преклонение перед Разумом довести до значимости...
_Оруд_ _Гаи_: А зачем ему? В носу ковырять? Ему этот Разум только мешал бы совершать естественные отправления механизма... А вот и Мося. Все, Мосенька?
_Мося_: Да.
_Оруд_ _Гаи_: Ну вот и хорошо.
_Люпус_ _Эст_: Еще вопросы?
_Голос_: А как он выглядит?
_Мося_: Кто?
_Голос_: Человек.
_Мося_: А-а... Да как бы вам сказать... Видели вы новую машину для почесывания вымени у тахоргов? Нижние коленчатые стержни, верхние коленчатые, движение только в одну сторону – в сторону зрительных рецепторов... Оболочка пелеринчатая, служит одновременно для выделений...
_Голос_: Н-да-а...
_Мося_: Все это не представлялось важным.
_Голос_: Напомните, пожалуйста, параметры анализатора.
_Мося_: Белковый, сферический, мощностью десять ватт, емкостью 10 2полубанок, не восстанавливающийся. Работает по принципу избыточности информации. Но избыточность малая. Память ничтожная, за ненадобностью, так как основная необходимая информация хранится в наследственном коде.
_Голос_: Знания хоть по наследству передаются?
_Мося_: Нет.
_Голос_: Расскажите вкратце о самовоспроизводстве.
_Мося_: Двуполый цикл...
_Голос_: Всего-то?
_Мося_: Обеспечивает перенаселение через 10 – 20 тысяч местных лет. Размножение начинается с гонки, причем...*
* Здесь машина включила все свои красные лампочки и отказалась работать.
_Голос_ ( разочарованно): Ну и примитив же... Зачем было так упрощать?
_Мося_: Я уже говорила, что считала своей задачей заполнить белые пятна в серии машин, действующих на уровне квазиразума...
_Голос_: Это все понятно, но все-таки... Люпус, можно я выскажусь?
_Люпус_ _Эст_: Прошу.
_Голос_: У меня такое впечатление, что дипломантка работала старательно. Некоторые узлы – например, обонятельные рецепторы или, скажем, аппендикс, – выполнены очень остроумно и даже изящно. Особенно аппендикс. Сама по себе очень остроумная мысль – закодировать в аппендиксе потенциал омега-смысла. Правда, я не уверен, что схема будет работать в том виде, как она предложена, но, тем не менее, это небезынтересно. Магнитные ловушки анализатора тоже изящны. Но, вы знаете, все это производит впечатление стрельбы из фаулера по галактикам. Сама основа настолько примитивна и убога, настолько малообещающа, что я решительно против присвоения дипломанту звания. Я рекомендовал бы еще и еще раз продумать сам принцип механизма. Создание квазиразумной машины – очень важная, нужная и интересная, хотя и частная задача, и к ней следует подходить серьезно. В самом деле, что это за квазиразум? Простите за неуместную шутку, но если эти ваши человеки, может быть, способны серьезно спорить о том, мыслят они или нет (в квазисмысле, конечно), то уж у меня этот вопрос никаких сомнений не вызывает. Фактически работа дипломанта свелась к созданию еще одной бессмысленной и бесперспективной расы не всегда кантуемых квазиорганизмов, которых и так выдумано более чем достаточно, особенно организмов на белковой основе. Примитивнейший квазиразум, примитивнейшие квазичувства на уровне трехступенчатого инстинкта – все это уже было, было, старо и скучно. Я предлагаю следующее. Что касается дипломантки, то работу считать неудовлетворительной и предложить ей новую тему. А что касается этих рас, на которых защищено столько дипломов, и даже – по недосмотру – диссертаций, то предлагаю созвать очередную сессию Страшного Суда и рассмотреть там вопрос об их дальнейшем существовании. Я чувствую, большинство из них придется переработать в космическую пыль для юго-восточного рукава Мета-супергалактики, где наблюдается недостаток естественных веществ. Ведь я уже неоднократно предупреждал, что следует обратить внимание на систему защиты дипломов, когда дипломанты безответственно подходят к проблеме, создают квазиживые расы, причем зачастую даже без точки останова. Кстати, вы обеспечили хоть останов?
_Мося_: Да, конечно. Период полураспада расы порядка сорока тысяч локальных лет. Предусмотрено два варианта останова: злокачественные генетические опухоли или – на случай трансформации программы – останов по методу Бах-Траха.
_Голос_: Атомное ядро?
_Мося_: Да...
Дальше на пленке идет непереводимое шипение.
АДАРВИНИЗМ
А. – Будем мы писать рассказ или не будем?
Б. – Будем.
А. – А может, пьесу напишем?
Б. – Можно и пьесу.
( Долго молчат. А. ковыряет в носу, Б. чешется.)
Б. – Как ты думаешь: куда ведет эта канализационная труба?
А. – Это которая в море?
Б. – Да.
А. – Наверное, она от всех санаториев. По всему побережью.
Б. – Идеальное место для проникновения шпиона.
А. – Ползком в извержениях туберкулезных больных.
Б. – Ну, он будет в специальном костюме.
А. – Дышать-то ему все-таки нужно...
Б. – Ну, будут баллоны... Выход трубы-то под водой...
А. – Нет уж, лучше без трубы.
Б. – Конечно, можно просто вынырнуть с подводной лодки метрах в двухстах... доплыть до берега и идти. Правда, костюм нужен...
А. – Цена шпиону без резидента дерьмо.
( Задумчивое молчание. А. разглядывает совокупляющихся мух на спинке кровати над его головой.)
А. – Почему, интересно, у насекомых внутреннее оплодотворение? И у пауков тоже... А у позвоночных внешнее – у рыб, лягушек, ящериц... А потом снова внутреннее.
Б. – У ящериц внутреннее.
А. – Не может быть.
Б. – У них спаривание сопровождается так называемым склещиванием. Я сам видел – они так переплетаются, что и не оторвешь, пожалуй.
( Задумчивое молчание.)
А. – Рассказ мы будем писать?
Б. – Будем, конечно. Давай что-нибудь про оплодотворение.
А. – Давай. ( Берет блокнот.)
Б. – Интересно, как мухи узнают, кто у них самка, а кто самец?
А. ( смотрит на него озадаченно) – По форме головогруди, вероятно.
Б. ( проникновенно) – Знаешь, давай писать не рассказ, а пьесу.
А. – Давай. Место действия?
( Долгое, очень долгое молчание. Оба ковыряют в носу.)
Б. – Место действия – Крым.
А. – Крым так Крым. ( Роняет ручку на пол и, свесив голову с кровати, смотрит на нее.)
Б. – Разбил?
А. – Нет. ( Пробует достать ручку рукой.)
Б. – Ногой.
А. – Сейчас. ( Пыхтит.) Ты знаешь, у меня понос, кажется, начинается. Ну ее.
Б. – Дай я. ( Вытягивает ногу и ухватывает ручку пальцами. Подает А.)
А. – У меня все лицо соленое. ( Проводит по лицу пальцами, затем лижет пальцы.)
Б. ( смотрит на него с завистью, затем принимается нюхать матрац. Вызывающе) – Здорово пахнет!
А. ( нюхает свой матрац) – И у меня здорово пахнет.
Б. – У меня здоровее!
А. ( ехидно) – А у меня зато грудь волосатая!
Б. ( после мучительного раздумья) – А видал, как я ручку ногой поднял?
А. ( не говоря ни слова, поднимает ногу, снимает очки, дышит на них, вытирает о живот и надевает снова.)
Б. ( берет сигарету и на четвереньках бежит прикуривать от электроплитки. Вернувшись, с вызовом) – У меня зад красный!
А. ( бледнеет от зависти, затем расплывается) – Это у тебя загар, он пройдет!
Б. – Нет, это у меня естественное, от природы! ( Пытается выкусывать что-то под мышкой.) Черт, Копылов клопов развел... Нажрется молока со сливами...
А. ( тоже пытается добраться до подмышки и роняет очки) – Пусть их. ( Смотрит с кровати.) Пусть. ( Вылизывает колено.)
Б. ( тоже пытается вылизать колено, но забывает, что во рту у него сигарета. Вопит) – Аы-а!
А. ( злорадно хохочет) – Кха-кха-кха-кха-крррр...
Б. – А я членораздельно говорить не умею! Аыа!
А. – Кхр-кхр-кхр!
Б. – Аыа! Мфух...
( Оба неловко вскарабкиваются на перекладину и начинают там искаться, покрикивая: «Аыа! Кх-кх-кх...»)
Избранная публицистика
ШЕСТИДЕСЯТЫЕ…
Аркадий Стругацкий, Борис СтругацкийПРО КРИТИКУ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ [1]1
«Исследование-декларация» (по авторскому определению), написанное в 1962 г. и частично вошедшее затем в статью «О советской фантастике». Эти работы так и не дошли в то время до читателя и были опубликованы лишь много лет спустя – в первой половине 90-х. (Прим. составителя.) ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? – Волгоград, 1991 (первопубликация).
[Закрыть]
Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, почему ефрейторов называют ротной язвой.
Я. Гашек
1. ПРЕАМБУЛА
Вид художественной литературы, именуемый научной фантастикой, существует. Другое дело, что многочисленные попытки теоретически отграничить научную фантастику от других видов художественной литературы не привели к сколько-нибудь определенным результатам. Мы поэтому исходим из предположения, что нормальный человек интуитивно улавливает разницу между, скажем, «Искателями» Гранина и «Туманностью Андромеды» Ефремова и между «Аэлитой» Толстого и народной русской сказкой про Лихо Одноглазое. Итак, научная фантастика существует. Она существует для того, чтобы удовлетворить естественное стремление человека к необычайному, будить воображение, утолять любознательность. Это специфическая цель научной фантастики, и это знает каждый фантаст. (Хотя до сих пор еще попадаются скучные личности, которые хотят, чтобы научная фантастика выполняла функции учебников для средней школы.) Чтобы покончить с банальными истинами, приведем еще две.
1. Современная научная фантастика отягощена многочисленными недостатками.
2. Тем не менее она является одним из наиболее массовых, наиболее читаемых видов литературы.
Отсюда следует тривиальный вывод: научной фантастике нужна доброкачественная критика.
2. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, КАКОЙ ЕЕ ВИДИМ МЫ
Начнем с того, что с нашей точки зрения нет принципиальной разницы между научной фантастикой и другими видами литературы и между работой писателя-фантаста и любого другого писателя-беллетриста. Как и всякий вид литературы, научная фантастика не однородна, она содержит ряд различных идейно-тематических течений. Вот некоторые из них: судьбы величайших изобретений и открытий современной науки; создание образа человека будущего – романтического героя; создание образа обыкновенного человека будущего, принципиально не отличающегося от героя нашего времени; создание гротескных ситуаций, как следствий столкновения человека с необычайными свойствами природы. Как и любой честный писатель-беллетрист, писатель-фантаст в своем творчестве проделывает какую-то эволюцию, совершенствуется, иногда меняет взгляды. Писатель-фантаст, начиная работать над произведением, ставит перед собой определенную задачу, вытекающую из его взглядов и вкусов, и решает ее характерными для себя средствами, применяя ему одному присущие методы воздействия на читателя.
Как и в любом другом виде литературы, в научной фантастике правомерны все проводимые идеи и все разрабатываемые темы (за исключением, разумеется, идей и тем, противоречащих коммунистическому мировоззрению). О критике речь еще будет впереди, но заметим, что как и всякий писатель-беллетрист, фантаст крепко держится за свои взгляды, и если критика не способна эти взгляды изменить, то это между прочим может означать и слабость позиций критики. Отметим, наконец, что, как и в любом другом виде литературы, в научной фантастике есть случайные авторы и авторы-новички. Бывают и халтурщики – тоже как и в любом другом виде литературы.
Такова научная фантастика с нашей точки зрения, и возможностей для другой научной фантастики мы не видим.
3. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, КАК ЕЕ ВИДЯТ КРИТИКИ
Все, изложенное в предыдущем разделе, критика игнорирует. Вот как выглядит современная научная фантастика с точки зрения одной критикессы – с точки зрения, которая представляется нам довольно характерной.
«…Очень уж трудно обнаружить в… этих произведениях… индивидуальность пишущего, его личную особую тему. Попробуйте различить писателей-фантастов по голосам, попытайтесь найти в каждом из них своеобразие – у вас это вряд ли получится…» «…Большинство наших фантастов по большей мере озабочены только одним: они стараются писать как можно более фантастично, вовсе не заботясь о том, чтобы подняться „просто“ до настоящей, хорошей литературы. Вот почему главное для них – некая гипотеза, а все остальное: характеры, конфликты, сюжет – не более чем „упаковка“». «Берется набор стандартных ситуаций, характеристик героев, описаний – набор, напоминающий коробку с планками, винтами и колесиками из детского конструктора… Все это замешивается на дрожжах более или менее реальной научной гипотезы, потом выливается в многократно использованную форму „новеллы ужасов“, детектива, монолога „раскаявшегося скептика“ или „пламенного энтузиаста“ – и рассказ готов». Как видите, от первого абзаца предыдущего раздела не осталось камня на камне.
Не менее любопытные сведения о нашей научной фантастике мы узнаем из других критических работ. Безграмотными невеждами оказываются научные фантасты, коим по сюжетным надобностям потребовалось выскочить за пределы современных научных представлений. Скучными техницистами оказываются, с другой стороны, те фантасты, сюжетные надобности коих позволили им существовать на грани возможного. Критики из среды самих научных фантастов изобретают прелюбопытные теории, суть которых сводится к тому, что лишь направление, представленное автором теории, является истинным, а остальные направления следует карать беспощадно. Вот и второй абзац предыдущего раздела разнесен в пыль.
Таким образом, общая картина борьбы критики против научной фантастики выглядит так. Берется вся научная фантастика – скажем, за последние три года. Заметьте, если мы говорим «вся» – это значит вся. Молодые и старые. Новички и маститые. Халтурщики и честные. Способные и бездари. Произведения 59-го года и произведения 61-го. Все смешивается в кучу. Из этой кучи, как изюм из батона, выбирается самое неудачное и подвергается осмеянию. При этом, как правило, происходят такие вот вещи. Например, кто-нибудь из этой кучи авторов страдает склонностью к штампам. Берут из него пример, поднимают этот пример на надлежащую сатирическую высоту и объявляют: «Вот они какие, эти нынешние фантасты!» Попробуй потом оправдайся… Но мы забежали вперед.
Такова научная фантастика, которую видит критика, и никакой другой она почему-то не видит.
4. КРИТИКА, КАКОЙ ЕЕ ВИДИМ МЫ
Интересно, что бы сказал А. Н. Толстой, если бы увидел на третьей полосе какой-либо литературной газеты такую заметку:
НЕ ТО!
Я не раз пытался представить себе образ честного интеллигента, принявшего Октябрьскую Революцию. В воображении возникали образы самоотверженных людей, проводивших дни и ночи в тифозных бараках, с воспаленными от бессонницы глазами заседающих у Луначарского, беззаветно идущих в бой за молодую Республику.
Счастливый случай помог мне избавиться от заблуждений. Я прочитал книгу А. Н. Толстого «Восемнадцатый год». И теперь доподлинно знаю, чем занималась интеллигенция в дни Революции… Конец семнадцатого года. Необычайные трудности испытывает молодая Республика. Рабочий Рублев с гранитного цоколя памятника Александру III агитирует солдат повернуть штыки в защиту революции. И вот «здесь же у памятника остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами». Позже оказывается, что это интеллигент Телегин. Вот он, образ честного интеллигента по А. Толстому! Он не проводит дни и ночи в тифозных бараках! Он справляет малую надобность, не замечая ничего вокруг!
(С иронией и жалостью:) Хочется искренне поблагодарить редактора издательства, позволившего автору донести до нас живое дыхание великого прошлого.
Ж. Обмылкин, журналист
Классик советской литературы был бы, наверняка, удивлен таким лихим и странным толкованием образа Телегина. А вот нас, простых советских научных фантастов, этакой лейб-гусарской атакой в пешем строю – сабли наголо, на нижней губе изжеванная пахитоска, холодно и спокойно поблескивает голубоватое пенсне – не удивишь. Мы уже привыкли. Мы только слабо повизгиваем, когда нам в бок втыкают золоченую авторучку. Хочется иногда, конечно… но…
К сожалению, в советской научной фантастике не создано пока еще ни одного произведения, достойного стоять хотя бы полкой ниже «Восемнадцатого года». Вероятно, именно поэтому разбором научно-фантастических произведений никогда не занимаются генералы-от-критики. Их как-то не тянет. А может быть, они просто не знают, что есть у нас такая научная фантастика, в которой честно и профессионально работают уже несколько писателей. Редко-редко (и такие события отмечаются у фантастов иллюминацией и сатурналиями) величественно выступит с проблемной статьей критический майор или полковник. Обычно же критическим обслуживанием научной фантастики занимаются ефрейторы. Иногда унтер-офицеры. В порядке отхожего промысла. И вот берет автор научно-фантастического произведения какую-нибудь литературную (а то и экономическую) газету, распахивает ее на какой-нибудь странице, судорожно пробегает штурмовой опус Ж. Обмылкина, журналист-ефрейтора, похожий на хриплую команду: «Сдеть шинеля!», и жалобно стонет: «Ну за что же? Ну неужели он действительно не понял? Ну что за кретин!»
Представим себе, что при этой сцене присутствует сам журналист-ефрейтор. «Ты это брось, – с ленивой ухмылкой скажет он автору. – Чего там еще понимать? Все и так ясно». И, наверное, ему действительно все совершенно ясно. Небрежно, не глядя, берет он очередную научно-фантастическую повесть, бегло проглядывает ее, молча спешивается, обнажает саблю и идет в атаку. Таковы рефлексы критического лейб-ефрейтора.
Несколько (а в некоторых случаях и гораздо) более сложны рефлексы унтер-офицера. Если принципы ефрейтора характеризуются просто возгласом: «Р-руби!», то принципы всякого уважающего себя унтер-офицера всегда заключаются им в следующую стандартную схему:
А. Наши ученые, одну за другой, завоевывают вершины науки.
Б. Развитие науки вызывает огромный спрос на научную фантастику.
В. И это не удивительно.
Г. В последнее время после долгого периода застоя научная фантастика наконец проснулась.
Д. Появились новые авторы (Иванов, Петров, Сидоров, А. Н. Лев-Толстой), которые очень увлекательно написали про завоевание Венеры, про завоевание недр Земли и про достижения геронтологии.
Е. Но все ли у нас благополучно?
Ж. Не все. Бытуют еще некоторые недостатки. Образов нет. Людей нет. Художественного вкуса нет. Мастерства нет. Ничего нет. Скучно. Грустно.
З. Хочется пожелать нашим фантастам еще больших успехов.
Если ефрейторы унижаются все-таки до атаки на одного отдельно стоящего автора, то унтер-офицеры, как мы уже говорили, никак не способны подняться до этого. Он критикует оптом, окружая и перемалывая сразу целые подразделения авторов. Очевидно, унтер-офицеру тоже все ясно. Он явно считает, что понимать тут нечего, и потрошит научную фантастику, не замечая, где кончается один автор и начинается другой.
Кто станет спорить, что критик имеет полное право расчленить и исследовать литературное произведение, а автор имеет не меньшее право жалобно закричать: «Увы мне, опять не поняли!» Это несомненно бесспорное положение становится спорным, когда речь заходит о научной фантастике. Вот мы считаем, что это положение следует распространить на научную фантастику. Мы считаем, что критику в любом случае невместно заявлять: «Чего-де там понимать? Все и так ясно».
Мы считаем, что научного фантаста тоже можно понять, а можно и не понять. Переведем это на привычный ефрейторам язык письменного приказа: «Критикам навсегда запомнить надлежит, что всякий честный писатель-фантаст – это прежде всего писатель, обремененный мыслями и идеями и удовлетворение свое ищущий „в освобождении от груза своих мыслей“, как говаривал Моэм, и пишущий потому, что не может не писать».
Такова критика, которая у нас перед глазами, и другой критики мы не видим.
5. КРИТИКА, КАКОЙ МЫ БЫ ХОТЕЛИ ЕЕ ВИДЕТЬ
(С приложением списка некоторых запрещенных приемов)
Мы боимся, что нам опять придется говорить банальности. По нашему глубокому убеждению, критикам следует работать так (мы хотим сказать, что если бы мы были критиками, мы работали бы именно так):
1. Заинтересоваться данной книгой. (Только не говорите нам, что в нынешней фантастике нечем интересоваться – мы все равно не поверим: мы же интересуемся. Есть, правда, критики, которые не любят научную фантастику вообще, – о них речи нет, пусть они критикуют то, чем они интересуются.)
2. Несколько раз внимательно прочитать книгу. (Иногда это бывает трудно, но это же ваша работа! Писать тоже трудно, уверяем вас.)
3. Постараться понять замысел автора. Путеводной звездой да послужит вам мысль о том, что таковой замысел наличествует почти всегда. (Тут, главное, не закричать еще над обложкой: «Чего там, все ясно!» Остальное пойдет как по маслу.)
4. Разобраться в художественных средствах, которыми пользуется автор для проведения своего замысла (при этом по возможности не стремитесь рассматривать каждый необычный эпизод как элемент разнузданного развлеченчества. Так, например, появление на страницах кошмарного чудища отнюдь не всегда задумывается автором-фантастом только для того, чтобы не дать заскучать читателю).
5. Оценить замысел и художественные средства и установить, насколько они соответствуют друг другу. Это самый существенный момент. Выяснение, как соотносятся форма и со…
Знаете, это все, наверное, уж слишком банально. Вы, вероятно, нас уже поняли, товарищи критики. По сути дела мы хотели бы только, чтобы вы были добросовестны. И еще. Есть такое понятие – запрещенный прием. На всякий случай список таковых мы прилагаем.
СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРИЕМОВ
1. Лихие наскоки журналист-ефрейторского типа. Нехорошо, нечестно выдирать из произведения одну-две строчки, обставлять выдранное насмешливо-уличающей фразеологией и сбывать то, что получилось, неприхотливым редакторам. Нехорошо, например, взяв на рассмотрение известный тургеневский рассказ, тщательно выписать оттуда все, что говорит немой Герасим, язвительно заметить, что во всем могучем русском языке автор находит только одно мычание, и снести этот нехитрый опус в редакцию, озаглавив его «Ни му, ни му».
2. Обвинение научной фантастики в восьмом, девятом и прочих смертных грехах. Обычно этим занимаются критики, которые научную фантастику терпеть не могут и потому видят в ней источник разнообразных бед. Нехорошо, нечестно фантастов, по каким-то соображениям вышедших за пределы современных научных представлений, либо обвинять в подрыве достоинства науки, либо объявлять ответственными за появление прожектеров и всяких там перпетууммобилистов. Обвинения, при всей их нелепости, звучат очень обидно прежде всего потому, что практически каждый фантаст очень любит науку и презирает перпетууммобилистов. Современным фантастам остается утешаться мыслью о том, что в том же положении оказываются Гомер и Сирано де Бержерак, ответственные, по мнению нынешних критиков, за появление в отдаленные времена такой армии изобретателей вечного двигателя и искателей трисекции угла и квадратуры круга, что Парижская Академия наук вынуждена была отгородиться от нее специальным постановлением.








