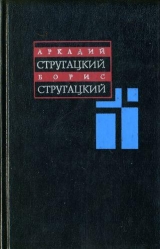
Текст книги "Том 11. Неопубликованное. Публицистика"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 59 страниц)
СМЫСЛ ЖИЗНИ НА ОСТАВШИЕСЯ ЧАСЫ. «Далекая Радуга»
Леонид Андреевич Горбовский. Живое человеческое воплощение Полудня. Самый добрый, самый нравственный герой Стругацких. И он же – совершенно живой, настоящий. А ведь это вовсе не само собой разумеется! Он – тот самый счастливый самодостаточный Человек Будущего, избежавший опасности превращения в красивую, вдохновенно-прозрачную схему. Ни жеребячьего оптимизма, ни одноплановости. Такое «идеальное тело» можно смело перебрасывать в материальный мир. Если присмотреться, познакомиться поближе – Леонид Андреевич предстанет человеком отнюдь не простым. А вполне даже противоречивым. Как и положено живому. Добрый «дедушка Горбовский», «душка Леонид Андреевич» умеет быть и жестким, и жестоким – стоит ему почувствовать живую ответственность. А его знаменитое «На лужайку бы. В травку. Полежать. И чтобы речка» – таинственным образом органично сочетается с музыкальными пристрастиями хулиганствующего рокера, в результате чего эту самую буколическую травку-лужайку оглашают издаваемые проигрывателем Горбовского звуки тамтама – «Африки», или, проще говоря, черного рока. И смотрится это абсолютно естественно. Никак не входя в противоречие со способностью в любых ситуациях находить самое доброерешение.
Что и делает его на Радуге богом. Выбирает, решает судьбу, дарует жизнь или смерть – он, Горбовский. И все, все до единого, опять же самым естественным образом, такое право за ним признают.
Здесь, на Радуге, перед самым концом света встречаются два бога: «настоящий», внеморальный бог Ветхого Завета, не способный сочувствовать, мыслящий лишь в категориях целесообразности, бессмертный гений Камилл. («– Оскорбляет? – сказал он. – А почему бы и нет?») – и человеческий бог, «простой смертный» Леонид Андреевич Горбовский («…тебя все любят. – Не так, – сказал Горбовский. – Это я всех люблю».) Каждый из них по-своему одинок. Но какие разные эти два одиночества! Одиночества с противоположным знаком…
Горбовский – единственный из героев АБС, который, попав в предложенную ему авторами тестовую ситуацию с неподъемной ответственностью, не просто не пугается ее, как испугался инспектор Глебски, как испугались даже такие бойцы, как Сикорски и Каммерер, – но идет ей навстречу и спокойно, уверенно на себя берет. Он ведь бог – вот и ЗНАЕТ, что – добро, а что – нет. И даже – в порядке исключения, перед лицом смерти – берется немножко проповедовать. Хотя никогда в жизни, как он сам сказал всего за несколько часов до своей короткой проповеди, не произносил публичных речей. Такова судьба бога на земле. Мало кто поймет, но надо хотя бы попытаться объяснить. Милосердие. А значит – и право решать.
Хочет того сам Леонид Андреевич или нет, но новозаветному богу отведена еще одна роль – роль Учителя. Рабби. Горбовский – возможно, лучший из целого ряда столь любимых Стругацкими персонажей, Учителей Полудня (хотя де-юре таковым и не является). Убежденность его столь органична («– Жесты?.. Я не умею»), а отношение к собеседнику – ученику! – такое непритворно уважительное, что не прислушиваться к его словам не может никто. Будь то пестрая толпа, из последних сил сдерживающая ужас предстоящего физического исчезновения (сам-то Горбовский, как и его антипод Камилл, смерти не боится вовсе – быть может, единственный из людей на Радуге), или мальчишка, вообразивший, что ЗНАЕТ решение.
* * *
«Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смельчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо…»
Роберт Скляров. Персонаж уникальный, ни на кого у АБС не похожий. Истинный сын Полудня – разносторонне развитый, сильный, красивый. Отлично чувствует где «хорошо», где «плохо». И – умница. (При этом, как ни странно, и дурачок одновременно. Все ведь относительно. Патрик, на фоне которого Роберт кажется себе жалким интеллектуальным уродцем, сам на фоне Камилла смотрится не лучше.) Но главное: Роберт, будучи едва ли не идеальным, тоже ЖИВОЙ! «…Огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику». Он совершает такие поступки, которые сам же квалифицирует как подлость и предательство. Это он-то, полуденный мальчик, «Юность мира»! Любовь толкает молодого полубога на подлость… И мы в это верим! А ведь порой, чтобы стать живым и осязаемым, стать взрослым, сыну Полудня приходится озвереть – подобно Маку Симу на Саракше. Именно поэтому Вадиму из «Попытки к бегству» взросление не далось вовсе. Роберту же, чтобы стать человеком из плоти и крови, ничто животное не понадобилось. Он, Роберт Скляров, не дитя под личиной взрослого (как Вадим), он – подросток, почти юноша… Это несомненная удача авторов. Одно дело – создать психологически достоверный мир счастья, заселенный исключительно теми, кто прошел суровый «отбор на Полдень», но взят все же из века двадцатого. И совсем другое – показать человека «не нашего», вовсе незнакомого – и в то же время не схему. Говоря словами Витьки Корнеева, создать образ, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.
Люди Полудня. Они совершенствуются, совершенствуются, становятся лучше, умнее, добрее. И гармония души и тела налицо. А неразрешимые проблемы остаются. Как внешние, так и внутренние. Полдень постепенно расцвечивается полутонами. И это – прогресс.
* * *
В «Радуге» Стругацкие изобретают новый прием – поставить человека в ситуацию неразрешимоговыбора. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос. В первый, но далеко не в последний раз в своем творчестве АБС обходятся с героем столь жестоко. Ответственность. Можно ли убить, предать, совершить подлость – «во имя»? А если да – то во имя чего?.. Тот самый выбор, который нуль-физик Маляев называет позорным. Позже перед подобными, никогда и никем не решенными вопросами встанут дон Румата, Мак Сим, Экселенц… А пока их предложено решать Роберту Склярову и Леониду Горбовскому. Решать так, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда. Скляров мучительно делает свой выбор, убеждается, что реализовать его не в состоянии, и в конце концов сам объявляет, что экзамена не сдал. Горбовский же, напротив, ответственность берет на себя просто и естественно. Впрочем, ему-то что, он бог.
Здесь – впервые и уже навсегда – АБС демонстрируют новое понимание сильногочеловека. Не мышцы. Не самоотверженный героизм неумного чудака, «героя-удальца». И даже – не добрая силаСавела Репнина. Но – сильная добротаЛеонида Андреевича Горбовского.
Если же смотреть шире, то слова и дела Горбовского – воплощение позиции Стругацких вообще. Едва ли можно найти более емкий и более точный девиз их жизни и творчества, чем эта простая фраза: «Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам».
ВСЕ ЛЮДИ СТАРШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. «Трудно быть богом»
Говорить об этой книге можно бесконечно, а стало быть – говорить не стоит. Она говорит сама. И как собрание афоризмов, и как высшее литературное воплощение идеи ШКОЛЫ. У не читавшего в юности «Трудно быть богом» – прореха в образовании, более того – в воспитании. Притом невосполнимая.
И еще. Тот, кто прочел эту книгу один раз и «все понял», столь же наивен, как пресловутые слепцы, на ощупь составлявшие представление о слоне…
* * *
И все же – один фрагмент. Уж его-то не упомянуть никак невозможно.
«– Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными… или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.
– Сердце мое полно жалости, – медленно сказал Румата. – Я не могу этого сделать.
И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой».
С ужасом и надеждой. В этих словах – определение взгляда на мир думающего, видящегои слышащего, но и не теряющего последней веры интеллигента. Будь то Мастер, с ужасом и надеждой приоткрывающий окно в Будущее, или его читатель, вглядывающийся из-за плеча автора в неведомые миры, порой – апокалиптически мрачные, порой – утопически прекрасные, но всякий раз – завораживающие непонятностью и новизной. (Все это, разумеется, при условии, что Мастер – настоящий.) Каждый, кто хоть раз в жизни обращал свой взор чуть выше обыденности, знает, сколько горького пессимизма и вместе с тем возвышающей дух веры в светлое будущее таится в этом словосочетании – с ужасом и надеждой.
В окончании диалога Руматы с Будахом заключена и иная аллегория. Перед нами – художник, Мастер, сердце которого полно жалости, и потому он не в силах оставить паству и дать ей идти своей дорогой, ибо есть те немногие – из слышащих, – кто верит, и чьи глаза, полные ужаса и надежды, не позволяют ему умыть руки, отказаться от такой трудной миссии – быть для них богом.
РАЗУМНЫЕ МИНЕРАЛЫ, А ТАКЖЕ КОММУНИСТЫ. «Понедельник начинается в субботу»
Современный читатель воспринимает «Понедельник» неоднозначно. Это неудивительно. С одной стороны, сам Борис Стругацкий настаивает на том, что вещь эта – предельно легкомысленная, писалась исключительно как капустник и никакой особой эзоповой нагрузки не несла, разве что местами и едва ли не случайно. С другой же – не заметить эзопова письма, причем едва ли не сплошного, внимательный читатель попросту не может.
Каждому предоставляется решать этот вопрос самостоятельно. Я же, со своей стороны, настоятельно рекомендую блестящее эссе Ал. Ал. Щербакова «Тридцать лет сплошного понедельника» [58]58
Статья опубликована в виде послесловия к книге: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу; Сказка о Тройке. – Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 1992.
[Закрыть]– на предмет промывания мозгов. То есть для повышения КПД работы того самого эзопова юмора, которым буквально пропитана книга.
Ибо ценность данного произведения заключается отнюдь не в «обшивке». Как, впрочем, и ценность любого произведения АБС.
* * *
Однако – совсем немного о трактовке текста.
Первое знакомство. «Как он в общежитие-то пройдет?» – «Д-да, черт, – сказал горбоносый. – Действительно, день не поработаешь – забываешь про все эти штуки». Само собой, у героя – а вместе с ним и у читателя – с самого начала складывается представление о закрытом предприятии: «Понятно. Что-нибудь с космосом?» А чуть позже, после знакомства с местным так называемымзамдиректора по АХЧ («С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный»), а также с местными политическими ссыльными («…славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную…») – после этого впечатление о закрытом НИИ утверждается окончательно. Говоря же языком, принятым в те времена, действие происходит в обычной научной шарашке. Нет, настоящих ЗК там быть не может – уже не те времена. Но… Но шарашка – она шарашка и есть. А такие детали, как имя, мягко говоря, «товарища завкадрами» (боюсь, не так просто объяснить нынешнему молодому читателю, что такое «первый отдел» вообще и как выглядело сие явление природы в закрытом НИИ или КБ в частности), лишь закрепляют сложившееся впечатление.
Правда, некоторые современные читатели полагают, будто в те времена сотрудник «обычного» закрытого учреждения (расположенного почему-тов глубинке) жил в обычной общаге, на обычную зарплату «эмэнэса». И что всё это – примета времени… Что сказать? Были, конечно, и эмэнэсы, были и общаги – всё так… Но были ведь и космические КБ, а в них трудились они – вольняшки из шарашек. Тоже ведь примета времени… Как и вот это, смешное и горько-правдивое одновременно: «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь»…
Что же касается уникальной параллели, проведенной Стругацкими между силами сказочными и административными, то, забегая вперед, напомню: Модест Матвеевич – не последний «типичный представитель» непобедимой партии антимагов в книгах АБС. «Весьма глубокое соотношение между законами административными и законами магическими», которое авторы «Понедельника» так удачно подметили, глубоко и всерьез раскрыто в совсем-совсем другойистории – повести «Сказка о Тройке». Однако всему свое время.
ПРАВДА, НО НЕ ДЛЯ ДУРАКОВ. «Хищные вещи века»
Главное про эту книгу уже сказано. Осталось лишь одно важное замечание. На тему «юношеский оптимизм и зрелая информированность».
В «Возвращении» Леонид Андреевич говорит о «зябликах» – людях, которые «в науке разбираются плохо от лености или там плохого воспитания». Зябликов этих хотя и хватает, по словам Горбовского, однако вполне очевидно: в мире Полудня их малое меньшинство.
Здесь же, в «Хищных вещах» все обстоит куда как реалистичнее и, соответственно, пессимистичнее. На сцене появляется выразитель чаяний НАРОДА – доктор философии Опир, воспринимающий науку исключительно в качестве источника удобств и наслаждений. Вот уж кто воистину оптимист…
Иван Жилин (ТОТ, молодой Жилин, из «Стажеров») верил, что в счастливом будущем все будут творцами. Во всяком случае, это тот идеал, к которому он хотел бы стремиться. Опир же верит в нечто прямо противоположное. Он сам – воплощение Страны Дураков, подобно тому, как Горбовский – воплощение Полудня.
И все бы ничего, да вот только и философия доктора Опира, и его предсказания, выглядят куда меньшей фантастикой, чем идеалы Жилина и Горбовского. Если смотреть холодно и честно.
Собственно, тот факт, что Страна Дураков – всего лишь заповедник инстинктивной деятельности, совсем небольшой больной участок на здоровом теле Человечества, – это и есть последний форпост фантастики в творчестве АБС. Фантастики в самом дурном смысле этого слова. Потому что это – явная и к тому же плохо прикрытая ложь. Именно она-то и вызвала такое раздражение у Ивана Антоновича Ефремова. Мир, описанный в «Хищных вещах», ярок и страшен, и он действительно не оставляет никакой надежды. Потому что книга эта – про всю Землю.
Ведь не на курорте же, в конце концов, Опиру присвоили звание доктора. Не один же он такой! И не про один же этот курортный городок сказано: «Тоска, тоска… Какое-то проклятие на человечестве, какая-то жуткая преемственность… предаются снам, как пьянству… И снова дураков убеждают, что все хорошо…» И вовсе не в Стране Дураков гремел тот самый «хор восторженных воплей научных комментаторов», на фоне которого раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и Миловановича. Та самая, в которой педагог Криницкий и инженер Милованович писали: «современный человек в массе остается психологически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным…» Писали про человечество вообще. И, между прочим, писали не в XX веке…
Апофеоз Опирова «нео-оптимизма» – отношение НАРОДА к интелям, к тем немногим, кто хоть как-то, хотя бы варварскими средствами пытается взорвать надвигающееся на человечество сытое болото. И кого он, НАРОД, вполне грамотно идентифицирует с интеллектуалами вообще: «Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали…»
Впрочем, как легко видеть, в надвигающемся царстве неокретинизма никого вбивать в землю попросту не понадобится. Как не понадобится – прав был Ефремов – и никакой слег. Болото все сделает само. За народ. Дабы нормальная здоровая инстинктивная деятельность тех, кто вполне сойдет за людей, не искажалась и, тем паче, не подавлялась системой педагогики.
* * *
При внимательном чтении в каждой книге Стругацких можно найти ключевые слова, авторский девиз. Явный, если книга «учебная», или скрытый – в «просто книгах».
В «Хищных вещах» это грустное продолжение той самой фразы Горбовского, из «Далекой радуги», про помощь.
«Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне…»
МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК. «Улитка на склоне», «Беспокойство»
В «Беспокойстве» проблема ответственности доведена Стругацкими до своего предела. То есть – до уровня, когда задача решения не имеет. Горбовский здесь – Кассандра. Уста богов. И так же, как Кассандру в Трое, так же, как Камилла на Радуге, его никто не слышит… Казалось бы, положение Леонида Андреевича здесь, на Пандоре, подобно его положению на Радуге. Снова – неподъемная ответственность знающегои отвечающего за всех. Но на Радуге Горбовский эту ответственность берет на себя без проблем. Там – просто: этика-то человеческая. Жизнь и смерть. Задача имеет доброерешение. Здесь же (как и потом, в случае с Сикорски и Абалкиным) – иначе: нет критерия выбора. Любое решение – недоброе. Ибо ни иной разум, ни Будущее этические критерии не приемлют по определению.
Задача решения не имеет, а делать с ней что-то все-таки надо… Но писатель – всего лишь обладатель чутья на неисправности, а не ремонтник. Не терапевт, а, в лучшем случае, диагност. Так что готового решения не будет…
Есть в «Беспокойстве» и еще одно пророчество. Тоже произнесенное устами Горбовского, к тому же неоднократно. Только относится оно не к судьбам виртуального Человечества Полудня, но к судьбе книг Стругацких в реальном мире. НОВЫХ Стругацких. Авторов «Улитки на склоне», а позже – и других подобных книг. Стругацких, которые думают о смысле жизни сразу за всех людей.
А люди ведь этого не любят.
Роль и судьба Кассандры…
«Поль вдруг ощутил усталость. И какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним».
«– Ужасно, – сказал Леонид Андреевич. – …Вы понимаете, я стал тяжелым человеком. Уважаемым – да. Авторитетным – тоже да. Но без всякой приятности. А я к этому не привык, мне это больно».
* * *
Каждая книга Стругацких может быть адекватно воспринята квалифицированным читателем сама по себе, вне какого бы то ни было «внешнего» контекста. Это, собственно, абсолютное требование к любому явлению литературы. Верно, однако, и то, что многие их книги всерьез раскрываются лишь при чтении «в ряду товарищей», и, желательно, чтении неоднократном: читательская квалификация сама собой не возникает. Есть, наконец, и «абсолютный вариант» чтения – такая точка обзора, с которой можно видеть ВЕСЬ пройденный писателями путь. То есть – Собрание Сочинений. Увиденные в перспективе, книги приобретают новые свойства – позволяют по-настоящему разглядеть Авторов.
В частности, при ретроспективном взгляде можно оценить глубину пропасти, отделяющей братьев Стругацких времен «Пути на Амальтею» – и тех, кто написал «Улитку на склоне». А ведь не прошло и десяти лет…
«Я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле».
Даже если бы «Улитка» каким-то чудом появилась из-под пера другого автора и не содержала ни малейших отсылок к мирам Полудня – и тогда она читалась бы как эпитафия. Эпитафия многому в мироощущении и чаяниях шестидесятников вообще и молодых АБС в частности. В устах же самих авторов «Возвращения» такая эпитафия звучит еще и приговором.
На фоне «Улитки» даже «Солярис» Лема выглядит едва ли не светлой утопией. В самом деле: подумаешь, ну, не удалось найти позитивного контакта с иным разумом, ну, рухнуло несколько человеческих судеб… А этот вот застрелился… Наткнулось Человечество на своем великом пути на тупичок, с кем не бывает. Отступило оно на полшага – и пошло себе широкой ясной дорогой дальше, в будущее… А каково идти «дальше» после такой пощечины, какую человечество получило в повести «Улитка на склоне»?.. Нет, не так. Не «получило», а «получило бы» – если бы сие человечество хоть на долю процента состояло из таких, как Перец (и как те, кто Переца создал), – чтобы было кому эту пощечину заметить…
«Речь» Директора, услышанная Перецем в «чужой» телефонной трубке… Если вы не читали «Беспокойство» или читали, но «слегка», то в этой речи не увидите ничего, кроме абракадабры, – как и сам Перец. И не странно. Вы взяли не свою трубку. А может быть, вы и вообще не видели этого волшебного сна – по имени «Полдень»?.. Ведь беседы Горбовского с Полем Гнедых и Тойво Турненом – о смысле жизни и поступков, о путях человечества и его возможностях, о вопросах научных и вопросах моральных, – они именно и только ОТТУДА. И абсолютно несовместимы с миром, где действует Управление. Как, впрочем, и сам Леонид Андреевич… ЗДЕСЬ, в этом простом реальном мире, мире отнюдь не из сна, говорят совсем-совсем о другом, а бессмертные творения вызывают нечто вроде хихиканья. И напрасно мир этот кажется вам таким уж бессмысленным. Как Перецу – речь Директора. Да, искажен, до потери смысла покалечен исходный текст. Оригинал. ПОЛДЕНЬ. Даже на пародию не осталось. Абракадабра. Такая же, как принимаемая каждое утро деревенским слухачом «передача». Но ведь оригинал – существует… И только мы, люди, превратили его на этой планете в абракадабру…
А тому, кто все же надеется по-настоящему понять «Улитку» вне контекста, да еще и «с первого подхода» – не прочитав ни «Беспокойства», ни других «полуденных» книг АБС, – напомню слова Кима: «Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется».
Невозможность увидеть более чем одно звено в цепи, тоска по пониманию– именно это довело Переца в конце концов до того, что он сам включился в общую истерику и поверил, будто стоит «немножко послушать» – и что-то станет ясно. Но слушать «немножко» – нельзя!
Это, впрочем, вполне в духе всех перецев – сидеть над обрывом и надеяться на чудо – то ли от Леса, то ли от Директора…
Ну, а для читавшего«Беспокойство», речь Директора – одна из самых черных страниц в творчестве Стругацких. Едва ли не час отчаяния… Во всяком случае – момент осознания того, во ЧТО коммунарскую идею Полудня может превратить НАРОД. То есть – Домарощинер, говоря уж до конца честно. Даже самец Тузик, выламываясь из живого, цельного образа, вдруг, на прояснении ума, выносит авторский приговор всему этому столь же бредовому, сколь и знакомому Управлению: «Ты превратишь. Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности».
Не слишком-то хорошими выглядят шансы на реальный контакт с Лесом (читай – с Будущим), когда смотришь на нынешнее, с позволения сказать, Человечество взглядом реалиста. Видéние невольно оказывается злым и даже гротескным, стоит лишь сменить привычно-бытовой фон на нечто нетрадиционное. Страшно вообразить эту свору плохо запрограммированных обывателей из Управления в мире, где начальники вообще никому не нужны, – скажем, на благоустроенной Леониде. Какой-нибудь глуповатый самопадающий археолог – пусть и с оружием – на их фоне смотрится, как добрый гений из будущего. А ведь даже его феноменально проницательному Горбовскому приходится едва ли не насильно обезоруживать, спасая от привычно-обывательской реакции на новое. Как же отнесся бы добрейший Леонид Андреевич к Клавдию Октавиану Домарощинеру и иже с ним?!.
* * *
Как выясняется ближе к концу книги, биостанция произошла от лагерной зоны. Где и отбывал срок лесопроходец Густав. А стало быть – и великий герой Селиван… На лесоповале. Никаких намеков – все сказано напрямую. Три структуры: лагерное начальство с вохрой, научная часть (шарашка) и собственно зэки, лесоповал… Из этих-то корней и вырос весь социум: с умными дураками в картонных масках, с вечным кефиром и с высокими поэтическими мечтами о светлом будущем – с хрустальными распивочными и с писанием стихов хорошим почерком. Что ж, реализм требует полной правды… Это вам не полуденный мальчик Вадим из «Попытки к бегству»: «– …Однако же нельзя все время работать… – Нельзя, – сказал Вадим с сожалением. – Я, например, не могу. В конце концов заходишь в тупик, и приходится развлекаться».
И в завершение метафоры – безнадежные метания Переца, ставшего в одночасье монархом. В этом – горькое предвидение судьбы любых попыток «изменить структуру» бывшей зонысверху, от ума. Пессимизм строится не на эмоциях, а на холодном и полном понимании. «– История, – хрипло сказал Саул, не поднимая головы. – Ничего нельзя остановить».
Анти-Полдень здесь – вживую. Административный вектор, уходящий основанием в глубь времен…
Приговор.
* * *
Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю…
Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.








