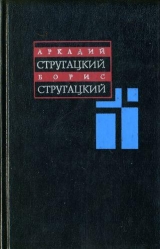
Текст книги "Том 11. Неопубликованное. Публицистика"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 59 страниц)
– Да.
– …и выводит к тем обретениям, к которым вы сами, без нее, никогда не пришли бы… Работа вас сама вывезет.
– Ты становишься не то чтобы рабом своей работы, но… у вас устанавливаются с ней специфические отношения… ты не только не можешь, ты не хочешь ее бросить, потому что прекрасно понимаешь, что если ты ее бросишь, то у тебя же ничего не останется. Это как… литературная жена… Пропал уже первый азарт, первые порывы, но уйти от нее ты не можешь, связан с ней навсегда. Твоя задача состоит только в том, чтобы сделать все как можно лучше в рамках возникшей ситуации.
– Борис Натанович, вы давно возглавляете ленинградский семинар молодых фантастов. Аркадий Натанович с несомненной радостью рассказывал мне о ваших педагогических талантах…
– Да мне просто нравится возиться с молодыми ребятами. Многие из них талантливы, и хотя я прекрасно понимаю, что научить писать никого нельзя, но помочь чем-то хочется, хотя бы избавить от повторения самых традиционных ошибок… Вообще удовлетворение этого желания – помочь – очень благотворно действует, какой-то такой витамин жизненный… Я вообще человек по натуре очень замкнутый, у меня есть либо друзья, с которыми я встречаюсь регулярно и близко, – их очень мало, либо знакомые, с которыми общаюсь крайне редко.
– Вы нуждаетесь в общении, в дружбе?
– Я нуждаюсь не столько в общении, сколько в дружбе, я бы так сказал. Я привык к друзьям, у меня всю жизнь были близкие друзья со школы. Это были очень талантливые ребята, славные, умные, все они страшно интересовались окружающим миром, все они были дьявольски любознательными, массу всего читали… мы выпендривались друг перед другом и любили друг друга… мы все время спорили о частностях, будучи согласны друг с другом в чем-то главном, и споры эти были той благотворной микросредой, которая и дала первотолчок творческий! Это продолжалось восемь лет – до окончания нами своих институтов. Потом жизнь развела, конечно, но такая юность питает очень долго, если не всегда.
– В литературе вы таких людей не встретили?
– Нет. В литературе были писатели, чье творчество явилось сильнейшим допингом, но их личного участия в нашей судьбе практически не было.
– А чье именно творчество?
– Алексей Толстой… Тогда «не было» такого писателя – Булгакова, поэтому представление о том, что такое настоящий прозрачный русский язык, мы почерпнули от Алексея Николаевича Толстого… Герберт Уэллс научил нас очень важному: что фантастика есть лирика человеческих возможностей и что писать надо о самых обыкновенных людях в необыкновенных обстоятельствах… Грэм Грин нам «объяснил» замечательную вещь, которую мы понимали интуитивно, но именно у него это увидели воочию: он показал нам, что можно и должно в произведении сочетать все элементы – психологическую прозу, и острый детективный сюжет, и выдумку, и юмор, и трагедию – и все в одной вещи. Потом мы то же самое встретили у Ивлина Во… Вот я думаю, Лена, про ваш вопрос о людях, сыгравших важную роль для меня… Менялись они, группы этих людей, менялись. Своего рода конгломерат… Когда распалась одна группа друзей, возникла другая, с которой ныне я счастлив во взаимной любви… Это очень важно – это вот та самая референтная группа, о которой любят говорить социологи. Они под этим термином понимают группу людей, чье мнение для тебя ценно. Ну, для меня это более узко: я этих людей должен обязательно любить, не только уважать.
– А что вам помогает в минуты тяжкие?
– Мне лично по-настоящему тяжко бывает только тогда, когда что-нибудь не в порядке с моими близкими людьми… Тогда мне ничего не помогает… Тогда мне может помочь только исправление ситуации.
– При этом наша жизнь очень богата на всяческие мерзости рангом поменьше… Вы достаточно хорошо закалены, да?
– Ну, нас столько били, колотили, молотили, у нас было столько чисто писательских неприятностей, что надо было либо пропадать, либо выработать некий внутренний барьер. Мы выработали, так как поняли, что все это ерунда текущих сиюминутных страстей, всегда было и будет, а нам наше дело делать надобно, вот и все.
– Я не успела расспросить Аркадия Натановича о вашем детстве, и этот вопрос остался вам…
– Ну, это замечательные страницы, как же… вот тогда закладывалось все… Вы спрашивали, какой человек сыграл главную роль в моей судьбе. Конечно, Аркадий Натанович. Он старше меня на восемь лет, я всегда смотрел на него восхищенными глазами. Кстати, он действительно был замечательным в своем роде мальчиком, любой родитель мечтал бы иметь такого сына, это я вам как отец ответственно говорю… Весь мир интересовал его – он тогда, до войны, занимался астрономией, химией, робототехникой, если можно так это назвать в то время… Черт побери, он делал роботов! Представляете?.. Он уже тогда писал – как сейчас помню… «бессмертная» повесть, кажется, называлась «Находка майора Ковалева»; и написана была аккуратнейшим почерком в двух толстых тетрадках, снабжена собственными иллюстрациями, сделанными в манере раннего Фитингофа – был такой прекрасный иллюстратор фантастики… И я, конечно, при сем присутствовал… как сопляка, меня, правда, редко допускали на это интеллектуальное пиршество. У Аркадия тоже были отличные друзья, они собирались все вместе, а я сидел где-нибудь в уголочке… все это слушал и восхищался. Но проклятая война… Если бы не война, я думаю, из Аркадия получился бы прекрасный астроном, превосходный! Он занимался уже довольно серьезной научной работой, когда началась война, делал телескопы, у него были десятки сделанных своими руками телескопов… на них он тратил все, что мама выдавала на завтраки, так как жили мы очень бедно… Перед самой войной он поступил в Дом занимательной науки, получил там громадную папку наблюдения Солнца и солнечных пятен… – тут грянула война, и все пошло к черту. Да и потом… Правда, нас разнесло время… – армия – много лет не виделись, но я всегда выпендривался всячески, писал ему письма, где бы он ни жил – в Петропавловске-Камчатском, еще где… всегда старался писать ему интересные письма с самыми новейшими сведениями из области науки, культуры… он там был оторван от всего – в военных гарнизонах… Как сейчас помню, он мне писал оттуда, что старается заниматься философией и изучает теорию отражения Тодора Павлова… Так что вот, так и пишите: вот человек, который определил мое будущее.
– Да… это было очень хорошо… Вы прекрасно рассказали об Аркадии Натановиче, а… родители ваши? Вы так грустно молчите, что я почти боюсь спрашивать…
– Да невесело это все и грустно… Мама наша была совершенно исключительный человек… героический, все мои представления о женщине – от нее, и вытащила она меня в блокаду, когда я уже умирал… А отца я не помню совершенно.
– Он погиб в 37-м?
– Нет… в 37-м его исключили из партии. Его спасло то, что он поехал в Москву добиваться реабилитации, его, конечно, должны были посадить, как мы теперь понимаем… через два дня его бы посадили, но не оказалось на месте – и это спасло… Он пошел в ополчение в 1941 году… (в гражданскую войну был комиссаром, сохранились фотографии, где сам он в буденовке, все с маузерами)… Но порок сердца не давал ему возможности воевать по-настоящему, его комиссовали, он взял Аркашку и уехал догонять Публичную библиотеку – был ее сотрудником… но не доехал – умер по дороге, а Аркашка выжил – чудом в общем-то… Мы недавно сидели вчетвером – Аркадий, Ленка, его жена, Адочка моя и я – и прикидывали: как вообще могло случиться, что мы вот… сидим все вместе?! Пришли к выводу, что это совершенно невероятное, вообще говоря, стечение обстоятельств – конечно, мы все должны были погибнуть. Я должен был умереть в блокаду – это было ежу ясно, я умирал, мама мне об этом рассказывала… меня спасла соседка, у которой каким-то чудом оказался бактериофаг… Мне дали ложку этого лекарства, и я выжил, как видите.
…Аркадий тоже должен был погибнуть, конечно, – весь выпуск его минометной школы был отправлен на Курскую дугу, и никого не осталось в живых. Его буквально за две недели до этих событий откомандировали в Куйбышев на курсы военных переводчиков. В той теплушке, в которой ехали отец и Аркадий, – умерли все, кроме брата. Потому что это были эвакуированные из Ленинграда, которых сначала переправили по Дороге жизни, потом от пуза накормили…
– Разве так можно?
– Нельзя, конечно, но тогда этого никто не знал. Начался кровавый понос… что-то жуткое… многие сразу умирали. Потом живых посадили в ледяной вагон и – до Вологды без остановки, без врачебного внимания… Вот так. Аркадий был, конечно, чрезвычайно крепким молодым парнем – он выжил тогда один среди всех.
…Ленка Аркашина, безусловно, должна была погибнуть – она была дочерью нашего посольского работника в Китае, попала в самый разгар японского наступления на Шанхай, их эвакуировали оттуда на каких-то немыслимых плавсредствах, сверху бомбила авиация, как они выбрались живыми, непонятно до сих пор.
…Ада, моя жена, попала под Ставрополем под немецкую бомбежку, был сброшен десант, все беженцы рассыпались по полю… а на них пошли немецкие танки! Они остались в оккупации, помирали там от голода, и всю ее семью должны были расстрелять как семью советского офицера. Все списки были уже представлены… их спасли только партизаны.
…Как мы все уцелели? И к тому же встретились вчетвером? Это чудо.
Так что жизнь для нас – чудо четырежды, и ко всем ее радостям, трудностям и даже неприятностям мы относимся с уважением, жизнь не уважать нельзя.
…Что для меня наше писание? Разговор. Диалог. Непрекращающееся дружеское общение… Спасибо всем, кто внимателен к нам.
С Аркадием и Борисом Стругацкими беседовала Елена Михайлова
ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ [29]29ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. – М.: Текст, 1993. (Первопубликация: Блокнот агитатора (Л.). – 1987. – N 14.)
[Закрыть]
(Интервью с Б. Стругацким)
– Понедельник, как известно из вашей повести, начинается в субботу. И будущее начинается сегодня. Это – дети. Какими мы их вырастим, таково и грядущее… В книгах «Полдень, XXII век», «Далекая Радуга», «Стажеры» потомки, отдаленные от нас веками, избавлены от комплекса отрицательных качеств, который в каждом из нас еще есть. Каким видится вам путь к Человеку Будущего?
– Мне кажется сейчас, что единственный путь – это создание Теории Воспитания Человека. Должна быть выработана методика превращения человеческого младенца, несмышленыша в существо, разумное в самом высоком и широком смысле этого слова. Человечество должно научиться безошибочно (или хотя бы почти безошибочно) воспитывать в своих детях доброту, честность, благородство, душевную щедрость.
Мне очень хочется верить, что такая теория и такая методика будут рано или поздно открыты и сформулированы. Ведь существует же сейчас почти безотказная методика превращения человека в боевой механизм, в машину уничтожения себе подобных. Рейнджеры. «Дикие гуси». Пресловутые «береты» всех мастей… Значит, воспитывать в человеке жестокость и беспощадность земляне уже научились. И поставили свою планету на грань гибели. Не пора ли все свои силы бросить на отыскание алгоритма воспитания Доброты и Благородства, алгоритма, столь же безотказного и эффективного?
– Допустим, выработали искомую методику, в человеке воспитали доброту, и с детства он добр. Но вот наступает переходный возраст, когда подросток хочет самоутвердиться тем или иным образом…
– Это очень важный момент. Это фундаментальная проблема, стоящая перед Теорией Воспитания. Как найти в молодом человеке его талант, его умение делать что-то лучше других. Такой талант есть в каждом здоровом человеке, если иметь в виду все возможные сферы приложения рук, ума или души. Талант портняжить или слесарить, талант решать абстрактные задачи, просто талант к сопереживанию, равно необходимый и медработникам, и писателям.
Подросток мучается, шарахается из стороны в сторону, всячески изгаляется и выдрючивается прежде всего потому, что им владеет почти инстинктивное желание самоутвердиться, выделиться, стать самостоятельной и совершенно особенной личностью, но свой главный талант он, как правило, обнаружить в себе сам, без посторонней помощи, не способен. Вот он и ломится в открытые двери, толпой валит по проторенным дорожкам, хватает то, что ближе всего лежит: поярче и помоднее вырядиться; погромче заорать – желательно с применением технических средств; похлеще выразиться… Не в силах обнаружить в себе талант, он стремится заменить его каким-нибудь блестящим, ярко раскрашенным «протезом».
Теория Воспитания должна уметь находить талант в подростке и взращивать этот талант наиболее эффективным и естественным способом. Заметьте: не штамповать из живых детей неких биороботов с заданными функциями, а всячески способствовать тому, чтобы человек нашел себя, свое главное умение, свое призвание.
И прежде всего надо будет научиться находить в человеке талант Учителя, самый важный из талантов, ибо по-настоящему широко Теория Воспитания начнет развиваться только после появления мощного социального слоя Учителей.
– Предположим, уже существует Теория Воспитания, уже появился слой Учителей, умеющих найти в каждом только ему присущий талант. Всякий ли труд при этом найдет своих поклонников?
– Иначе говоря: как быть с неприятными, традиционно малоаппетитными профессиями? Два обстоятельства внушают определенный оптимизм в этом вопросе. Во-первых, человеческие пристрастия и склонности воистину безграничны. А во-вторых, человек всегда делает хорошо ту работу, которая у него «идет», и чем лучше у него получается, тем с большим удовольствием и самоотдачей он трудится.
Я ничего не знаю о труде ассенизаторов, но знаю кое-что о труде патологоанатомов. Знаю, что существуют знаменитые мастера и великие энтузиасты этой страшноватой даже (с точки зрения подавляющего большинства) профессии.
Источник неприятных коллизий и даже трагедий мне видится, скорее, в другом. К сожалению, частенько бывает так, что человек с особой страстью стремится применить себя как раз в той области, где никаких способностей у него нет. Таковы «графоманы» всех видов – актеры, вообразившие себя писателями, инженеры, ударившиеся вдруг в самую абстрактную математику, географы, занявшиеся изобретательством, и так далее. Имя им легион, и судьба их воистину печальна.
Это – тоже работа для Теории Воспитания: направить устремления человека в русло доступного, помочь ему установить гармонию между желаниями и возможностями, научить его трезво взвешивать свои обстоятельства и не превращать себя в мономана.
– Утверждаться всегда сложнее, чем самоутверждаться. Себя обманывать – это и проще, и приятней. Сначала, в подростковом возрасте, ярко раскрашенными «протезами», как вы сказали. В более зрелом возрасте – наличием денег, квартиры, машины. Слово «престижность» давно приобрело отнюдь не уничижительный оттенок. Не потому ли, что это проще всего, столь обширную массу людей охватил «вещизм», страсть к накопительству?
– По этому поводу у нас в «Понедельнике…» есть очень даже неплохие слова о том, что для развития духовных способностей нужен талант, а вот для развития материальных потребностей никакого таланта не нужно, они развиваются спонтанно. Получать побольше, работая поменьше, – это, к сожалению, заложено в нашей обезьяньей природе. Вот с чем надо бороться до тех пор, пока не произойдет перестройка в сознании, и мы станем уважать человека, исходя из того, сколько он отдал, а не сколько и чего потребил.
– Пока же произошла несколько иная перестройка в сознании – человек труда в некотором роде перестал быть «маяком», если можно так выразиться. Не потому ли, что понятие «труд» было в последние годы, десятилетия затаскано в многочисленных лозунгах, которые, по строгому счету, – ни уму, ни сердцу?
– Давайте не будем легкомысленны и поверхностны, когда говорим о труде. Труд – это серьезно. И труд – это, прежде всего, тяжело. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Десятки веков миновали, но, по существу, нечего пока нам добавить к этой суровой формуле. Легкого труда вообще не бывает, если, разумеется, человек работает добросовестно. Труд может приносить и радость, и деньги. Труд может приносить только одни деньги. Но всегда он – в поте лица, всегда изматывает – либо физически, либо духовно, либо и то и другое вместе.
Разумеется, не одна лишь необходимость снискивать себе хлеб насущный является движителем нашей трудовой деятельности.
Скажем, энтузиазм. Прекрасный, благороднейший, достойный всяческого восхищения движитель! Но он годится лишь в экстремальных ситуациях, и энергия его быстро иссякает – так уж, видимо, устроен человек.
Творческое горение – идеальный движитель, и благородный, и мощный, и долгодействующий. Он замечателен еще и тем, что творческий труд служит сам по себе наградой творцу, ибо творчество дарует высокое наслаждение, с которым не многие, так сказать, материальные наслаждения могут сравниться. Но, к сожалению, этот движитель встречается сравнительно редко. Мы не умеем обнаруживать в людях творческую жилку, она сплошь и рядом остается втуне, да и технологический уровень нашего общества таков, что творческий труд доступен лишь десяткам из тысяч.
Вот и оказывается, что наиболее распространенным движителем в наше время являются самые прозаические деньги, с помощью которых человек приобретает необходимые ему материальные и духовные блага. И для большинства людей труд сам по себе не есть источник ни радости, ни вдохновения, ни наслаждения – это просто средство для получения материальных и духовных благ.
Поэтому не будем витать в облаках. Будем исходить из того, что еще много десятилетий главным стимулом для хорошей работы будет хорошая зарплата. И если мы хотим, чтобы из человека вырос трудяга, а не разгильдяй и нахлебник, надо создать такую ситуацию, чтобы работать было во всех отношениях выгоднее, чем не работать, чтобы хороший работник зарабатывал бы в десять, двадцать, сто раз лучше, чем плохой (а не на двадцать процентов, как сейчас), и чтобы не на словах, а на деле реализовался бы прекрасный принцип: «Любой труд хорош и почетен, если он нужен обществу». Престижна должна быть не профессия, а квалификация. Престижно быть Мастером, а в какой профессии – это не так уж и важно.
– Собственно, изменения, происходящие сегодня в нашей экономике и в повседневной жизни, как раз и направлены на это. Не так ли? Но это сегодня. А в будущем!
– Нынешнее состояние нашей экономики наводит на мысль о человеке, который живет и движется, управляясь одними лишь прямыми командами своей центральной нервной системы. Чтобы взять со стола ложку, ему приходится действовать примерно так: «Внимание! Рука у меня опущена, значит, прежде всего ее надлежит согнуть в локтевом суставе. Для этого надлежит сократить плечевую мышцу, одновременно расслабляя трехглавую мышцу… Плечевую кость закрепить! Напрячь мышцы, идущие от лопатки к плечевой кости и от грудной клетки – к лопатке! Что-то плохо дело движется… А! Кровеносная система, а ну-ка – поддать свежей крови в плечевую мышцу! Так, хорошо… Стоп-стоп-стоп! Куда тебя понесло – выше головы! Назад!..» И так далее.
Разумеется, здоровый организм действует не так. Мозг отдает только приказы самого общего вида, а все частности берут на себя вегетативная нервная система и подкорка, действующие автоматически, без участия нашего сознания.
Точно так же разумно устроенная экономика должна представлять собою самоорганизующуюся систему, сплетение прямых и обратных связей, гигантский автоматически работающий механизм, сам себя настраивающий и отлаживающий, нацеленный на производство оптимально необходимого количества материальных и духовных благ. Каждый элемент этого механизма (будь то отдельный производственник, или отдельный завод, или отрасль) должен управляться немногими ясными принципами. Например: «Хорошая работа – это работа, удовлетворяющая некую общественную потребность». Или: «Хорошая работа очень хорошо оплачивается, плохая работа наказывается, вплоть до увольнения». И т. д.
Надо ясно отдавать себе отчет в том, что при таком порядке вещей неизбежно появление слоя людей, которые не могут (алкоголики, наркоманы) или не желают (из лени, скажем, или в силу очень малых потребностей своих) работать с полной отдачей. Они будут составлять небольшую долю самодеятельного населения, но это будут сотни и сотни тысяч. На общем социальном фоне они будут выглядеть, мягко выражаясь, странно. Это будет проблема! Однако ясно, что социальная справедливость (в современном понимании этого слова) потребует самым решительным образом реализации классического принципа: «Не работающий да не ест!»
– В повести «Хищные вещи века», написанной братьями Стругацкими более двадцати лет назад, изображено некое западное общество, в котором, судя по обилию материальных благ, экономика «работает как часы». Тем не менее общество это, мягко говоря, весьма далеко от совершенства. Маловнятные группы различного толка, признающие закон кулака, алкоголизм, наркомания…
– С детства нам объясняли, что алкоголизм и наркомания – следствие нищеты, забитости и невежества людей. Вероятно, когда-то так и было. Двадцатый век среди прочих сюрпризов и парадоксов преподнес нам и этот: уровень жизни растет во всех своих параметрах, и одновременно с ним растут алкоголизм, наркомания, лавина преступности и самоубийств. Это – явление глобальное, и единого объяснения этому пока нет. Я лично думаю, что наркомания всех видов – это действительно следствие нищеты, но не материальной, а духовной. Нищие духом люди, которых не научили духовной жизни, люди, которым нестерпимо скучно, люди, которые ничего не умеют и ничего не хотят, – вот тот слой, в котором растет и размножается вирус наркомании. А рост материального благосостояния не уменьшает, а увеличивает этот слой, и, если мы хотим разорвать порочный круг, мы снова возвращаемся к Теории Воспитания как некой социальной панацее.
Интервью взял А. Измайлов








