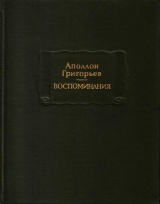
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
В романтизме, получившем сложное наследие XVIII в., были две ипостаси: открытость всему миру, всем векам и народам, бездомность, доходящая иногда до всеядности и до космополитических деклараций, а с другой стороны – тяга к родной старине, народным преданиям, патриотический пафос. У Григорьева формировались некоторые (только некоторые!) свойства и от первой ипостаси: это, во-первых, его европейская образованность, внимание и уважение к «чужим» культурам, а во-вторых, бродяжническая натура, «охота к перемене мест» при малейших кризисных ситуациях. Но при этом главное место в мировоззрении и в чувствах писателя занимала все-таки вторая ипостась, любовь и интерес к своей национально-народной культуре, к ее духовным и материальным памятникам. С какой живой заинтересованностью и со знанием описывает Григорьев Москву, особенно родное Замоскворечье! [206]206
В частных письмах Григорьев был еще более откровенным в выражении своей любви к Москве. См., например, его письмо из Флоренции к Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г.: «Мне представлялись летние монастырские праздники моей великой, поэтической и вместе простодушной Москвы, ее крестные ходы и проч. – все, чем так немногие умеют у нас дорожить и что на самом деле полно истинной, свежей поэзии, чему, как Вы знаете, я отдавался всегда со всем увлечением моего мужицкогосердца… Все это вереницей пронеслось в моей памяти: явственно вырисовывались то Новинское, то трактир, именуемый „Волчья долина“, у бедного, старого, ни за что ни про что разрушенного Каменного моста, где я, Островский, Кидошников – все трое мертвецки пьяные, но чистые сердцем, целовались и пили с фабричными, то Симоновская гора, усеянная народом в ясное безоблачное утро, и опять братство внутреннее, душевное с этим святым, благодушным, поэтическим народом» (Материалы, с. 218–219; искажения и пропуски в тексте исправлены по подлиннику, хранящемуся в ИРЛИ).
[Закрыть]В его стихотворениях, в письмах мы найдем не столь обширные, но тоже любовные описания Ярославля, Нижнего Новгорода и, наоборот, сетование на Оренбург как на «искусственный» город, без старинных соборов, древних икон, без традиций, город без истории (романтик забывал, что когда-нибудь и здания XVIII–XIX вв. станут историей!).
Григорьева очень интересовали и узкосемейные традиции, как он выражался, – «дело физиологическое, родовое, семейное»; ему была присуща пушкинская «любовь к родному пепелищу»: трогательно он описывает свои неоднократные походы к дому Козина на Тверской, где он родился и провел раннее детство (однако впоследствии, в трудную денежную пору, Григорьев не задумываясь продал свой дом на Малой Полянке: «бродяга» взял верх над традиционалистом…).
При этом писателю совершенно чужда «семейственность», несправедливое пристрастие к «своим» и т. п. Наоборот, он стремится как можно объективнее и справедливее обрисовать своих родителей, с противоречиями, с «про» и «контра»: не скрывает, а даже скорее подчеркивает пошловатую приземленность отца, бранчливость и деспотизм матери, – но не забывает отметить, характеризуя отца, и ум его, и доброту, и образованность. Эта умеренность, объективность особенно выигрывают при сравнении с тем очень и очень негативно пристрастным отношением сына к отцу в годы, когда писались воспоминания; вот, например, отрывок из письма Григорьева к М. П. Погодину от 16–17 сентября 1861 г.: «Отца моего я не мог никогда (с тех пор, как только пробудилось во мне сознание, а оно пробудилось очень рано) уважать, ибо, к собственному ужасу, видел в нем постоянный грубый эгоизм и полнейшее отсутствие сердца – под внешнею добротою, т. е. слабостью, и миролюбием, т. е. гнусною ложью для соблюдения худого мира. Сначала (еще не очень давно – лет 18 назад) – деспот до зверства; потом игрушка своих людей, раб первого встречного, он был бы постоянно моим рабом, если бы мне постоянно везло счастье». [207]207
Материалы, с. 276; текст исправлен по списку ошибок: Егоров, с. 351.
[Закрыть]
Относительная полнота и объективность изображения событий и людей в воспоминаниях по сравнению с частными письмами объясняется прежде всего стремлением Григорьева к исторической справедливости: ведь в воспоминаниях он описывал отца таким, каков он был не 18, а 30–35 лет назад, да еще в какой-то степени приноравливаясь к своим собственным впечатлениям детства, лишь корректируя их взрослым взглядом.
Но не было ли здесь еще и печатного публичного приукрашивания, нежелания выносить сор из избы? Ответ на этот вопрос дать непросто. Значительно проще, скажем, было бы ответить на подобный вопрос но поводу мемуаров А. А. Фета: там столько замалчиваний и переакцентировок при описании родителей, что нет сомнений в специальном замысле Фета утаить от читателя ряд фактов, а некоторые и прямо подать иначе, чем это было в действительности. Думается, что сознательного искажения у Григорьева не было; Фет, которому при характеристике родителей своего друга не было никаких резонов отходить от реальных наблюдений, описывает его отца приблизительно теми же красками, что и собственный сын; впрочем, еще менее привлекательной, чем в сыновних воспоминаниях, выглядит у Фета мать Григорьева, но здесь могло сказаться неосознанное, корректирующее негативные эмоции чувство сына, а не сознательное обеление, приукрашивание.
Единственное, в чем можно бы упрекнуть Григорьева, – это в умолчании о всех трудностях, которые стояли перед его родителями при женитьбе, и о многолетних неприятностях их «незаконного» сына (ведь потомственный дворянин Александр Иванович Григорьев к ужасу родителей полюбил дочь крепостного кучера; обвенчаться с нею ему удалось уже после рождения сына Аполлона, который из-за этого чуть не стал крепостным; с помощью хитрых уловок удалось его зачислить московским мещанином, приписав тем самым хотя и не к крепостным душам, но тоже к податному сословию, со всеми будущими ограничениями в правах, с опасностью николаевской солдатчины и т. д.). Вкратце и не без сочувствия, видя в этой ситуации очень близкую к своей, описал происхождение Григорьева Фет, но сам Григорьев не сказал о ней ни слова. В его жизни, правда, не было тех невыносимых нравственных страданий, которыми был обуреваем Фет: похоже, что Григорьев довольно спокойно относился к своему «незаконному» рождению и к мещанскому званию (скорее даже гордился им: оно, видимо, давало ему право неоднократно заявлять о своей кровной связи с народом), хотя, естественно, и не отказался от личного дворянства, которое он получил, дослужившись в 1850 г. до чина титулярного советника.
О своих податно-мещанских неудобствах Григорьев скорее всего умолчал по равнодушию к ним, а о неравном и позднем браке родителей – вероятно, по деликатности, не желая бросать на них (а не на себя!) тень.
В целом же Григорьев бесстрашен и откровенен при изображении своего детства: он не стесняется показывать не только пошловатостъ отца и деспотизм матери, но и свои «грехи»: как его, подобно Ильюше Обломову, до тринадцати лет одевали – обували, как отрицательно влияла на него распущенная дворня, как он ленился в учебе… Свою леность и якобы туговатость ума Григорьев даже преувеличивал: все мемуаристы говорят об удивительной памяти его, Фет подчеркивал еще усидчивость, старательность Григорьева-студента, быструю усваиваемость им материала (да мы это можем документально подтвердить: в его университетском аттестате стоят одни пятерки). Правда, Григорьев говорит не о студенчестве, а о раннем детстве, но все равно чувствуется преувеличение своих недостатков.
Вообще в воспоминаниях Григорьева, скорее в духе современной ему реалистической литературы, чем в духе романтической традиции, очень много будничного, бытового, случайного, хотя и овеянного духовными стремлениями, наполненного широкими обобщениями. Герцен создавал «Былое и думы», замышляя показать связь с историей человека, случайнооказавшегося на ее дороге; но фактически в книге не так много случайного: Герцен сознательно типизировал, отбрасывал ненужные детали, некоторые неприятные черты и события; автор как бы шел от случайного к типическому. Григорьев, наоборот, в начале своей книги декларирует объективность и исторически-эпохальную типизацию, но затем довольно часто уклоняется в сторону личного, случайного, нетипического. И если Герцен сознательно создавал «Былое и думы» как произведение о становлении положительного героя современности, то Григорьев так же сознательно дегероизировал свое «я» – в этом существенное различие двух мемуарных книг.
Фет и С. Соловьев никогда не собирались писать воспоминания героического плана, но в их мемуарах заметна тенденция избегать ситуаций, где главный персонаж попадал бы в унизительные положения; если же он оказывался в разных переделках, приводивших к неприятным для него последствиям, то тут же назывались и виновники, сам же автор нисколько не был ответственным за случившееся. Зато еще один однокашник Григорьева – Я. П. Полонский может занять в кругу друзей первое место по удивительно откровенному, совершенно безамбициозному изложению не только радостных событий, но и весьма обидных для автора. Вот, например, отрывок из его воспоминаний: «Раз в университете встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: – „Ты сомневаешься?“ – „Да“ – отвечал я. – „И ты страдаешь?“ – „Нет“. – „Ну так ты глуп“, – промолвил он и отошел в сторону. Это нисколько меня не обидело. Я был искренен и сказал правду; мои сомнения были еще не настолько глубоки и сознательны, чтоб доводить меня до отчаяния». [208]208
Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. – «Ежемесячные литературные приложения» к «Ниве», 1898, № 12, стб. 661–662.
[Закрыть]
Что, однако, сближает воспоминания Григорьева с «Былым и думами» – это своеобразная «вершинность», изображение лишь наиболее ярких эпизодов и черт, запомнившихся авторам. Оба выступают как художники, рисующие картины крупными мазками, а не как ученые, стремящиеся протокольно зафиксировать как можно больше фактов. Нужно учесть, что такого рода «протокольность» – вовсе не привилегия реальных ученых, хотя для них это и характерно: наиболее показательны здесь воспоминания старшего, по сравнению с Григорьевым, выпускника Московского университета Ф. И. Буслаева и младшего – Б. Н. Чичерина, с чуть ли не дневниковым изложением событий, с подробными характеристиками школьных и университетских учителей, товарищей, знакомых, со включением реальных писем и т. п. Но и Фет, весьма далекий от науки, в своих обширных мемуарах тоже выступает как скрупулезный ученый, стремясь не забыть даже незначительных встреч, разговоров, поездок, не говоря уже об обильной россыпи писем, впервые публиковавшихся, в том числе писем Л. Толстого и Тургенева. Даже Полонский, при явно ослабевшей в старости памяти, старается включить в воспоминания все, что он помнит из студенческих лет. Видимо, при всем разнообразии мемуаров их можно делить на две группы: близкие к дневникам, к историческим документам – и художественно обобщенные, с нарочитой выборочностью, с хронологической и сюжетной свободой. К последним принадлежит большинство воспоминаний крупных писателей, и русских и зарубежных.
Своеобразие художественен «краткости», «вершинности» воспоминаний Григорьева заключается в том, что, погруженный в мир литературных ассоциаций, автор часто мыслит уже созданными известными образами-характерами и положениями, поэтому, когда речь заходит о каком-либо персонаже, напоминающем разработанный в литературе тип, Григорьев ограничивается краткой отсылкой. Так, вместо подробной характеристики своего деда он отмечает его сходство со старшим Багровым из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова; описание дворни сводится к отождествлению с подобными описаниями в «Сне Обломова» и в «Былом и думах»; чтобы объяснить читателям сущность своего отца, «благоразумного» образованного обывателя декабристской эпохи, автор ссылается на «Дневник студента» С. П. Жихарева. Григорьев ориентируется на литературно грамотного читателя: «…общего знания хода истории литератур и значения литературных периодов я имею основания требовать от того, кому благоугодно будет разрезать эти страницы» (с. 70), – поэтому и при создании образов, и при чисто историко-литературных характеристиках ограничивается намеками и отсылками.
4
Теоретики-лингвисты изучают живую непринужденную речь как своеобразную лабораторию, где неосознанно формируются оригинальные грамматические обороты, многие из которых в будущем приобретут статут нормы, закона. Подобные наблюдения проводятся и литературоведами: письма, дневники, воспоминания писателей тоже часто оказываются лабораторией для будущих художественных открытий, иногда даже для будущих поколений, а не для себя. Выше в связи с повестями 40-х гг. мы уже касались некоторых художественных и идеологических черт, как бы предугаданных Григорьевым, но развитых другими писателями. А вся автобиографическая проза Григорьева, от юношеских «Листков из рукописи…» до предсмертных воспоминаний, может быть рассмотрена как черновая лаборатория русской литературы XIX в. в плане психологизма.
«Обостренный интерес к душевным противоречиям и к подробностям психического процесса – два существеннейших признака психологизма XIX века», – справедливо указывает современный исследователь. [209]209
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1977, с. 254.
[Закрыть]Далее Л. Я. Гинзбург отмечает, что Герцен в «Былом и думах» далек и от первого и от второго аспектов при характеристике персонажей: «Герцен остается при суммарном изображении душевных состояний не потому, чтобы он не знал, не понимал возможности их детализации и усложнения, но потому, что не это было ему нужно». [210]210
Там же.
[Закрыть]
С таким заключением можно бы и поспорить; чрезвычайно ведь трудно утверждать применительно к какому-либо деятелю, почему именно он чего-то не создал: потому, что ему это не нужно, или потому, что не мог! Но по крайней мере сам факт отсутствия«детализации и усложнения» налицо. Очевидно, что для углубленного психологического анализа нужно очень много благоприятных предпосылок: и культурная традиция, и внимание к личности, и атмосфера сосредоточенного наблюдения за внутренним миром личности, и многое другое. При наличии отдельных предпосылок могли совершаться удивительно яркие прорывы, которые, однако, не становились всеобщим достоянием (такими прорывами в литературе XVIII в., например, были психологические художественные открытия Руссо и Дидро). Приведем сходный пример из естественной истории: до появления человека было в животном мире немало попыток прорваться к разумной жизни, но они всегда затухали из-за ограниченности благоприятных обстоятельств (муравьи и пчелы не смогли из-за размеров мозга у насекомых, дельфины – из-за недостатков водной среды по сравнению с земной, и т. д.).
В истории русской литературы мы знаем гениальный рывок; к психологизму, на гребне «личностной» волны позднего романтизма, – в «Герое нашего времени» Лермонтова, рывок, который потом десять лет не был поддержан ведущими писателями, так как 40-е гг. оказались обстоятельственно нужными прежде всего для становления в литературе обобщенно-социальных типов, для развития навыков изображать человека как продукт среды. И лишь подспудно, зная уже то, что будет потом, – у Толстого и Достоевского, мы извлекаем черты глубинного психологического анализа у Гоголя, Достоевского, Тургенева и других писателей 40-х гг. Художественные произведения Григорьева, созданные на мощной «лермонтовской» волне, хотя и на ее спаде, тоже не могли не поддаться новшеству – психологизму. «Шеллингианской» натуре Григорьева было чуждо чувство процесса, становления, хронологического развитая, поэтому данная ипостась психологизма XIX в. прошла совершенно мимо него, зато изображение душевной напряженности, конфликтности, противоречивости всегда его привлекало, и в стихах его и в прозе нашло заметное отражение. В том числе и в автобиографической прозе.
Начиная с первых строк «Листков из рукописи…», где герой говорит заведомую неправду и тут же анализирует причину обмана, и кончая многими яркими страницами основной книги воспоминаний, Григорьев постоянно стремится показать сплетение в душе противоречивых чувств и помышлений, их нерасторжимую запутанность. Ср. в его цикле стихотворений «Элегии» (1846), где это стремление особенно сгущено:
Только тому я рад, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе… Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою.
Недаром он так любил оксюмороны и вообще контрастные сочетания противоположных понятий: «Руки ваши горячи – а сердце холодно», «диковинно-типическое Замоскворечье», «О! эти муки и боли души – как они были отравительно сладки!». Немало подобных оксюморонов и противопоставлений в поэзии Григорьева.
Стиль воспоминаний напряжен, запутан (некоторые «задыхающиеся» периоды растягиваются у Григорьева до большого абзаца, почти на целую страницу) и тоже очень контрастен; Григорьев любил, как и раньше, сочетать высокие философские или литературные размышления с самыми «низменными» житейскими выражениями: «передовой (Н. А. Полевой, – Б. Е.) скоро „сбрендил“ до непонимания высшей сферы душкинского развития» (с. 49); «Из юношей, веривших в упомянутую песню, образовались или подьячие-пивогрызы, или лекаря-взяточники, или просто нюни и пьянюги» (с. 59).
Очень много перенесено в воспоминания любимых фраз и терминов из критических работ: «…точнее и цветнее сказать…» (с. 27); «Вальтер Скотт некоторым образом сделался, Анна Радклиф родилась» (с. 69; здесь звучит дорогая Григорьеву мысль о разделении произведений на естественно рожденные и искусственно сделанные). Григорьев до смерти не мог забыть, как его бывший друг Я. П. Полонский не пропустил в печать фразу из рецензии «Русский народ переживает двойную формулу» – из-за ее невразумительности, [211]211
См. письмо Я. П. Полонского к А. А. Фету от ноября 1889 г. – Материалы, с 340.
[Закрыть]– и все-таки хоть в воспоминания ее вставил (в другом истолковании): «Аркадия единственно возможна под двумя формулами…» (с. 56). Интересны также переклички некоторых особенностей мемуарного стиля с аналогичными оборотами в григорьевской поэзии. В поэме «Вверх по Волге» мы находим сходные конструкции (например, ср. в поэме: «И он частенько пантеист, И пантеист весьма во многом» – и в «Скитальчествах»: «…был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный», с. 29), общие выражения («Я не был в городе твоем… Его черт три года искал» – и «…одного из тех городов, которых черт „три года, искал“», с. 31), подобно тому, как многие фразы «Листков из рукописи…» (например, «Я и она осуждены равно») были поэтически развернуты в стихотворениях начала 40-х гг. [212]212
В уже упоминавшейся статье В. В. Кудасовой подчеркнут еще один аспект взаимосвязи прозы и поэзии Григорьева: проза может быть рассмотрена как «переходный мост между стихами и поэмами» (Кудасова В. В. Проза Ап. Григорьева 40-х годов XIX века, с. 31).
[Закрыть]
Вообще автобиографическая проза, критические статьи и поэзия составляют у Григорьева три краеугольных камня его творчества, находясь в своеобразных взаимосвязях между собою. Таким образом, его проза занимает особое место и в общем наследии русской культуры, и, в частности, в литературном наследии самого писателя, сыгравшего в русской культуре и литературе немаловажную роль, – потому григорьевская проза и представляет интерес для нашего современного читателя. [213]213
Широкий культурологический аспект писательского автобиографизма становится в последние годы предметом специального изучения. Например, в Польше в 1973 г. была проведена «биографическая» конференция, материалы которой опубликованы в интересном сборнике: Biografia – geografia – kultura literacka. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1975.
[Закрыть]
Г. Федоров. Новые материалы о ранних годах жизни Ап. Григорьева
Нами недавно обнаружены в архивах Москвы новые материалы об Ап. Григорьеве, его семье и о близких ему людях.
Окончательно устанавливаются происхождение и основные вехи жизненного пути деда Григорьева:
«СВИДЕТЕЛЬСТВО
По Указу Его Императорского Величества дано сие из московской Управы благочиния надворному советнику Ивану Григорьеву сыну Григорьеву по поданному от него доношению и по учиненному в управе определению для представления к получению на дворянское достоинство грамоты в том, что он Григорьев как по послужному списку значит: в службу вступил из обер-офицерских детей в Волоколамскую воеводскую канцелярию копеистом 770-го июля 25-го, по Указу Московской губернской канцелярии взят в оную 777-го октября 10-го. Подканцеляристом 778-го марта 30-го. Канцеляристом 780-го декабря 15-го. Регистратором 782-го октября 4-го. По уничтожении оной (Волоколамской канцелярии, – Г. Ф.) в оставшемся) для решения дел в губернском департаменте правил протоколистскую и секретарскую должность, из регистраторов по Указу Правительствующего Сената награжден чином коллегского секретаря 784-го октября 4-го, по предложению его сиятельства бывшего московского губернатора, что ныне сенатора, графа Федора Андреевича Остермана посылай был в город Серпухов для производства дел в комиссию о неуказной вина продаже в 1779-м, в 789-м сентября 10-го командирован был в учрежденную по именному Ее императорского Величества Указу к клеймению иностранных товаров комиссию и был по 790-й год, которая о награждении ево за рачительность представила бывшему тогда главнокомандующему Петру Дмитриевичу Еропкину, а 15-го февраля 790-го года горрдской магистрат доносил правлению, что он комиссиею усмотрен рачительным и знающим в делах, а тем более в исправлении возложенной на него должности похваляет, за что в том же году по именному Указу имел щастие с протчими чиновниками чрез Московское губернское правление получить благоволение, переведен в Стат полиции (Управу благочиния, – Г. Ф.) 791-го августа 5-го, где. произведен коллегским асессором 796-го декабря 31-го. 1801-го года удостоился получить от Его Императорского Величества табакерку и медаль третьего сорта, а ныне находится при сей Управе препорученной денежной казне за казначея при немалой тысячной сумме, надворным советником 1802-го декабря 31-го, в штрафах и под судом не бывал и аттестовался к продолжению службы способен и к повышению чина достоин, женат, детей имеет: сына Александра 15-ти, обучается в Императорском университете, дочерей Катерину и Александру; от роду ему Григорьеву 41-й год, за собой имеет дворовых людей 12-ть душ. Декабря 15 дня 1803-го года»
(ЦГИА г. Москвы, ф. 4, оп. 10, д. 544, л. 2–3).
Явившийся в 1777 г. в «нагольном тулупе», как замечает внук, «составлять себе фортуну», И. Г. Григорьев, вероятно, жил некоторое время в одном из домов причта церкви Великомученика Никиты, что в Старой Басманной. Дома церковнослужителей стояли на углу Старой Басманной по проезду к Денисовским баням, как тогда назывался Гороховский переулок. В угловом доме по переулку (ныне № 2) жил дьякон, в следующем (№ 4) – священник.
В 1770-80-х гг. протоиереем недавно выстроенной и славящейся своею величественной красотой церкви знатного прихода был «Иоанн Иоаннов»; как выясняется из архивных документов [214]214
ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 540, (1785), л. 261.
[Закрыть]– дядя И. Г. Григорьева. Таким образом подтверждаются слова А. Григорьева о «родстве из духовенства по мужской линии».
В приходе церкви Великомученика Никиты, в доме дяди (Гороховский пер., д. 4) зарождалась семья И. Г. Григорьева. В этом приходе он венчался, причем жена его была не из рода дворян Скобельцыных (см.: Материалы, с. 315), а «уволенная вечно на волю дворовая девица Марина Николаевна». [215]215
Там же, оп. 745, ед. хр. 53 (1787), л. 87 об.
[Закрыть]Здесь же в доме двоюродного деда родились будущий отец Ап. Григорьева (1787) и сестра отца Екатерина (1788); сведения родословной книги дворянства (где указаны соответственно 1788 и 1789 гг. – см.: Материалы, с. 315) ошибочны.
К самому началу 1790-х гг. относится приобретение И. Г. Григорьевым владения на Малой Дмитровке (ул. Чехова). В списке о семействе и состоянии И. Григорьев писал: «Недвижимого имения имею благоприобретенный в Москве дом, состоящий Стретенской части 1-го квартала № 72, к нему причисленных дворовых людей мужска пола 12, женска 10 душ». [216]216
Сведения относятся к 1807 г.; ЦГИА г. Москвы, ф. 4, оп. 10, д. 544, л. 4.
[Закрыть]
«Геометрический план дому состоящему Стретенской части 1-го квартала под № 72 надворного советника Ивана Григорьевича Григорьева измерен июня 11-го дня 1803-го года», раскрывает нам дедовскую Аркадию. Всего во владении «застроенной и незастроенной» было 881 1/4 кв. сажени земли, из них под двором, садом и незастроенной землей – 639 1/2 кв. саженей. Два дома – двухэтажный каменный и одноэтажный Деревянный стояли по красной линии левой (по-современному – нечетной) стороны Малой Дмитровки. [217]217
Историко-архитектурный архив г. Москвы (далее: ИАА г. Москвы), Арбатская часть, № 79–80, 80.
[Закрыть]Детство и отрочество отца А. Григорьева, его теток Екатерины и Александры и дяди Николая (последние двое крещены в приходской церкви Пимена Великого, что в Старых Воротниках), прошли в родительском доме на Малой Дмитровке. Не все погибло в пожаре 1812 г. За год до смерти – в 1863 г. А. Григорьев с горькой иронией писал: «Мне, судя по всем данным моего рождения, следовало восстановить бывалый блеск не весьма, впрочем, древнего рода Волоколамских, [218]218
Надо думать, ироническое „возвышение“ имени обер-офицерского сына Ивана Григорьева (ср., например, – Вяземские).
[Закрыть]перекупивши у нового владельца [219]219
К этому времени, однако, единое владение, некогда принадлежавшее деду, распалось на два самостоятельных владения, принадлежавших разным владельцам.
[Закрыть]дома покойного дедушки Ивана Григорьевича на Малой Дмитровке, проданные в развалинах после французского нашествия». [220]220
Воспоминания, с. 332.
[Закрыть]Владение деда А. Григорьева приходится на участки современных домов 25 и 27 (с дворами) по ул. Чехова. Каменный дом (№ 27), претерпевший ряд изменений после восстановления в 1812 г., прожил немногим меньше двухсот лет.
Формулярный список А. И. Григорьева (отца) опубликован Влад. Княжниным, [221]221
Материалы, с. 316–317.
[Закрыть]некоторые подробности его жизни сообщены в воспоминаниях сына.
Лишь недавно нам удалось наконец установить дату и место рождения Аполлона Григорьева и обнаружить документ о событии, повлиявшем на дальнейшую судьбу ребенка.
Приведем две метрические выписки:
ВЕДОМОСТЬ ИМЯННАЯ, УЧИНЕННАЯ НИКИТСКОГО СОРОКА ЦЕРКВИ ИОАННА БОГОСЛОВА, ЧТО В БРОННОЙ в 1822 году ГЕНВАРЯ С 1-го ДНЯ
№13
Число16 Июля
Когда кто родился, кем крещен и кто этом были восприемники
В доме Щеколдиной у живущей в нем мещанской девицы Татианы Андреевой, родился сын Апполоний, крещен 22-го дня. Восприемник был квартальный надзиратель Гавриил Михайлов Ильинский. Восприемница была мещанка вдова Анна Степановна Щеколдина, оное крещение справляли все [222]222
ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 238, л. 201.
[Закрыть].
Это та самая церковь, частично сохранившаяся до наших дней, где за 10 лет до крещения Ап. Григорьева крестили А. И. Герцена.
Считается, что обручению дворянского сына А. И. Григорьева с мещанкой девицей Татьяной Андреевой препятствовали его родители. На самом же деле лишь одна мать – отец умер до 1818 г.
Через два дня после крещения – 24 июля – незаконнорожденного младенца «Апполона Александрова» отдали в императорский Московский воспитательный дом.
В Ведомости той же церкви следующего 1823 г. записано:
Кто именно венчаны
Женился титулярный советник Александр Иванов Григорьев, а понял за себя московскую мещанскую девицу Татиану Андрееву. Жених и невеста первым браком, о коих надлежащий обыск о поручителями чинен был. Оный брак венчан священником Иваном Антоновым с причтом.
Числа 1
Месяцгенварь 26
Кто были поручители венчания или поезжане
По женихе: губернский секретарь Гаврила Михайлов Ильинской, коллежский секретарь Петр Алексеев Дубенский, коллежский регистратор Егор Афанасьев Леонов.
По невесте: московский мещанин Андрей Васильев Ткачев, поручик Иван Иванов сын Гурнин, коллежский регистратор Никита Александров Прозоров. [223]223
Там же, оп. 745, ед. хр. 242, л. 309.
[Закрыть]
Спустя несколько месяцев после венчания родителей по прошению, поданному титулярным советником Александром Григорьевым, «младенец Аполлон был отдан упомянутому родителю, который, признав его за своего родного сына и обещав взять совсем на свое содержание и попечение, вступает во всем в родительское право, а посему реченный воспитанник и не считается уже в числе питомцев воспитательного дома». [224]224
Из «Свидетельства», выданного 30 мая 1823 г. (Материалы, с. 317).
[Закрыть]
Дом А. Щеколдиной (крестной матери А. Григорьева), в котором родился Аполлон Григорьев и где некоторое время жил он после воспитательного дома в родительской семье, не сохранился. Он стоял на углу Южинского переулка (на месте д. 2) и ул. Остужева (тот же дом под № 12). [225]225
ИАА г. Москвы, Арбатская часть, № 571.
[Закрыть]25 ноября 1823 г. у Григорьевых родился сын Николай, проживший меньше месяца.
Вероятно, после смерти второго сына Григорьевы переселились из флигеля дома Щеколдиной в дом купца-раскольника (в этом приходе раскольников жило немало) Игнатия Ивановича Казина (писалось и «Козина»), стоявший в соседнем приходе церкви Рождества Христова, что в Палашах. Большой казиновский дом (в два этажа, с двадцатью окнами по фасаду) был многолюдным. Кроме четырех чиновных особ, не считая Григорьевых, у Казина жили «московские мещане» (6 человек), «девицы» (5 человек), «вольноотпущенные» (10 человек), «свободный хлебопашец» (1 человек). Владение Казина находилось на расстоянии одного дома от Тверской улицы, почти у самых Тверских ворот со Страстным монастырем; часть же казиновского двора выходила непосредственно на Тверскую (ныне – Малый Палашевский пер., д. 6). [226]226
Там же, № 526.
[Закрыть]
В январе 1827 г. у Григорьевых родилась дочь Мария, прожившая тринадцать недель. После смерти дочери Григорьевы переезжают в другой район города – Замоскворечье («уединенный и странный уголок мира», по признанию А. Григорьева), «вскормившее» и «взлелеевшее» его. Поселились они в приходе Спаса, на Болвановке.
«Мрачный и ветхий дом с мезонином», как и соседний, «с явными претензиями, с дворянской амбицией», действительно некогда оба «принадлежали одному дворянскому семейству, не из сильно, впрочем, родовитых, а так себе» (наст, изд., с. 21). Владельцами их были супруги С. Д. и А. А. Брыкины. [227]227
ИАА г. Москвы, Пятницкая часть, № 590, 589.
[Закрыть]Домом А. А. Брыкиной некоторое время владела младшая сестра ее мужа – М. Д. Брыкина, а в год поселения в нем Григорьевых хозяйкой дома стала ее старшая сестра – штабс-капитанша вдова О. Д. Ешевская [228]228
ЦГИА г. Москвы, ф. 203, оп. 747, ед. хр. 1106 (1828 г.), л. 415 об.
[Закрыть](«вдова-барыня с двумя дочерьми-девицами»). [229]229
Старшую – Софью Ивановну Григорьев упоминает, рассказывая об «амурных» делах своего учителя Сергея Ивановича.
[Закрыть]«Хозяин другого (т. е. ранее принадлежавшего С. Д. Брыкину, – Г. Ф.), – пишет А. Григорьев, – племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике по сказаниям и фармазоне, ходили самые странные слухи» (наст, изд., с. 21). Дом этот на самом деле принадлежал «покойного надворного советника и кавалера Степана Дмитриева Брыкина воспитаннице девице Елене Степановой», а сам «развратник» и «фармазон» коллежский асессор и кавалер М. Бороздин был «попечителем ее». [230]230
ЦГИА г. Москвы, д. 203, оп. 747, ед. хр. 1106 (1828 г.), л. 415.
[Закрыть]
Передним фасадом дом Ешевской смотрел на ограду церкви Спаса Преображения на Болвановке, а боковым выходил в М. Болвановский переулок, переходивший в Словущенский (нынешний 6-й Монетчиковский), выводивший к «проезду по Земляному валу», т. е. к Зацепе. «Забор, – пишет А. Григорьев, – выходил уже на Зацепу, и в щели по вечерам смотрел я, как собирались и разыгрывались кулачные бои» (с. 22).
Между 1831 и 1832 гг. А. И. Григорьев приобретает дом на Малой Полянке в приходе Спаса Преображения в Наливках. В последний раз семья Григорьевых исповедовается в церкви Спаса Преображения на Болвановке в 1831 г.
Исповедные ведомости 1828 г. называют нам (с указанием возраста) дворовых семьи Григорьевых – людей, оставивших неизгладимый след в памяти Аполлона Григорьева:
Василий Яковлев – 37 (кучер),
жена его Прасковья Степановна – 36 (старшая нянька
и некоторое время кухарка),
Иван Михайлов -16,
Лукерья Григорьева – 18 (младшая нянька),
Марина Михайлова – 12 [231]231
Там же, л. 416.
[Закрыть](«деревенская девочка,
взятая из деревни для забавы» Аполлону).
И наконец, «семинарист тридцатых годов» – первый учитель Аполлона Григорьева. Дважды – в 1830 и в 1831 гг. – вместе с семьей Григорьевых исповедовается «университетский студент медицины» – Сер гей Иоаннов Лебедев. В 1830 г. ему 19 лет. [232]232
Студенческое дело С. И. Лебедева в фонде университета, хранящегося в ЦГИА г. Москвы, нами не найдено, В книге Л. Ф. Змеева «Русские врачи-писатели» (СПб., 1886. Вып. 1. До 1863 г.) на с. 172 находим Лебедева Сергея (18071854). Совпадение указанных ниже дат пребывания в университете со сведениям из воспоминаний Григорьева дает право предполагать, что Змеев указал неверны год рождения: учитель Григорьева был на четыре года моложе. А обнаружении нами списки студентов убеждают в том, что речь может идти только об одном человеке: другого Лебедева на медицинском отделении в эти годы не было. Выписываем основные сведения из книги Л. Ф. Змеева. С 1829 г. Лебедев – своекоштный студент университета, оконченного в 1833 г. со званием лекаря 1-го отделения. С 1834 г. уездный врач (Лихвинский уезд Калужской губ.). В 1839 г. (в этот год его бывший ученик уже был студентом университета) за составление «Медико-топографического описания г. Лихвина и его уезда» («Описание» найдено нами в фонд университета ЦГИА г. Москвы) он удостаивается Московским университетом звания штаб-лекаря. Затем до своей ранней смерти С. И. Лебедев служит врачом в Тамбовском приказе общественного призрения.
[Закрыть]








