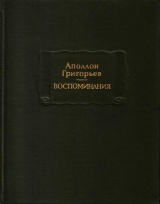
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Б. Егоров. Художественная проза Ап. Григорьева
1
Ап. Григорьев хорошо известен любителю русской литературы как поэт и как критик, но почти совершенно не знаком в качестве прозаика. Между тем он – автор самобытных воспоминаний, страстных исповедных дневников и писем, романтических рассказов, художественных очерков. Собранное вместе, его прозаическое наследие создает представление о талантливом художнике, включившем в свой метод и стиль достижения великих предшественников и современников на поприще литературы, но всегда остававшемся оригинальным, ни на кого не похожим.
Самым характерным свойством григорьевской прозы является ее автобиографичность. Разумеется, воспоминания, дневники, исповеди автобиографичны по жанру и по сути, но и обычные рассказы Григорьева имеют глубоко личный, автобиографический характер. Здесь наблюдается явная аналогия с его поэзией: ведь большинство стихотворений поэта – как бы маленькие дневники и исповеди, а циклы стихотворений представляют собой своеобразные сюжетные эпизоды из реальной жизни автора, вплоть до прямой имитации ежедневных записей: таков цикл «Дневник любви и молитвы» («имитация» потому, что – сразу же оговоримся – не следует полностьюотождествлять художественные произведения даже такого субъективного писателя, как Григорьев, с реальной биографией художника).
Автобиографические мотивы вторгаются даже в критические статьи Григорьева. Не говорим уже об очень частых «лирических» отступлениях в статьях относительно личного пристрастия к тем или иным явлениям литературы или относительно духовной эволюции автора, – это бывает почти у всех критиков. Но у Григорьева в текст статьи включаются «посторонние», автобиографические отрывки. Например, в статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1862) критик от анализа рецензируемых произведений неожиданно переключается на воспоминания о Берлинской картинной галерее и о беседах с В. П. Боткиным о судьбах русского искусства. Создается интересная мемуарная миниатюра, которую можно бы изъять из текста статьи и поместить в рубрику «Воспоминания» (по насыщенности критической статьи мемуарностью с Григорьевым может сравниться и даже опередить его еще один великий «личностный» критик – Д. И. Писарев). Публицистические же очерки Григорьева – «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах» (1860), «Безвыходное положение» (1863), «Плачевные размышления о деспотизме и о вольном рабстве мысли» (1863) и многие другие настолько густо пересыпаны автобиографическими отступлениями, что фактически их с равными основаниями можно относить и к публицистике, и к мемуарам. В настоящем издании публикуются две театрально-критические статьи Григорьева – о постановках «Гамлета» и «Отелло», имеющие большое искусствоведческое и литературоведческое значение, но в данном случае характерные своей автобиографичностью, пронизанностью личным, «григорьевским» материалом.
Глубокая и всепроникающая автобиографичность григорьевских произведений объясняется особенностями его духовного склада, его мировоззренческих принципов.
Прежде всего, он вырос и воспитался в романтическую эпоху, в эпоху гипертрофированного субъективизма – Григорьев замечательно это показал в своих воспоминаниях. Влияние эпохи было настолько мощно, что уже совсем в другие времена, когда господствовал реализм, оказавший сильное воздействие и на Григорьева, наш литератор все-таки считал себя романтиком, причем «последним романтиком». Ясно, однако, что ссылок на эпоху мало для понимания и объяснения такого глубинного романтизма (ведь отец Григорьева, как мы видим из воспоминаний сына, воспитался в еще более интенсивную и пафосную романтическую эпоху первой четверти XIX в., эпоху, включившую в себя 1812 г. и декабристское движение, – но был весьма «прозаичным», весьма приземленным существом). Следует учитывать еще и особый душевный склад Григорьева, его артистическую, художническую натуру с неуемными страстями, с постоянными стремлениями к идеалам, с частыми сменами этих идеалов; как верно писал Я. П. Полонский: «Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту – и поющего со студентами песню, им положенную на музыку: „Долго нас помещики душили, становые били!..“. Помню его не верующим ни в бога, ни в черта – и в церкви на коленях молящегося до кровавого пота. Помню его как скептика и как мистика». [168]168
Неизданные письма… Из архива А. Н. Островского. М., 1932, с. 455. Песня, созданная кем-то из шестидесятников, не похожа на революционные стихотворения Григорьева 40-х гг. – Полонский здесь ошибся. Впрочем, не исключено, что Григорьев в 60-е гг. создал музыку к чужому тексту.
[Закрыть]Совокупность многих причин создавала благодатную почву, на которую падали семена романтической культуры, и порождала трагическое одиночество «последнего романтика» в условиях эпохи 60-х гг.
Впрочем, трагический отпечаток лежит на всем творчестве Григорьева во все периоды: напряженная духовная жизнь с постоянными поисками высоких идеалов мало способствовала спокойному и тем более утверждающему, оптимистическому отношению к реальной действительности (единственными радостными находками для Григорьева были выдающиеся произведения литературы, о которых он оставил прекрасные критические статьи, особенно – драмы Островского и романы Тургенева). Личная жизнь Григорьева приносила ему тоже чрезвычайно мало радостей: он был в постоянном раздоре с семейным кругом, постоянно был в долгах, так как совершенно не умел жить «расчетливо»; ему, умному и остроумному собеседнику, красивому мужчине, удивительно не везло в любви: любимые предпочитали ему «положительных», обстоятельных, практичных… Чрезвычайно экзальтированная, страдальческая, поэтически прихотливая, обнаженно ранимая и слабая натура Григорьева лишала его «массового» успеха у женщин, обусловливала слишком узкий круг способных оценить его достоинства.
В очерке «Великий трагик» Григорьев полушутя-полусерьезно обращается к себе с упреком, что он до сих пор не написал на тему о «трагическом в искусстве и жизни» – тему, не доведенную до конца тургеневским Рудиным. Но фактически эта тема в полный голос звучит почтя во всех произведениях Григорьева во всех жанрах.
Чисто художественные повести и рассказы (то есть «чистые» по жанру, с исключением очерков и воспоминаний) Григорьев писал в середине 40-х гг., еще совсем молодым, но уже достаточно испытавшим в жизни.
После относительно вялого детства и бурного духовного роста в отрочестве, о чем Григорьев так хорошо поведал в воспоминаниях, наступили яркие университетские годы. Конец 30-х и начало 40-х гг. для Московского университета стали периодом явного расцвета после долгой полосы застоя и мрака, той полосы, в которую попали сперва Полежаев, а затем Белинский, Герцен, Лермонтов… Об этой мрачной эпохе сохранились живые, хотя и краткие очерки в университетских главах «Былого и дум» Герцена и обстоятельные характеристики – в «Моих воспоминаниях» академика Ф. И. Буслаева (М., 1897). Буслаев учился в Московском университете как бы в интервале между Герценом и Григорьевым: с 1834 по 1838 г., поэтому описал и старые порядки, и новшества после 1835 г.
В 1835 г. попечителем Московского учебного округа и тем самым «хозяином» университета был назначен видный вельможа граф С.Г. Строганов. Благодаря своей независимости и гордому желанию сделать «свой» университет лучшим, Строганов мог отбирать среди талантливой научной молодежи действительно достойных преподавателей, обеспечивать их штатными местами, заграничными командировками, средствами на публикацию трудов и т. п.
Поэтому в университетские годы Григорьева (1838–1842) во главе ведущих гуманитарных кафедр стояли Т. Н. Грановский (всеобщая история), Ц. Г. Редкин (энциклопедия права), Д. Л. Крюков (римская словесность и древняя история), которые ошеломляли юношей потоком совершенно новых идей и фактов, только что добытых европейской наукой, знакомили с новейшими методологическими учениями, прежде всего – с гегельянством (хорошее знание Гегеля Григорьев вынес из университетских занятий). Декан юридического факультета Н. И. Крылов, возглавлявший кафедру римского права, обучал студентов методам романтической школы французских историков.
Григорьев, поступивший – видимо, по настоянию отца – на чуждый ему юридический факультет, усердно слушал и лекции других профессоров, прежде всего – М. П. Погодина по русской истории и С. П. Шевырева по русской словесности. Будущие вожди консервативного «Москвитянина», глашатаи официальной «народности», привлекали Григорьева искренним интересом к старине, к древнерусским летописям, рукописным трудам, к устному народному творчеству, хотя он и в эти годы уже позволял себе иронические выпады по адресу Шевырева.
Григорьев-студент стал центром кружка талантливых литераторов и вдумчивых исследователей философских проблем. А. А. Фет рассказывал в своих воспоминаниях главным образом о стихотворных занятиях, а другой член кружка, Н. М. Орлов, сын известного декабриста М. Ф. Орлова, оставил интересную тетрадь-конспект философских споров друзей. [169]169
Тетрадь опубликована: Русские пропилеи, т. 1. М., 1915, с. 213–217. Рукопись имеет помету: «По просьбе Григорьева».
[Закрыть]Да и единственная рукопись Григорьева, сохранившаяся от студенческой поры, созданная в 1840 г., т. е. восемнадцатилетним юношей, – «Отрывки из летописи духа» – свидетельствует о напряженных философских исканиях идеала, совершенства, истины. [170]170
Рукопись опубликована: Материалы, с. 311–312. (Список сокращений см. ниже, с. 378).
[Закрыть]Эта рукопись тесно перекликается мыслями с тетрадкой H. M. Орлова.
В этих философско-нравственных исканиях можно найти связи с аналогичными поисками в более раннем кружке Н. В. Станкевича. Но основные участники того кружка, В. Г. Белинский и М. А. Бакунин, вскоре стали значительно больше интересоваться социально-политической проблематикой и даже сами философские студии подчинили этой области. Видимо, сказывались не столько индивидуальные различия, сколько разница поколений. Хотя между рождением Белинского, Герцена, Огарева, с одной стороны, и ровесников Ап. Григорьева – с другой, интервал всего около десяти лет, но разница между ними огромная: первые воспитались на 1812 г. и декабристских идеях, почти взрослыми юношами встретили николаевскую эпоху, а вторые с малолетства выросли в атмосфере этой эпохи. Герцен на примере В. А. Энгельсом, близкого к петрашевцам и почти ровесника Григорьева (родился в 1821 г.), наблюдал отличие двух исторических типов: «На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же видовым, болезненным надломомпо всем суставам. Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни». [171]171
Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. X. М., 1956, с. 344–345.
[Закрыть]
Герцен как бы с высоты своего кругозора и чуть-чуть со, стороны видел в этом поколении социальную ущербность, страшные последствия николаевского пресса, давящего Россию, Григорьев же «изнутри» считал свою романтическую гипертрофированность чуть ли не нормой, по крайней мере достоинством. Да и в самом деле, из сосредоточенного самонаблюдения могло ведь вырасти чувство достоинства, значимости и независимости личности… Так что и крайности интроспекции, рефлексии были тоже косвенной формой протеста, по крайней мере – романтической формой неприятия нивелирующей личность действительности. Недаром поколение Григорьева (родившиеся в 1819–1822 гг.) дало так много поэтов романтического плана: А. А. Фет, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина, сам Григорьев. Любопытно также, что реалистическая «натуральная школа» (оказавшая, впрочем, воздействие на поколение Григорьева) создавалась главным образом ровесниками 1812 г. (именно в этом году родились А. И. Герцен, И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, И. А. Гончаров) или даже более старшими современниками (В. И. Даль) – и лишь Н. А. Некрасов и Д. В. Григорович были ровесниками Григорьева. Еще один знаменитый ровесник, Ф. М. Достоевский, хотя и примкнул вначале к «натуральной школе», но сразу же занял в ней совершенно особое место.
Еще одна важная черта: поколение Григорьева, давшее столько романтических поэтов (и не меньше – серьезных ученых различных школ), совсем почти не подготовило радикальных деятелей для эпохи 60-х гг. – все ее знаменитые вожди родились на 10–20 лет позже. Очевидно, относительно спокойное, без европейских и внутренних революций, второе десятилетие царствования Николая I, с середины 30-х до середины 40-х гг., период «тихого» деспотизма, медленного, обуржуазивания и опошления русской жизни именно период юности григорьевского поколения и способствовал романтическим волнам самого различного масштаба и пошиба – об этих волнах и «веяниях» Григорьев очень хорошо рассказал в своих «Литературных и нравственных скитальчествах».
2
Вскоре после окончания университета Григорьев создает первую дошедшую до нас прозаическую вещь, которую трудно определить в жанровом отношении; автор назвал ее «Листки из рукописи скитающегося софиста» – по сути это нечто вроде художественно обработанного дневника, [172]172
Ср. тягу юного Л. Толстого к дневнику и к художественному расширению дневниковых записей до художественного очерка («История вчерашнего дня», 1851); см.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 1. 50-е годы. Л., 1928, с. 33–60.
[Закрыть]в свою очередь явившегося черновым материалом для рассказа «Мое знакомство с Виталиным» (а частично – ср. с. 84 и 217 – и для повести «Один из многих»). Жизненной основой «Листков…» и рассказа явилось первое драматическое событие в биографии Григорьева, потрясшее его, больно занозившее душу, которая много лет не могла оправиться, – любовь к Антонине Федоровне Корш. В рассказах и очерках середины 40-х гг. Григорьев иногда будет иронизировать по поводу своего чувства, но это не признак освобождения и «выздоровления», а скорее стремление к освобождению, попытка вырваться из плена, посмотреть на себя со стороны; в то же время эта ирония связана с любимым занятием Григорьева – растравлением незаживающих ран; таким же растравлением, думается, была неожиданная его женитьба в 1847 г. на сестре Антонины, Лидии; [173]173
Товарищ Григорьева дает очень не лестную характеристику его будущей жене: «… эта третья была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика» (Соловьев С. М. Записки. М., [б. г.], с. 99).
[Закрыть]брак оказался очень неудачным. История драматической любви Григорьева к Антонине Корш вкратце такова. Незадолго до их знакомства умер отец семейства, видный московский врач Федор Адамович Корш, оставив вдову Софью Григорьевну с многочисленным потомством (согласно родословной, составленной недавно праправнуком Ф. А. Корша А. И. Богдановым, доктор был отцом 22 детей). Мальчики – Евгений и Валентин – станут впоследствии известными журналистами и литераторами, а девушки в тогдашних условиях могли надеяться лишь на замужество. В год окончания Григорьевым университета, в 1842 г., профессор Н. И. Крылов женился на одной из дочерей – Любови, а так как Григорьев был одним из немногих блестящих студентов, принимаемых в доме декана, то он вскоре познакомился с двумя младшими сестрами хозяйки – с Антониной и Лидией – и страстно влюбился в старшую из них, в Антонину. Возможно, она сперва и отзывалась на влечение юного романтика, но вскоре у него появился опасный соперник – К. Д. Кавелин, известный впоследствии историк и юрист, деятель либерального лагеря. Кавелин был четким и твердым, [174]174
Кавелин оказался весьма рационалистичным и в сфере интимных отношений. Спровоцированный однажды на откровенность Л. И. Стасюлевич, женой М. М. Стасюлевича, издателя «Вестника Европы», Кавелин ответил своей знакомой интересным признанием: «Я никогда в жизни, с молодости, не знал любви и страсти, как ее описывают. Ко многим женщинам я питал и питаю глубокую дружбу и способен увлекаться. Но увлечениям я даю волю только тогда, когда совершенно уверен, что не сделаю этим никому вреда, не расстрою семейного положения, не принесу женщине несчастия и горя. Своим увлечениям я ни разу не приносил женщин в жертву, никогда не клялся в страсти, в вечной любви и т. п. Я позволял себе увлекаться, только когда видел, что это не стоило женщине тяжелой борьбы, упреков совести, когда она, уступая мне, не мучилась сознанием, что нарушила свой долг, свои обязанности. Жертв я бы мог просить, если б был в состоянии заменить женщине всех и все; но на это я не способен и знаю это. Из моих сближений никогда не выходило драм и трагедий, которых я тщательно избегал, потому что не могу выносить чужого горя и прихожу в ужас при одной мысли, что кому-нибудь может быть худо по моей вине» (M. M. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. II. СПб., 1912, с. 119, письмо от 16 марта 1868 г.; указано В. Г. Зиминой).
[Закрыть]он уже подготовил магистерскую диссертацию – очевидно, что тут было значительно более ясное и спокойное будущее, и Антонина отдала свое сердце сопернику. 24 февраля 1844 г. Кавелин защитил диссертацию, а 25-го Григорьев подал прошение ректору об отпуске: он за полгода до этого получил, несмотря на большой конкурс и обилие соперников, хорошее место секретаря Совета Московского университета, которым он совсем не дорожил и с легкостью бросил его, явно намереваясь бежать в Сибирь, чтобы утишить страдания и службой в какой-либо отдаленной гимназии заработать на выплату многочисленных долгов. А пока он, оставив запущенные дела Совета и кредиторов, втайне от родителей, умчался в Петербург.
Здесь-то он и создает свои произведения, в которых постоянно просвечивала его безответная любовь к Антонине Корш, а первое из них, «Листки из рукописи скитающегося софиста», целиком посвящено истории взаимоотношений автора и Антонины. Это романтический дневник молодого человека, сосредоточенного на анализе своих чувств, своих идеальных порывов, но уже с достаточной долей самоиронии, со стремлением посмотреть на себя со стороны, критически оценить свои слова и поступки. Последнее станет характерной чертой и всех последующих автобиографических произведений Григорьева в стихах и прозе. В «Листках…» проступают и другие свойства зрелого Григорьева-писателя: тяга к абрисному, пунктирному изображению лишь самых важных эпизодов, пренебрежение к частностям, мелочам; живой разговорный язык, контрастно смешивающий стили (например: «…мне было все гадко и ненавистно, кроме этой женщины, которую люблю я страстью бешеной собаки»).
В последующих прозаических художественных произведениях наряду с московскими впечатлениями отражена петербургская жизнь Ап. Григорьева. Одно из сильных его увлечений этой поры, середины 40-х гг., – масонство. Фет, как видно из его воспоминаний, относит знакомство Григорьева с масонами (и не просто знакомство, но и вступление в организацию) еще к московскому периоду, на масонские же средства, пишет Фет, Григорьев уехал в Петербург. Сведения Фета очень важны и подтверждают справедливое предположение В. Н. Княжнина, что масон из повести Григорьева «Другой из многих» Василий Павлович Имеретинов является художественным воплощением реального прототипа – К. С. Милановского, [175]175
См.: Материалы, с. 396. Впрочем, В. Н. Княжнин не знал имени, того Милановского и готов был спутать его с братом, Алексеем Соломоновичем.
[Закрыть]который, как мы теперь знаем, был сокурсником Фета и Григорьева по Московскому университету [176]176
См.: Блок Г. Рождение поэта. Повесть о молодости Фета. Л., 1924, с. 104.
[Закрыть](подробнее о Милановском см. с. 412–413).
Во всяком случае петербургские масонские связи Григорьева несомненны: это нашло отражение и в его повестях, и в цикле стихотворений «Гимны», которые оказались переводами немецких масонских песен, [177]177
См. главу «„Гимны“ Аполлона Григорьева» в кн.: Бухштаб Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 27–49.
[Закрыть]и в критических рецензиях. Но документальных данных совершенно не сохранилось, так как масонские организации были запрещены еще при Александре I, а репрессии николаевского правительства против всяких нелегальных кружков тем более должны были насторожить сохранивших свои традиции масонов, которые, видимо, ушли в это время в глубокое подполье. Григорьева, как и толстовского Пьера Безухова, привлекли в масонстве грандиозные утопические идеи коренного переустройства мира на началах братства, любви, высоких духовных и моральных качеств человека – да еще в сочетании с тайной (конспирация) и романтической мистикой.
В середине 40-х гг. Григорьев создает не только масонские, но и революционные и антиклерикальные произведения – стихотворения «Город» (два), «Нет, не рожден я биться лбом…», «Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат…». Советские исследователи (Б. Я. Бухштаб, П. П. Громов, Б. О. Костелянец) убедительно показали тесную связь между масонскими и социалистическими идеями Григорьева: недаром он так увлекался в те годы романами Жорж Санд «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт», отразившими идеологию христианского социализма, на скрещении масонской мистики и социалистической утопии. Герой двух романов, граф Альберт Рудольштадт, масон и мистик, организует орден «Невидимые», целью которого является переустройство мира на лозунгах Великой французской революции (свобода, равенство, братство), на началах правды и любви. Персонажи романов неоднократно упоминаются и цитируются Григорьевым, а многие свои произведения он подписывал «А. Трисмегистов» (Трисмегист – псевдоним графа Альберта).
Увлекся Григорьев и весьма популярными тогда в России идеями утопического социализма Фурье, главным образом в их негативной части, в критике современной буржуазной цивилизации, больших городов; позитивная же сторона, особенно «казарменные» принципы, а также космогонические фантазии о перемещениях солнца и планет вызвали у Григорьева протест и насмешку в статьях, в письмах, в драме «Два эгоизма» (1845).
Своеобразно было и отношение Григорьева к масонству. Оно заключается в том, что масонство в его произведениях почти всегда сопрягается с крайними формами эгоцентризма: в повестях «Один из многих» и «Другой из многих» это особенно заметно. Б. О. Костелянец в примечаниях к «Гимнам» хорошо показал, что оба «эгоиста» григорьевских повестей – Званинцев и Имеретинов – являются воспитанниками масонов и что два наставника Званинцева развивали в нем соответственно масонство и эгоистический «наполеонизм», не вызывавшие в душе воспитанника противоречий, а как бы сливавшиеся воедино. [178]178
Григорьев Ап. Избр. произв. Л., 1959 (Б-ка поэта. Большая серия), с. 570.
[Закрыть]То ли некоторые стороны учения масонов и тенденции их бытового поведения (разделение людей на посвященных и профанов, «наполеоновские» мечты о преобразовании мира) оказывались для Григорьева потенциально «эгоистическими» (ср. позднее у Достоевского аналогии между радикальными идеями и наполеонизмом), то ли он генетически выводил печоринствующих эгоистов XIX в. из масонской мистики предшествующего столетия, то ли на его концепцию влияли конкретные деятели типа Мидановского, которые под масонским обличьем таили душу «себялюбивую и сухую», но именно в таком аспекте предстают воспитанники масонов в повестях Григорьева.
Как же относится автор к своим эгоистичным героям? Он влагает им в уста «наполеоновские» декларации (например, заявление Званинцева: «… на все и на всех смотрю я, как на шашки, которые можно переставлять и, пожалуй, уничтожать по произволу… для меня нет границ» – с. 201), а потом решается на авторское пояснение (в принципе Григорьев в повестях стремится к объективированному рассказу, и лишь изредка авторский голос вторгается с каким-либо разъяснением): «Истина и ложь, страсть и притворство так были тесно соединены в натуре Званинцева, что сам автор этого рассказа не решит вопроса о том, правду ли говорил он. Есть грань, на которой высочайшее притворство есть вместе и высочайшая искренность» (с. 202).
Пожалуй, это и есть истинное отношение автора к подобным персонажам. В 1844–1846 гг., когда Григорьев писал и печатал свои романтические повести, у него самого было очень противоречивое отношение к людям типа Милановского, Званинцева, Имеретинова: они житейски и эстетически неудержимо влекли к себе, к своим «таинственным», властным, сильным натурам чистого, робкого, слабого юношу, тянувшегося к «трансцендентному», романтически возвышающемуся над пошлым миром обыденности, а с другой стороны, и отталкивали холодным себялюбием, отсутствием нравственного фундамента и идеала. Прежде всего, видимо, Григорьев раскусил пройдоху Милановского: в письме к отцу от 23 июля 1846 г. он называет его «мерзавцем» (см. с. 297), следовательно, «наполеоновский» пьедестал должен был сильно пошатнуться, а преклонение перед «гением» – исчезнуть. В статьях стали появляться резкие тирады против романтического индивидуализма: «…не смешон ли, не жалок ли человек, который среди общего стона слышит только свою песню, среди страшных общественных явлений обделывает с величайшим старанием свою маленькую статуйку и любуется ею, когда кругом него страшные, бледные, изнуренные голодом лица?». [179]179
Григорьев А. Русская драма и русская сцена. 1. Вступление. – Репертуар и пантеон, 1846, № 9, с. 429.
[Закрыть]
Интересно, что третья часть трилогии о Виталине, «Офелия», «отставшая» от первой в печатном воплощении (да, наверное, и в рукописном) всего на семь месяцев, а от второй – на пять, содержит значительно больше яда и жронии по отношению к эгоцентризму и циничности героев, чем первые две повести. «Теория женщины» повествователя «Офелии» под стать аналогичным разоблачениям утрированного романтического эгоизма в философско-художественном труде С. Киркегора «Или-или» (1843), труде, который Григорьев конечно не знал, но тем закономернее (в смысле воздействия духа времени) совпадение. В «Офелии»: «Женщина – те же мы сами, наше я, но отделившееся для того, чтобы наше я могло любить себя, могло смотреть в себя, могло видеть себя и могло страдать до часа слияния бытия и тени…» (с. 147); в «Или-или»: «Моя Корделия! Ты знаешь, что я люблю говорить с самим собой. В себе я нашел личность самую интересную из всех знакомых мне. Иногда я боялся, что у меня может иссякнуть материал для этих разговоров, теперь я не боюсь, теперь у меня есть Ты. Теперь и всю вечность я буду говорить с самим собой о Тебе, о самом интересном предмете с самым интересным человеком, ведь я – самый интересный человек, а ты – самый интересный предмет». [180]180
Цит. по кн.: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. М., 1970, с. 79.
[Закрыть]
Разница лишь в том, что Григорьев привносит в текст серьезный аспект: мотив страдания.
В последней повести из «масонской» серии, писавшейся после возвращения Григорьева из Петербурга в Москву, в 1847 г., и печатавшейся тогда же в газете «Московский городской листок», – «Другой из многих» – чувствуется уже расставание Григорьева со своим прошлым. Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно «соблазненный» масоном Имеретиновым (в юном герое, разумеется, улавливаются черты автора), затем раскаивается, прозревает и в конце повести, как бы отталкиваясь от прошлых идеалов, убивает на дуэли Васю Имеретинова, племянника и воспитанника масона.
Однако, расставаясь, Григорьев тем болезненнее переживает все то грандиозное, яркое, глубокое, что было связано с пафосом всемирного «великого братства людей» и «божественной радости», т. е. те черты и свойства, которые были присущи, по его представлению, деятелям масонства. Он еще сильнее подчеркивает в своих персонажах именно эти свойства и идеалы, но тут же утрирует и их черты эгоизма и даже бытовой распущенности. «Другой из многих» – самая «неистовая» повесть Григорьева, наполненная совращениями, вакханалиями, смертями, демоническими мужчинами и женщинами; поэтому она менее всего автобиографична.
Вообще в повестях Григорьева 40-х гг. заметна парадоксальна тенденция наряду с усваиванием реалистических принципов (что отразилось и в критических статьях, и в весьма колоритных эпизодах повестей) постепенно все больше и больше нагнетать романтические «неистовства»: в первых повестях, в трилогии о Виталине («Человек будщего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия») романтические ситуации – довольно умеренные; в повести «Один из многих» нам уже пре подносится целый набор романтических штампов как в типажах (демон, чистый наивный юноша, страстная женщина, похотливый старик, сребролюбец, готовый продать дочь), так и в коллизиях (дуэль, козни игре ков, совращение невинности, западня, устроенная насильником, и неожиданное спасение жертвы и т. д.). «Другой из многих» завершав этот ряд.
Чувствуется, что Григорьев находится в глубоком духовном кризисе на переломе от одного этапа к другому; и в самом деле, мучительно расставаясь с увлечениями петербургского периода, он медленно, но верно переходил в совершенно другое идейно-психологическое состояния в другую «веру»: в условиях русской жизни начала «мрачного семилетия» (1848–1855) и в специфически московских славянофильских условиях Григорьев приближался к идеалам «молодой редакции „Москвитянина“».
Кризисность мировоззрения Григорьева еще больше усиливала исконную лихорадочную страстность его повествования. Повести становились все более клочковатыми, разорванными на отдельные эпизоды, слабо связанные между собою. Да и писались они, видимо, не на одном дыхании и не по заранее разработанному плану, а с перерывами, с надеждой на помету «продолжение следует». Поэтому Григорьев мог путать имена (например, в «Одном из многих» Севский и в начале и в конце повести назван Дмитрием Николаевичем, а в начале «Эпизода второго» – «Николашей»; впрочем, и в «Эпизоде первом» он однажды именуется Дмитрием Александровичем).
В принципе романтическая экзальтация не противостоит автобиографизму. Григорьев как реальная личность, духовная и бытовая, бы настолько пропитан «неистовостью», что художественные крайности романтического метода не слишком отдаляли образ героя от прототипа. Но все-таки постепенно обретаемая раскованность, художественная свобода уводили автора от относительно точного следования за реальными прототипическими сюжетами и эпизодами, наблюдавшегося в трилогии о Виталине. «Относительно» добавлено потому, что и в трилогии Григорьев уже достаточно свободно создает характер и события: следование наблюдается лишь в описании безответной любви Виталина (двойник автора) к Антонии (т. е. к реальной Антонине Корш) и к Лизе (см. примечания к «Офелии»); возможно, реально прототипичны и другие персонажи и события в трилогии, но у нас нет достоверных сведений о этом.
Что, однако, заведомо «сочинено» Григорьевым – это психологический облик большинства его героинь. Уже галерея женских типов первой повести из трилогии о Виталине, «Человек будущего», снабжена повторяющимися чертами экзальтированности и болезненности: Наталья Склонская – «бедное больное дитя» (с. 109); щеки другой героини, Ольги, «горели болезненным румянцем» (с. 115), третья женщина, без имени, «с долгим болезненным взглядом, с нервическою, но вечною улыбкою на тонких и бледных устах, с странным смехом, как будто ее щекотал кто-нибудь» (с. 118). А в третьей повести, в «Офелии», Виталин уже обобщенно-теоретически резюмирует: можно влюбиться лишь в такую женщину, которая отличается «болезнью и страданием» (с. 146).
Через несколько месяцев после опубликования григорьевской трилогии о Виталине В. Н. Майков писал свою статью об А. В. Кольцове (напечатана в ноябре 1846 г.), где иронизировал по поводу романтического идеала женщины, как будто прямо имея в виду повесть Григорьева: «Отчего, например, романтики – люди по большей части весьма полные и здоровые – так гнушаются в поэзии того, что можно назвать здоровьем?
Лицо белое —
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные…
Один этот портрет красавицы может уже привести в негодование романтика, не признающего других женщин, кроме чахоточных, бледных, изнуренных больными грезами…». [181]181
Майков В. Я. Соч. в 2-х т., т. 1. Киев, 1901, с. 13, 15.
[Закрыть]
Однако Майков, ратуя, в свете своего утопического идеала, за гармоничного, здорового, волевого, оптимистического человека, оказывался романтиком «навыворот», ибо его идеал конструировался теоретически, имея опору лишь в народных идеалах красоты, но не в исторических условиях 40-х гг. В этом отношении болезненные, нервические героини Григорьева были, пожалуй, ближе к жизни, конечно же не крестьянской, а столичной, дворянской, по крайней мере – интеллигентской. В самом деле, если застойная приземленность русской (да и европейской) жизни середины 40-х гг. влекла мужчин запоздало романтической ориентации к печоринству, к масонским утопиям, к бродяжничеству, к загулам, то ведь и женщины могли поддаваться любым влияниям, противостоящим пошлому бездуховному быту, – например, жоржсандизму с его романтической экзальтацией, доходящей до болезненности. Диапазон здесь был очень велик: от умеренного романтизма А. Я. Панаевой до трагической экзальтации Н. А. Герцен, приведшей ее к смерти. Григорьев несомненно опирался и на реальные жизненные черты, но так как страстный, страдающий, болезненный характер женщины являлся его эстетическим и этическим идеалом, то он чуть ли не все женские образы своих повестей (да и стихотворений и поэм того времени) наделил подобными чертами.








