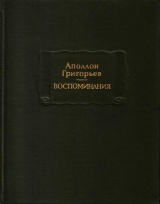
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Вошел Антоша.
Званинцев поклонился ему без всякого удивления, но спросил его довольно сухо:
– Что вам угодно?
– Мне нужно говорить с вами, – отвечал тот, невольно потупляя глаза перед строгим взглядом Званинцева, и дрожащим голосом.
– Ну-с, я вас слушаю… – сказал тот, опираясь подбородком на руку и не спуская с Антоши глаз.
– То, о чем я буду говорить с вами, так странно…
– Нужды нет.
– Вы богаты…
– Гм! вам, верно, нужны деньги?
– Вы бросаете тысячи.
– Прямо к делу. Вам нужны деньги?
– Да, – сказал Антоша, с твердостию встречая взгляд Званинцева насмешливый и суровый.
– Хорошо, я не стану вас спрашивать даже, на что вам нужны деньги, деньги вещь очень важная, но сегодня я еще могу их бросить. Много ль вам?.. тысячи три, четыре?
– Две, – спокойно сказал Антоша, – но так я не возьму ваших денег, вы должны меня выслушать.
– К чему?
– Вы должны меня узнать, – настойчиво сказал Антоша.
– Я вас знаю, – спокойно отвечал Званинцев.
– Как паразита Сапогова?
– На что вам? не все ли вам равно?
– Нет, я не возьму ваших денег, – проговорил твердо Антоша, вставая со стула, на который он сел без приглашения.
– Безумец! – заметил с грустной улыбкой Званинцев. – Безумец! – повторил он. – Ну, утешьтесь, я знаю вас, как безумца.
Несмотря на язвительную несмешливость тона, Антоша понял, что Званинцев глубоко заглянул в его душу.
– Отоприте этот ящик, – начал ласково Званинцев, подавая Антоше ключ и указывая на ящик, стоявший на столе подле постели.
Антоша отпер.
– На левой стороне депозитки * , берите ими, да берите уж тысячу серебром, что за глупое жеманство?
Антоша отсчитал молча. Званинцев внимательно глядел на его лицо, но не заметил на нем и признака радости. Казалось, молодой человек совершал какую-то тяжелую обязанность.
– Вам тяжело, я вижу, – сказал Званинцев важно, – ну, что же делать, сами виноваты. Помните, что деньги – все.
И потом, подумав немного:
– Мне надобно вас взять в руки, – сказал он с улыбкою.
Антоша взглянул на него, и в его взгляде было много благодарности, хотя нисколько не унижающейся.
– Переезжайте ко мне, – опять начал Званинцев.
Антоша схватил его руку.
– Вы еще молоды, но в вас много благородства, много силы, много свободы, – говорил Званинцев. – Садитесь и пейте чай.
И через час беседы, в которой молодой человек передавал впервые другому человеку исповедь своих мук, своего унижения, казня беспощадно самого себя, – он был уже чист, светел и горд, как за пять лет назад, – он был уже почти равен своему идеалу.
Антоша уехал с тем, чтобы воротиться через два часа.
Лакей, которого Званинцев посылал к Мензбиру, возвратился и донес, что встретил барышню у ворот, выезжавшую в коляске с какой-то дамой.
– Куда?.. не знаешь? – спросил Званинцев.
– Не знаю, говорили только, что ужо в Кушелевом будут.
Через полчаса Званинцев оделся и вышел, оставив на имя Позвонцова записку, в которой просил его распоряжаться как дома в свое отсутствие.
* * *
В Кушелевском саду опять раздавалось новое оглушительное попурри Германа. На скамьях против оркестра сидело много дам, жительниц дач большею частию, одетых в неглиже, требовавшее, кажется, не менее трех с половиною часов времени. За ними стояли гвардейцы и говорили очень громко, разумеется по-французски. Было еще семь часов.
Налево сидела Лидия Мензбир, с какою-то дамою средних лет, очень незамечательной наружности. Она, видимо, скучала, потому что не было никого из ее поклонников, к пошлостям которых она привыкла. Ей было досадно, что кругом ее раздавались любезности, которых предметом была не она, и притом на языке, вовсе ей непонятном. Ее родственница молчала, она молчала также.
Но вот мимо ее прошел и Званинцев, прошел и едва заметно кивнул головой.
В эту минуту она его ненавидела…
– Скучно, тетенька, – сказала она вставая, – поедемте.
Флегматическая тетушка машинально последовала ее примеру.
И они пошли. Обыкновенные посетители сада осматривали их с наглым любопытством.
– Как вы тихо идете, тетушка, – сказала Лидия, выставив вперед нижнюю губку, с нетерпением и досадою.
Но в эту минуту чья-то рука коснулась ее левой руки и без церемонии взяла эту руку.
– Куда вы спешите, Лиди?.. – раздался звучный голос Званинцева.
– Ах, это вы! где вы были, я вас не видала здесь, – сказала Лиди с худо скрываемой злостью.
– Я вам кланялся, – сказал Званинцев.
– Я не заметила.
– Я знал, что вы сегодня будете здесь.
– Ах, да!.. благодарю вас за книги…
– А где же Севский? – спросил равнодушно Званинцев. – Странно, что его здесь нет.
– Отчего же странно?
– Полноте скрытничать, Лиди, я знаю, что вы вчера приняли его письмо.
Взгляд Званинцева был так холодно насмешлив, что Лидия потупила глаза, несмотря на свою досаду.
– Ну, что же? очень страстно это послание? – продолжал Званинцев: – как оно начинается? вероятно – Lydie! и, вероятно, это слово написано по-французски, хотя Севский очень хорошо знает, что вы знаете только по-русски.
Эта наглая дерзость могла взбесить даже и не девочку. Лидия кусала губы от досады.
– Что ж тут смешного? – сказала она чуть не сквозь слезы. – Вы сами зовете меня Лиди.
– А! так я угадал… Но не в том дело, я совсем другое, я могу звать вас, как мне угодно.
Эти слова, произнесенные равнодушно и спокойно, вывели из терпения Лидию. Не привыкши удерживать свои внутренние движения, она вырвала свою руку из-под руки Званинцева.
– Как вам угодно?.. – сказала она, взглянувши на него с гневом своим блестящим взглядом.
Званинцев смотрел с улыбкою.
Он любил, когда из-под бархатной кошачьей лапки выступали когти тигра.
– Ну вот вы и рассердились, – сказал он добродушно, схватывая опять ее руку и кладя на свою… – Мне хотелось вас взбесить немного сегодня, чтоб видеть, к которой из кошачьих пород надобно вас причислить.
Лидия, несмотря на досаду, не могла удержаться от смеху.
– Дитя, дитя, вы и не знаете, как я люблю вас, – продолжал Званинцев, тихо и нежно.
Но Лидии хотелось не такой любви, спокойной и очень флегматической; она выставила нижнюю губку с досадою.
– Покорно вас благодарю, Иван Александрович, – отвечала она с ироническою улыбкою.
– Ну, что же писал вам Севский? – продолжал Званинцев, не обращая внимания на досаду девочки. – Предлагал вам руку и сердце? Не так ли, вероятно, с согласия своей маменьки?.. Может быть, также писал обо мне?..
Опять должна была потупиться Лидия перед этим ослепительным взглядом.
– Иван Александрович, – сказала она тихо, – знаете ли вы, что вы очень ошибаетесь, что я вовсе не так глупа и проста, как вы думаете, чтобы не заметить…
– Чего? – холодно и строго прервал Званинцев.
Лидия молчала.
– Не того ли, что я влюблен в вас? – продолжал Званинцев насмешливо. – О, о! вы порядочно самолюбивы.
Лидия была уничтожена… она ненавидела Званинцева, она хотела бы сгрызть его, как пантера, в эту минуту.
И между тем она шла с ним, покорная невольно. Они замолчали оба и шли долго, не говоря ни слова.
– Советую вам, впрочем, не слишком верить письму Севского, – сказал наконец Званинцев.
– Я не имею причин ему не верить, – сухо отвечала Лидия и поклялась в душе завтра же отвечать на это письмо.
– Севский молод, у него есть матушка.
– Он меня любит, и я его также, – сказала твердо Лидия, освобождая наконец свою руку.
Званинцев захохотал.
– Он до того еще ребенок, что продаст вас, бедная Лиди: извините за слово «продаст», оно очень верно, он вас продаст, говорю я, за одну минуту спокойствия от наставлений своей матушки.
В эту минуту он увидел перед собою Воловских, мужа и жену. Воловская посмотрела на его спутницу и побледнела.
Званинцев это видел, и лицо его сделалось грустно.
– Я был у тебя сегодня, – сказал Воловский, пожимая весело его руку.
– Merci. [134]134
Спасибо (франц.).
[Закрыть]
И, кивнув головою Лиди, он пошел с ними.
– Походи, пожалуйста, с женою, – начал Воловский: – мне надо поговорить вот с этим гвардейским полковником, что стоит подле дамы в цыганке.
Званинцев и Воловская пошли вместе.
– Кто это? – спросила она с беспокойством, следя глазами за быстро удалявшейся Лидией.
– Так, дочь одного приятеля.
– Она чудесно хороша! – сказала опять Воловская, грустно поникнув головою.
Званинцев взглянул на нее с изумлением. Ему, кажется, было непонятно, чтобы она могла ревновать.
– Неужели я в ней ошибся? – подумал он . . . . . . . . . .
– Неужели я в ней ошибся? – продолжал думать Званинцев, входя на другой день утром в гостиную Воловских и останавливаясь перед занавесом арки, отделявшей эту комнату от спальни Мари.
Он остановился, как будто в нерешимости, но только на минуту. Он отдернул и тотчас же опять задернул за собою занавес. Мари лежала на диване, бледная, расстроенная, с заплаканными глазами.
– Что с тобою, Мари, что с тобою, мой добрый ангел? – сказал он, взявши обе ее руки.
Она зарыдала.
– Ты меня не любишь, – прошептала она.
– Безумная! – почти вскричал Званинцев, сжавши с необыкновенною силою ея руки, – безумная, – повторил он тише. – Если я что-нибудь искренно любил в мире, так это тебя… тебя, слышишь-ли ты, одну тебя и только тебя!
И, упав почти на колени, он покрывал горячими поцелуями ее ноги, ее платье….
– Мари, Мари, – говорил он страстным голосом, – я только с тобою таков, каков я на самом деле, я люблю тебя с бешенством дикого зверя.
И глаза его засверкали.
Мари вскрикнула и поднялась с дивана. Она поняла, что ее долг, ее верования висят на тонкой нитке.
– Опять! – с отчаянием сказал Званинцев, – опять! – повторил он глухим голосом, – чиста, как мрамор, холодна, как мрамор. Любовь, говоришь ты, – хороша любовь! О, Мари, что за любовь, у которой есть пределы!
– Ты хочешь, чтобы я умерла, – сказала Воловская боязливо и грустно, – ты знаешь… я твоя раба… ты знаешь это, но я умру, я умру…
И она зарыдала, закрывши лицо руками.
Он встал.
Он был грозен, как привидение, неумолим, как палач.
Она взглянула на него с немою покорностию.
Когда муж Воловской возвратился домой поздно вечером, он нашел жену в бреду лихорадки.
Доктор, за которым послала ее компаньонка, объявил ему, сжавши губы, что жена его больна нервической горячкой.
Через три дни она умерла.
Воловский оплакал ее столько, сколько прилично порядочному мужу оплакивать жену, и похоронил ее очень великолепно.
Званинцев, впрочем, не был на похоронах.
Его не было нигде видно с неделю, но потом он, как прежде, являлся везде, суровый, насмешливый, холодный. Только и заметили в нем нового, что он везде ездил с молодым человеком, который у него жил. Молодой человек был одет всегда в черном, был молчалив и важен. Он всегда в клубе играл в преферанс с Званинцевым и Воловским, который сделался тоже почти неизменным спутником Званинцева.
Собрания у Мензбира делались все чаще и чаще; но Званинцев вытеснил оттуда Сапогова и почти всех прежних игроков, заменивши их новыми, которые все были люди очень приличные и прекрасно говорили по-французски…
Эпизод второй *
Антоша
К нашей жизни не привились еще маскарады, это старая истина, в Москве ли, в Петербурге ли, они всегда необычайно скучны. Разговоры масок до нелепости пошлы. Язык ли уж наш виноват в этом, другое ли что, только они никак не выходят из спряжения глагола знать, и постоянно слышите вы: я тебя знаю, или: я тебя узнал, повторяемые часто несколько раз одному и тому же лицу, вероятно за неимением сказать ему ничего поважнее. Порой только мелькнет, как молния, быстрая и жгучая французская фраза, сказанная страстным шепотом, порой только маленькая ручка сожмет с неженскою силою чью-нибудь избраннуюруку и за трауром маски загорятся два огонька глаз…. но это так редко, так редко, но это выпадает на долю слишком немногих, да и для этих немногих даже слишком необыкновенно подобное явление. Нет! не дались нам страсти, мгновенно вспыхивающие, опаляющие страсти, – ленива русская природа, простор любит русская природа, простор во всем, даже и в любви. Эта страсть к простору делает наших порядочных людей самыми порядочными людьми на свете, порядочнее даже англичан, которые зевают от пресыщения, тогда как мы зеваем от, благодатного устройства организма, но бог с ней, с этой порядочностью, – как часто, страдая не зевотою пресыщенья, но пресыщением зевоты, хотел бы, вероятно, каждый из нас быть в состоянии хоть чему-нибудь удивляться * , в противность совету древнего.
Посмотрите, пожалуйста, вот в этой огромной зале большого театра движется с полсотни пар, медленно, лениво прохаживающихся взад и вперед под бесовски-неистовые звуки, раздающиеся с верхнего балкона; вот впереди всех господин с Анною на глее, с страшно отъевшеюся физиономиею, и об руку с ним темно-коричневое женское домино, с вялыми движениями, с тяжелой ступней немки… о немки, немки!.. в какую полусонную минуту создает вас вечная мать-природа, утомившаяся разнообразием резких южных профилей! И чем бы, кажется, не женщины – чудесный бюст, правильное очертание лиц, идеально правильное, и на каждом лице печать казенной чувствительности, но глаза… глаза, в этих больших, голубых, вечно спокойных глазах вам уже нечего искать с самой первой минуты, как вы их увидели, эти глаза, пожалуй, чисто небесные, но ведь чем ближе к небу, – холоднее, говорит пословица. И эта речь, эта речь приторно-сладкая, не частая, не рассыпчатая речь француженки, не полногласно певучая речь южной женщины, не ленивая даже, но полная соблазна речь русской женщины, а немецкая речь, пересыпанная вечными Ach! и до бесконечности протянутыми Ja… о немки, немки! они только тогда и хороши, когда погибают рано, как все героини Шиллера, – но беда, истинная беда, когда немка дожила уже до того возраста, когда она узнает толк в бестолковом Жан-Поле. О! тогда она замучит себя и других приторной аффектациею чувства, она пересластит самую любовь до того, что нужна детская страсть к конфетам, чтобы понять эту любовь, она из каждого мелкого чувства сделает маленькое чудовище на муку ей самой и другим, разумея под этими другими не немцев. Немцев сама природа создает для немок.
Но я увлекся, я начал маскерадом и пишу о немках. Не виноват – что же делать, когда нет русских женщин. Где они – давайте их, русских женщин!.. Мы не видели еще русских женщин. В Москве и Петербурге есть барышни, в Москве есть барыни, в Петербурге есть чиновницы: но ни в Москве, ни в Петербурге нет женщин, не родятся женщины – почва такая! А если и появится женщина, то ведь и там и здесь, по слову Пушкина, она – беззаконная комета в кругу расчисленном светил * .
Званинцев скучал невыносимо, ходя об руку с какою-то схваченною им на лету женскою маскою и слушая ее догматические, заказные Liebeleien. [136]136
любезности (нем.).
[Закрыть]
Наконец, остановясь с ней недалеко от главного входа и направивши лорнет на ложу бельэтажа, он очень нецеремонно снял ее руку с своей.
– Du labt mich… Schame dich! [137]137
Ты оставляешь меня… Постыдись! (нем.).
[Закрыть]– с невыносимою нежностью сказала его маска, но, не получа ответа, тотчас же схватила руку довольно толстого господина с лысиной на голове, сказавши: – Ich kenne dich. [138]138
Я знаю тебя (нем.).
[Закрыть]
В ложе, в которую был направлен лорнет Званинцева, стоял, опершись на балюстраду, молодой человек. Он смотрел вниз, ища, казалось, кого-то глазами, и, наконец, быстро вышел из ложи.
– A! – почти вслух сказал Званинцев, надвинув шляпу и садясь на балюстраду одной ложи бенуара.
Взгляд его вскоре отыскал опять молодого человека, который, сошедши с лестницы из бельэтажа в залу, почти тотчас же подал руку маленькому белому домино и вмешался с ним в толпу.
Званинцев обратился к капуцину, стоявшему недалеко от него и давно уже неподвижному, как статуя.
– Послушай, – сказал он ему довольно тихо.
Тот не отвечал.
– Антон Петрович, – громче повторил Званинцев.
Капуцин невольно вздрогнул, Званинцев улыбнулся.
– Ты задумался не на шутку, – продолжал он.
– А что? – равнодушно спросил тот.
– Вот что, – сказал Званинцев. – Тебе все равно – быть замаскированным или незамаскированным?
– Почти… меня никто здесь не знает.
– Так дай мне, пожалуйста, твоего домино.
– Пожалуй – зачем тебе?
– Мне это нужно.
И они вышли вместе.
Почти вслед за их уходом явился молодой человек с маленьким домино. Молодой человек был Севский.
– Знаете ли, Лиди, – говорил он своей спутнице печальным тоном, – знаете ли, что вам грех меня так мучить?
– Вас мучить, – повторила со смехом девочка, – разве я вас мучу?
– Если б вы знали, – продолжал он, – чего мне стоило быть сегодня здесь… о Лиди! Пожалейте обо мне, если вы меня точно любите.
– Мне вас жаль, – сказала холодно его маска.
– Да я сказал, впрочем, не с тем, чтобы вы обо мне жалели… Мне уж теперь все равно, – отвечал Севский с какой-то отчаянной решимостью.
– Право? – засмеялась Лиди… – вам все равно, говорите вы, вам все равно… а ваша матушка…
– Лиди, Лиди, – говорил Севский страстно, – вы знаете, что я люблю вас, вы этому верите, вы должны этому верить.
С ними поравнялся почти в эту минуту капуцин и пропустил их вперед.
– О! да, я вам верю, Севский, – прошептала рассеянно Лиди… – но что вы так странно смотрите?
– Этот капуцин, – сказал ей на ухо Севский с видимым волнением.
– Ну что же? – спросила она и, засмеявшись, опять показала свои хорошенькие зубки.
– Если этот капуцин – Званинцев?
Лиди робко взглянула в сторону, но капуцин исчез.
– Так что же нам до него? – сказала она наконец.
– Что?.. Я ненавижу этого человека, Лиди… он беспрестанно следит за вами.
– Следит за мной? – с трепетом спросила Лиди.
– Бывают минуты, когда мне хочется убить его, – сказал Севский.
Севский и Лиди исчезли снова в толпе.
– Здравствуй, Воловский, – сказал капуцин, подходя к своему приятелю, разговаривавшему с человеком, которого лысина показывала с первого раза его солидность.
– Здорово, – отвечал Воловский, пожимая его руку. – Что тебе за охота нарядиться шутом?
– Так; мне надоело кланяться разным господам.
– Отсюда ты куда? – спросил Воловский, зевая.
– В клуб конечно, а ты?
– И я тоже. Да вот вместе, втроем, господа, отправимтесь, – продолжал Воловский, обращаясь к своему собеседнику… – Рекомендую вам, Степан Степанович, моего приятеля Званинцева… Званинцев! Степан Степанович, мой начальник…
– И хороший приятель, добавьте, – сказал человек с лысиною, подавая руку Званинцеву. – Я давно хотел с вами познакомиться, – обратился он к Званинцеву.
Званинцев поклонился.
– Не родня ли вам, – начал он, – молодой Севский…
– Николаша? – спросил толстяк.
– Кажется, – отвечал Званинцев.
– А вы почему его знаете? он мой родной племянник, сын моего брата.
– Я с ним виделся в одном доме, – сказал Званинцев.
– А! верно у Мензбира?
– Вы угадали.
– Ох, уж мне этот дом! – сказал толстяк, сжавши губы. – Вам и Воловскому, разумеется, ничего быть где угодно, но Николаша… Хоть бы вы его остановили, право, а кстати, как звать вас по имени и по отчеству? – добавил он, нюхая с расстановкою табак из серебряной табакерки.
– Иван Александрович, – отвечал за Званинцева Воловский.
– Ну да, хоть бы вы его остановили, право, Иван Александрович. Я уж ему говорил, да что? нас, стариков, не слушают. Матушка его – хоть и родня моя, а баба вздорная, ничего не умеет делать толком. Подымет всегда содом такой, что боже упаси, а путного ничего не сделает. А Николашу, право, жаль, я его люблю, малой славный.
– Я его, кажется, видел сегодня, – сказал Званинцев, как будто б отклоняя разговор.
– Где?
– Здесь, – спокойно отвечал Званинцев и тотчас же отошел от Воловского.
– Куда ты? – спросил его тот.
Но Званинцев исчез уже в толпе.
– Так он здесь? – заметил как бы про себя толстяк… – как бы его встретить, право?
– Что ж, пойдемте на счастье, – сказал Воловский.
Они пошли.
Через несколько минут им в самом деле попался молодой Севский об руку с Лиди.
– Да, – говорил он с жаром, – я знаю, что когда-нибудь один из них непременно столкнется с другим, я это знаю – и тогда…
– Кто это столкнется, мой любезнейший, и с кем? – перервал его вовсе неожиданным смехом чей-то знакомый голос.
Он остолбенел… Перед ним стоял его дядюшка и очень добродушно хохотал, показывая на Лиди чуть не пальцем.
– Ага! попался, друг? – продолжал он. – Молодец, право! кто это. с тобой?
– Дядюшка, – с досадой начал Севский.
– Ничего, ничего, – говорил Степан Степанович, – я тебе мешать не буду, это все, братец, ничего, на все это мое тебе разрешение… Вот только к Мензбиру.
Лиди вспыхнула под маской и почти насильно повлекла молодого Севского дальше от хохотавшего Степана Степановича.
– И я должна это слышать, – почти вскричала она, – и из-за вас, сударь, из-за вас.
Севский был уничтожен…
– Лиди, – начал он покорным голосом, – требуйте от меня чего хотите, но сжальтесь надо мною… Есть вещи выше сил моих.
– Я ничего не требую, – сухо отвечала Лиди и, бросивши его руку, подбежала быстро к женской маске.
– Поедемте, тетушка, – сказала она повелительно и схватила за руку маску.
– Здравствуйте, Лидия Сергеевна, – сказал ей почтительным голосом Позвонцев, стоящий в двух шагах от нее, – я вас узнал.
– А! это вы, здравствуйте, – рассеянно отвечала Лидия.
– Куда вы спешите? – начал опять тот.
– Пора, мне скучно… впрочем… я останусь… пойдемте со мною. – И, схвативши руку Позвонцева, она пошла с ним быстро мимо бледного Севского, который, сложивши руки на груди, прислонился к эстраде.
– Послушайте, друг вашздесь? – начала Лидия, с особенно злым ударением на слове друг.
– Здесь, если вы так называете Званинцева, – тихо и грустно отвечал Позвонцев.
– Как же иначе? вы с ним всегда вместе.
– Что ж вы не добавляете, что он мой благодетель, – с горькой улыбкой заметил Позвонцев.
– Благодетель? – с удивлением сказала Лидия.
– Неужели вы об этом не слыхали? – отвечал Позвонцев тем же грустным тоном. – Ну, так я вам скажу это, несмотря на то что терпеть не могу всяких благодеяний. Да… Званинцев спас меня, – продолжал он равнодушно-гордо.
– Ах, боже мой, что мне за дело до этого? – с нетерпением перервала Лидия.
Позвонцев грустно взглянул на нее.
– Так вам до этого вовсе нет дела? – спросил он. – Впрочем, это и понятно, что вам до меня, вам, которой ни до кого нет дела.
Лиди посмотрела на него пристально. В его тоне слышалось что-то очень странно грустное.
– Но вот и он, – сказал Позвонцев, увидевши недалеко капуцина, – передаю вас ему, – прибавил он с поклоном.
– О, нет, нет, – прошептала Лиди, сжимая невольно его руку.
Но Званинцев уже стоял подле нее и предлагал ей свою руку. Она не могла не пойти с ним.
– Ну-с, где же ваш Севский? – беззаботно спросил Званинцев, – неужели дядюшка был так неучтив… чтобы…
– Итак, это вы, это все вы, – сухим и резким тоном отвечала девочка.
– Да я – и все я, и везде я… – со смехом возразил Званинцев.
– Я вас ненавижу, – с силою прошептала Лидия.
– Благодарю вас. Но согласитесь, однако, что я говорил вам всегда правду, моя бедная Лиди, – сказал он с участием, смотря на нее пристально. – Вас продадут, мой бедный ребенок, продадут при первом опасномслучае.
– Я его люблю, – опять прошептала Лидия, – слышите ли вы, я его люблю.
– Можете, – спокойно отвечал Званинцев. – Впрочем, и я его очень люблю.
– Я это знаю, – с досадою заметила Лидия.
– Только по-своему, – равнодушно продолжал он, – надобно, чтоб он сам узнал, до какой еще степени он ребенок. Он, кажется, сбирается убить меня – по крайней мере, мне так послышалось. К сожалению, ему не удастся даже и этого, бьюсь об заклад: на это все-таки нужна твердость… хоть руки, пожалуй.
Лидия вырвала свою руку из руки Званинцева и, схвативши тетку, увлекла ее к выходу.
Званинцев уехал в клуб.
Севский тоже исчез.
Один Позвонцев долго еще стоял у балюстрады, прикованный глазами к выходу…
. . . . . . . . . .
Было три часа ночи. Около часу уже Позвонцев, не раздеваясь, сидел в больших креслах в кабинете Званинцева. Взгляд его был дик и мутен; наконец он обмахнул лоб рукой, как человек, желающий согнать упорно засевшую в голову мысль.
Так! то, в чем искал он спасения, стало для него источником муки. Что из того, что этот человек, насмешливый, суровый и гордый со всеми, не стыдится перед ним плакать, пожалуй, что из того, что он сам, когда-то раб и приспешник Сапогова, когда-то полупомешанный Антоша, теперь имеет полную возможность и думать и грезить сколько душе угодно, что из того, что ему не отвратительно теперь возвращаться домой, – все-таки он погиб, он погиб потому, что никогда, никогда не удастся ему высказаться, что нечто гнетет и давит его и мешает ему высказаться.
А может быть, и ошибка – это желание высказаться… какие, в самом деле, формы бытия ему еще нужны? Он свободен, он не связан ничем даже нравственно, ибо все старые связи им разорваны, а Званинцев всего менее хочет ограничивать его произвол. Уж точно, есть ли в нем его собственная личность, как приходила ему мысль в былые годы?
Но это желание, но это стремление, эта тоска безысходная и это чувство своего духовного превосходства? Но это прошедшее, все полное мук и пыток, это прошедшее, с самого детства залитое слезами… Нет, нет, для него еще придет час освобождения, час примирения, за эти муки судьба еще должна заплатить счастьем. Иначе что же после этого упования живой души.
Прошедшее, грустное прошедшее… Вот перед ним, как китайские тени, мелькают картины этого прошедшего.
– Вот опять перед ним маленькие комнаты в одном из отдаленных углов Москвы, вот опять целый однообразно глупый, страшный день. Ему восьмнадцать лет, бедному малому, а ему каждое утро чешут головку костяным гребнем за догматическим чаем: ему больно физически, ему больнее нравственно, – но костяный гребень все-таки чуть не до крови чешет его голову, и льются неумолкающие жалобы из уст больной матери – бедная, больная женщина! Вот опять перед ним ее бледное, изможденное страданием лицо, ее лихорадочно блестящие глаза, ее болезненная злость, – и ему хочется рыдать о ней, его бедной матери, о ней, которая мучила его всеми истязаниями пыток… И вот опять, кажется, является вечно пьяный повар, и отец его в задумчивости начинает ходить по комнате, изобретая кушанья… а Антоше тяжко смотреть на эту задумчивость, он знает, что при первом неудачном желании какого-нибудь кушанья мать не утерпит, чтобы не сказать что-нибудь очень язвительное, и отец вспыхнет, покраснеет, раскричится – и расстроенный пойдет в свою тяжелую должность. И у бедного ребенка сжимается сердце, и еще больше сжимается оно, когда по уходе отца мать начинает свои бесконечные монологи об отце, о том, как он ничего беречь не умеет, о том, что он живет только в своих родных. И она плачет, она действительно плачет, она искренно страдает, бедная больная женщина, но она не в силах понять, что от этих монологов с каждым днем худеет и худеет сын, она еще спрашивает, отчего дрожат, как на проволоках, его руки, не могущие удержать чайной чашки. Но он вырвался наконец… он там, куда рвался давно, он сидит на лавке против кафедры, он слушает, он усердно слушает, ибо это его единственно спокойные минуты; в голове его совершается умственный процесс, идея вяжется за идею, великолепное здание является пред очами духа… но боже, боже – нет основы у этого здания * , и оно рушится, и перед ним бездна, страшная бездна, и перед ним невозможность здания… И вот раздается голос – его зовут; он бледнеет, он трепещет, ибо знает, что хоть здесь должен он быть первым, ибо он честолюбив и горд, бедный ребенок. И зато какими муками искупает он минуты своих академических торжеств! Он готов до бесконечной преданности привязываться к глашатаям истины, он думает еще, что есть люди, которые больше его разумеют цель жизни, он винит себя за то, что не видит цели в мертвых отвлечениях науки, он презирает самого себя, он рыдает целые ночи, он мучит себя целые дни над книгами… а взгляд его на жизнь не просветлел нисколько.
И предстает ему иная сфера жизни. Он уже понял, что обман, что лицемерие – вся эта научная деятельность, – и он усвоил себе этот обман, он стяжал себе им уважение глупцов и дружбу лицемеров. Он подает большие надежды, бедный ребенок, – беда в том только, что на вечерах известных кружков еще не играет он в преферанс, по причине весьма естественной, потому что ему не на что играть, потому что его касса, точно так же, как прежде, каждое утро поверяется матерью, по окончании обыкновенной операции костяного гребня… Ну, да это еще ничего, что он не играет в преферанс, зато он хорошо рассуждает, обо всем рассуждает, об астрономии, пожалуй, которой он никогда не учился, зато он рекрасная душазато он примерный сын, солидный молодой человек.
И вот из-за множества фантасмагорических призраков с длинными носами, с догматическими физиономиями – мелькает легкий, воздушный образ девочки. Лицо ее очень простодушно и мило, голубые глазки смотрят так преданно, так покорно, и она, как и многие, замечает часто следы нравственных страданий на лице молодого человека, но она одна высказывает ему это почти прямо: о! я знаю, вы часто плачете– говорит ему она своим детским голосом, – ведь это смешно, смешно, боже мой! что женщина уличает мужчину в слезах, но вспомните, что этот мужчина – больной ребенок, истерзанный нравственными пытками. И пусть речи этого ребенка полны часто злой иронии, пусть в иную минуту, в иной вечер девочка в состоянии подчиниться тягостному влиянию этих речей, в состоянии грустить сама и говорить ему об этом простодушно-откровенно, – все же он ребенок, все же ведь она, же потом скажет ему: вы много читали… мало жили.
И ночь, ночь волшебная, редкая, прозрачная ночь перед взором Позвонцева – ночь, какую можно видеть только в грезах детства, и тихое качанье кареты, и робкий, и грустный взгляд девочки, которой впервые открыл он, что она – женщина, которой еще не верится это…
О, зачем, зачем исчез этот детский профиль, эта простодушная покорность, зачем вызвал он сам эти прозрачно-бледные черты, эти болезненно-сверкающие очи; зачем он должен быть ее демоном. Но он будет им, он им будет – он будет демоном, если она может любить только демона.
И призраки смешались, и прошедшее исчезло, и Позвонцев глухо рыдал все о нем, о прекрасном легком призраке…
Ибо что такое теперь, в самом деле, вся жизнь его?.. Неконченная драма, остановившаяся на четвертом акте… Все развитие совершено, оставалось пережить только катастрофу, а ее-то и не было. Бедная, странная жизнь, скептический вопрос без разрешения…
И что ж теперь?.. о! он в состоянии проклинать ту минуту, когда он был спасен Званинцевым… Пусть он нежен с ним, как женщина, этот человек, – все равно, он спас его – и они неравны. Есть человек, которого невольно должен Позвонцев признать по крайней мере хоть своим старшим братом. А он опять влюблен, влюблен страстно и безумно – зачем станет он скрывать это от себя? Да, он влюблен; но имеет ли право на любовь? Он уже слишком стар, чтобы подчиниться женщине, – он еще слишком молод, чтобы подчинить ее себе. Нет, нет – вон, с корнем, вон эту страсть из сердца, эту глупую безрассудную страсть. Он не должен больше любить, потому что не может любить по-своему. Так, так – и он покорен этому решению рока, но что же осталось ему? Жизнь так пустынна, так печальна, будущего нет более, остается одно прошедшее, мучительное своей безвозвратностию.








