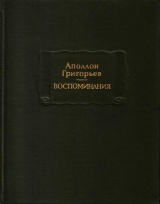
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Аполлон Григорьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям *
В 1844 году я приехал в Петербург, весь под веяниями той эпохи, и начал печатать напряженнейшие стихотворения, которые, однако, очень интересовали Белинского, чем ерундистее были.
В 1845 году они изданы книжкою. Отзыв Белинского * .
В 1846 г. я редактировал «Пантеон» и – со всем увлечением и азартом городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую. Но за то свою – не кружка.
В 1847 году поэтому за первый свой честный труд, за «Антигону», я был обруган Белинским * хуже всякого школьника.
Я уехал в Москву – и там нес азарт в «Городском листке» – но опять-таки свой азарт – и был руган.
Вышла странная книга Гоголя * , и рука у меня не поднялась на странную книгу, проповедовавшую, что «с словом надо обращаться честно».
Вышла моя статья в «Листке», и я был оплеван буквально [подлецом] именем подлеца, Герценом и его кружком.
В 1848 и 1849 году я предпочел заниматься, пока можно было, в поте лица – работой переводов в «Московских ведомостях» * .
В 1850 году – послал, не надеясь, что она будет принята, – статью о Фете * . Приняли. Я стал писать туда летопись московского театра. Не надолго. Не переварилась.
Явился Островский и около него как центра – кружок, в котором нашлись все мои, дотоле смутные верования. С 1851 по 1854 включительно – энергия деятельности * – и ругань на меня неимоверная, до пены у рту. В эту же эпоху писались известные стихотворения * , во всяком случае, замечательные искренностью чувства.
«Москвитянин» падал от адской скупости редактора * . «Современник» начал заискивать [меня] Островского – и как привесок – меня, думая, что поладим. Факты. Наехали в Москву Дружинин и Панаев. Боткин (дотоле враг, оттоле приятель) свел меня с ними.
С 1853 по 1856, разумеется урывками, переводился «Сон» * . Летом 1856 года я запродалего Дружинину за 450 р.
Летом же написана одна из серьезнейших статей моих – «Об искренности в искусстве», в «Беседе» * . Молчание.
Вдруг совсем неожиданно я явился в «Современнике» с прозвищем «проницательнейшего из наших критиков».
В 1857 году выдался случай ехать за границу. Там я ничего не писал, а только думал. Результатом думы были статьи «Русского слова» в 1859.
Возврат вообще был блистательный. Сейчас же готовились выдать патент на звание обер-критика. Некрасов купил у меня разом 1) «Venezia la bella», 2) «Паризину» Байрона и 3) «Сон» в его будущее издание Шекспира.
В мое отсутствие вышли только – 1) мои стихотворения лучшей, москвитянинской эпохи жизни * – у Старчевского в «Сыне», 2) статьи о критике в «Библиотеке» * (mention honorable [10]10
почетная награда (франц.).
[Закрыть]с готовым патентом на обер-критика) и «Сон».
При статьях «Русского слова» * – вот как: цензор Гончаров сам занес мне первую * , с адмирациями * . При последующих – град насмешек Добролюбова * , взрыв ослиного хохота в «Искре» * и проч.
Немало меня удивили потом братья Достоевские, Страхов, Аверкиев мнением о них – и особенно Ильин * , катающий из них наизусть целые тирады.
А мысли-то мои прежние, москвитянинские – вообще все как-то получили право гражданства.
В июле 1859 в отъезд графа Кушелева – я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях дорогие мне имена Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики. Факт.
Негде было писать – стал писать в «Русском мире» * . Не сошлись. У Старчевского * не сошлись.
В 1860 году – я получил приглашение и вызов * . Я поехал на свидание и привез ответ на дикий вздор Дудышкина * «Пушкин – народный поэт». Читал Каткову – очень нравилось. Отправился в Москву через месяц в качестве критика. Статей моих не печатали * , а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах и читать рукописи, не печатая, впрочем, ни одной из мною одобренных (между прочим, «Ярмарочных сцен» Левитова) * и печатая…евины Раисы Гарднер * – обруганные мною по-матерну. Зачем меня приняли? Бог единый ведает… За тем должно быть, чтобы после заявлять, что я стащил у них со стола гривенник * . Факты.
Опять в Петербург. Начало «Времени»… Хорошее время и время недурныхмоих статей. Но с четвертой покойнику M. M. – стало как-то жуткочастое употребление имен (ныне беспрестанно повторяемых у нас) Хом и проч.
Вижу, что и тут дело плохо. В Оренбург.
Воротился. Опять статьи во «Времени»… Дурак Плещеев – писал, между прочим, Михаилу Михайловичу * по поводу статей о Толстом * , что «в статьях Григорьева найдешь всегда много поучительного». Еще бы – для него-то, бабьей сопли! Получше люди находили – да еще тирады, как Ильин, наизусть катали!
Недурное тоже время! Ярые статьи о театре * – культ Островскому и смелые упреки Гоголю за многое * – бесцензурно и беспошлинно.
Нецеремонно перенес три больших места из старых статей в новые, не находя нужным этих мест переделывать. Опять «в похищении гривенника» возрадовавшимися этому нашими врагами * , и обвинен в неизвинительной распущенности друзьями, забывшими – что целый год зеленого «Наблюдателя» – статьями целиком, как о Полежаеве, переносил в «Записки» Белинский * .
Запрет «Времени» * . Горячие статьи в «Якоре».
Опять «Эпоха». Опять я с теми же культами – теми же достоинствами и недостатками. Цензура!
Ну – и что ж делать?.. Видно, и с «Эпохой», как критику, а не как другу конечно и не как писателю – приходится расставаться… Тем более… но пора кончить.
1864 года. Сентября 2.
Писано сие конечно не для возбуждения жалости к моей особе ненужного человека, а для показания, что особа сия всегда, – как в те дни, когда верные 50 рублей Краевского за лист меняла на неверные 15 рублей за лист «Москвитянина», – пребывала фанатически преданною своим самодурным убеждениям.
Мои литературные и нравственные скитальчества *
Посвящается М.М. Достоевскому
Вы вызвали меня, добрый друг * , на то, чтобы я написал мои «литературные воспоминания». Хоть и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни.
Мне сорок лет, и из этих сорока по крайней мере тридцать живу я под влиянием литературы. Говорю «по крайней мере», потому что жить, т. е. мечтать и думать, начал я очень рано; а с тех пор, как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями литературными.
Меня, как вы знаете, нередко упрекали, и пожалуй основательно, за употребление различных странных терминов * , вносимых мной в литературную критику. Между прочим, например, за слово «веяние», которое нередко употребляю я вместо обычного слова «влияние». С терминами этими связывали нечто мистическое, хотя было бы справедливее объяснять их пантеистически * .
Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах.
взываю я к ним порою, и слышу и чую их веяние…
Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство, – эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья * , – эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком» * . Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая * , в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству… А тут является колоссальный роман Гюго * и кружит молодые головы; а тут Надеждин в своем «Телескопе» то и дело поддает романтического жара переводами молодых лихорадочных повестей Дюма, Сю, Жанена.
Яснеет… Раздается могущественный голос, вместе и узаконивающий и пришпоривающий стремления и неясные гадания эпохи, – голос великого борца, Виссариона Белинского. В «Литературных мечтаниях», как во всяком гениальном произведении, схватывается в одно целое все прошедшее и вместе закидываются сети в будущее.
Веет другой эпохой.
Детство мое личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью. Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью. Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут. На входном пороге этой эпохи написано: «Московский университет после преобразования 1836 года» * – университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма * , с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой, – университет Грановского.
Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербуржская литература… * В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние * , – но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской «Тли» * , мир «Песцов», «Межаков» * и других темных личностей, мир «Александрии» * в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского * , с особенным креслом для одного богатого купчика и вместе с высокой артисткой * , заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир.
И затем – опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди, люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые «продерживают» * в самих себе и в других все напускное, все подогретое, и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все «народное», даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел почти заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы, – поднимается в душе с нежданною силою и растет, растет до фанатической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды… Пять лет новой жизненной школы * .
И опять перелом.
Западная жизнь воочию развертывается передо мною чудесами своего великого прошедшего и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры.
Таков процесс умственный и нравственный.
Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом. Если для этого достаточно будет одной искренности, – искренность будет полная, разумеется по отношению к умственной и моральной жизни.
Одно я знаю: я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый исторический интерес.
1862 г. сентября 12.
Часть первая
Москва и начало тридцатых годов литературы
Мое младенчество, детство и отрочество
I. Первые общие впечатления *Если вы бывали и живали в Москве, да не знаете таких ее частей, как, например, Замоскворечье и Таганка, – вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере * , может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою. От ядра всех русских старобытных городов, от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город * ; потом разросся земляной город * , и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое. Общий закон нашей истории – уход земской жизни из-под внешней нормы в уединенную и упорную замкнутость расколов, повторился и в Москве, то есть в развитии ее быта.
Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатирически; кто не изображал его так? – Право, только ленивый!.. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. А эти стороны есть – ну, хоть на первый раз – внешние) наружные. Во-первых, уж то хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах; во-вторых, в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались… Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь…
Пойдемте, например, со мною от большого каменного моста * прямо, все прямо, как вороны летают. Миновали мы так называемое Болото… да! главное представьте, что мы идем с вами поздним вечером. Миновали мы Болото с казенным зданием винного двора * , тут еще нет ничего особенного. Оно, пожалуй, и есть, да надобно взять в сторону на Берсеневку * или на Солодовку * , но мы не туда пойдем. Мы дошли до маленького каменного моста * , единственного моста старой постройки, уцелевшего как-то до сих пор от усердия наших реформаторов-строителей и напоминающего мосты итальянских городов, хоть бы, например, Пизы. Перед нами три жилы Замоскворечья * , то есть, собственно, главных-то две: Большая Полянка да Якиманка, третья же между ними какой-то межеумок. Эти две жилы выведут нас к так называемым воротам: одна, правая жила – к Калужским, другая, левая – к Серпуховским * . Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда действительно составлявших крайнюю грань городского жилья, давно уж нет, и город-растение разросся еще шире, за пределы этих ворот.
Я мог бы пойти с вами по правой жиле, и притом пойти по ней в ее праздничную, торжественную минуту, в ясное утро 19 августа * , когда чуть что не от самого Кремля движутся огромные массы народа за крестным ходом к Донскому монастырю, и все тротуары полны празднично разрядившимся народонаселением правого Замоскворечья, и воздух дрожит от звона колоколов старых церквей, и все как-то чему-то радуется, чем-то живет, – живет смесью, пожалуй, самых мелочных интересов с интересом крупным ли, нет ли – не знаю, но общим, хоть и смутно, но общественным на минуту. И право, – я ведь неисправимый, закоренелый москвич, – хорошая это минута. Общее что-то проносится над всей разнохарактерной толпой, общее захватывает и вас, человека цивилизации, если вы только не поставите себе упорно задачи не поддаваться впечатлению, если вы будете упорно вооружаться против формы.
Но мы не пойдем с вами по этой жиле, а пойдем по левой, при первом входе в которую вас встречает большой дом итальянской и хорошей итальянской архитектуры * . Долго идем мы по этой жиле, и ничто особенное не поражает вас. Дома как дома, большею частью каменные и хорошие, только явно назначенные для замкнутой семейной жизни, оберегаемой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми псами на цепи; от внезапного яростного лая которого-нибудь из них, вскочившего в припадке ревности и усердия на самый забор, вздрогнут ваши нервы. Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице.
Дальше. Остановитесь на минуту перед низенькой, темно-красной с луковицами-главами церковью Григория Неокесарийского * . Ведь, право, она не лишена оригинальной физиономии, ведь при ее созидании что-тоявным образом бродило в голове архитектора, только это что-тов Италии выполнил бы он в больших размерах и мрамором, а здесь он, бедный, выполнял в маленьком виде да кирпичиком; и все-таки вышло что-то, тогда как ничего, ровно ничего не выходит из большей части послепетровских церковных построек. Я, впрочем, ошибся, сказавши, что в колоссальных размерах выполнил бы свое что-то архитектор в Италии. В Пизе я видел церковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую узорчатую и вместе так строго стильную, что она даже кажется грандиозною.
Вот мы дошли с вами до Полянского рынка * , а между тем уже сильно стемнело. Кой-где по домам, не только что по трактирам, зажглись огни.
Не будем останавливаться перед церковью Успенья в Казачьем * . Она хоть и была когдат-то старая, ибо прозвище ее намекает на стоянье казаков, но ее уже давно так поновило усердие богатых прихожан, что она, как старый собор в Твери, получила общий, казенный характер. Свернемте налево. Перед нами потянулись уютные, красивые дома с длинными-предлинными заборами, дома большею частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами; внутри глядит все так семейно и приветливо, что если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле.
Идя с вами все влево, я завел вас в самую оригинальную часть Замоскворечья, в сторону Ордынской и Татарской слободы * и наконец на Болвановку * , прозванную так потому, что тут, по местным преданиям, князья наши встречали ханских баскаков и кланялись татарским болванам.
Вот тут-то, на Болвановке, началось мое несколько-сознательное детство, то есть детство, которого впечатления имели и сохранили какой-либо смысл. Родился я не тут, родился я на Тверской; помню себя с трех или даже с двух лет, но то было младенчество. Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье.
Не без намерения напираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью.
Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху.
Мне это, коли хотите, даже и легче, потому что давно уже получил я проклятую привычку более рассуждать, чем описывать.
И вот прежде всего я не могу не остановиться на одной личной черте моего раннего развития, которая, как мне кажется, очень характеристична по отношению к целому нашему поколению. Во мне необыкновенно рано началась рефлексия – лет до пяти, именно с того времени, как волею судеб мое семейство переехало в уединенный и странный уголок мира, называемый Замоскворечьем. Помню так живо, как будто бы это было теперь, что в пять лет у меня была уже Аркадия, по которой я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серб – именно серб казалось мне настоящее. Этой Аркадией была для меня жизнь у Тверских ворот, в доме Козина * . Почему эта жизнь представлялась мне залитою каким-то светом, почему даже и в лета молодости я с сердечным трепетом проходил всегда мимо этого дома Козина у Тверских ворот, давно уже переменившего имя своего хозяина, и почему нередко под предлогом искания квартиры захаживал на этот двор, стараясь припомнить уголки, где игрывал я в младенчестве; почему, говорю я, преследовала меня эта Аркадия, – дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть общая примета моей эпохи, с другой, коли хотите, – дело физиологическое, родовое, семейное.
У всей семьи нашей была своя потерянная Аркадия, Аркадия богатой жизни при покойном деде до французского нашествия, истребившего два больших его дома на Дмитровке * ; и в особенности одна из моих теток * , натура в высшей степени мечтательная и экзальтированная, была полна этим «золотым веком». Разница в том только, что для нее Аркадия была на Дмитровке, для меня – на Тверской, и разница, кроме того, в эпохах.
Я родился в 1822 году. Трех лет я хорошо помню себя и свои бессознательные впечатления. Общественная катастрофа, разразившаяся в это время, катастрофа, с некоторыми из жертв которой мой отец был знаком по университетскому благородному пансиону * , страшно болезненно подействовала на мое детское чувство.
Детей большие считают как-то необычайно глупыми и вовсе не подозревают, что ведь что же нибудь да отразится в их душе и воображении из того, что они слышат или видят. Я, например, хоть и сквозь сон как будто, но очень-таки помню, как везли тело покойного императора Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе… *
Да, никто и ничто не уверит меня в том, чтобы идеи не были чем-то органическим, носящимся и веющим в воздухе, солидарным, преемственным…
То, что веяло тогда над всем, то, что встретило меня при самом входе моем в мир, мне никогда, конечно, не высказать так, как высказал это высоко даровитый и пламенный Мюссе в «Confessions d'un enfant du siecle». [13]13
«Исповедь сына века» (франц.).
[Закрыть]Напомню вам это удивительное место * , которым я заключу очерк преддверия моих впечатлений:
«Во времена войн империи, в то время, как мужья и братья были: в Германии, тревожные матери произвели на свет поколение горячее, бледное, нервное. Зачатые в промежутки битв, воспитанные в училищах под барабанный бой, тысячи детей мрачно озирали друг друга, пробуя свои слабые мускулы. По временам являлись к ним покрытые кровью отцы, подымали их к залитой в золото груди, потом слагали на землю это бремя и снова садились на коней.
Но война окончилась; Кесарь умер на далеком острове.
Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на небо, на улицы и на дороги, – все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении.
Три стихии делили между собою жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый материк от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями, по временам переплываемое далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом; настоящий век, наш век, одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то ни другое и походит на то и на другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху.
И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение, полумумию и полупрах; они подошли к нему, как путешественник, которому показывают в Страсбурге дочь старого графа Саарвердена, бальзамированную, в гробу, в венчальном наряде. Страшен этот ребяческий скелет, ибо на худых и бледных пальцах его обручальное кольцо, а голова распадается прахом посреди цветов.
О народы будущих веков! – заканчивает поэт свое вступление. – Когда в жаркий летний день склонитесь вы под плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, отирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, – скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало».








