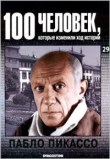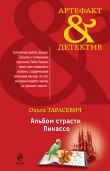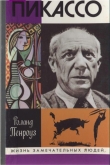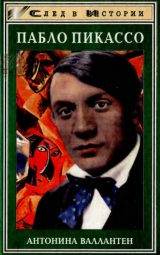
Текст книги "Пабло Пикассо"
Автор книги: Антонина Валлантен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА XVII
Свидание статуй
(1954–1956)

В октябре 1954 года Пикассо возвращается в Париж, при этом никто не знает, едет он туда на неделю, на 3 месяца или навсегда. Его переезды всегда очень поспешны и в них есть что-то окончательное; с одной стороны, они напоминают поход и лагерь с палаткой, которую ставят, чтобы пожить в ней лишь некоторое время, с другой – Пикассо сразу же устанавливает на новом месте Привычные правила, образующие как бы рамку для картины его жизни.
О его приезде сообщили на книжной распродаже, организованной Национальным комитетом писателей. Стенд, посвященный Пикассо, осаждали целые толпы.
13 декабря 1954 года Пикассо пишет два первых варианта «Алжирских женщин». На него явно повлияла спокойная чувственность двух произведений Делакруа на эту тему; появившуюся в его творчестве восточную атмосферу он связывает с присутствием Жаклин.
Двух из четырех женщин на своей картине он заимствует с полотна Делакруа, находящегося в Лувре: одна из них сидит, скрестив ноги, к зрителю она обращена в профиль, голова ее слегка наклонена. Женщина обнажена, у нее круглые груди и большой живот.
Часто на его восточных картинах появляется черная служанка, также позаимствованная у Делакруа. На большом этюде, выполненном в серых тонах, изображена как будто упавшая с кровати женщина. «Это тоже для «Алжирских женщин», – говорит Пикассо. Широкое лицо, разделенное тенью надвое, напоминает черты Жаклин. Пикассо рассматривает последние варианты: «Нет, это все не то. Но вместо того, чтобы переделывать одну и ту же картину, я просто начинаю каждый раз заново». Только 14-й вариант Пикассо счел окончательным (14 февраля 1955 года). На пестром, состоящем из контрастных цветов, фоне изображена спящая женщина, ее голубое тело состоит из треугольников и прямоугольных полос, ярко и четко выписаны груди; у служанки выпуклый укороченный зад и огромные груди, как у древнего идола. На переднем плане, украшенная, как церковная рака, сидит женщина с белым в синих тенях лицом и спокойным взглядом Жаклин.
В начале года в Канне умирает жена Пикассо Ольга. Вместе с ней уходит большая часть его жизни, его прошлого. Пикассо дарит одну из своих квартир на улице Гей-Люссак Инес, вторую оставляет Франсуазе Жило и детям. В Валлорис он тоже больше не вернется. Но южное солнце ему необходимо, и в один прекрасный день он покидает Париж с мыслью поискать себе жилище на побережье. Он думал, что уедет из Парижа всего на несколько дней, но выходит так, что туда он больше не возвращается. Не возвращается даже тогда, когда осенью 1955 года в Париже открывается большая выставка его произведений, хотя потом он и очень сожалел о том, что не смог еще раз увидеть те свои картины, которые принадлежали теперь московскому и ленинградскому музеям.
Он покупает большую виллу в Канне, на Калифорнийских холмах. И потихоньку начинает ее обживать. Обзаведясь самым необходимым: кроватями, столом, стульями, он тут же перевозит сюда все скульптуры и картины из мастерской на улице Гранд-Опостен и из Валлориса, а также все те вещи, к которым за долгую свою жизнь успел привыкнуть и не собирается с ними расставаться.
Пикассо всегда сознавал исключительность своего таланта. В нем живет страстный интерес к самому процессу создания, к переходу от вдохновения к исполнению, к связям между умственными процессами и ручным трудом; он не перестает исследовать все это в своих произведениях.
Тем временем появляется новый способ, благоприятствующий эксперименту. Пикассо получает цветные чернила, пропитывающие материал, на котором он пишет, так что изображение проступает на другой стороне. И тогда у Клузо, режиссера, снимавшего фильмы о Пикассо, появляется идея запечатлеть то, что он назовет «тайной Пикассо». Теперь камера способна фиксировать процесс появления изображения с обратной стороны белого холста, причем зритель не видит художника.
Клузо хотел сначала снять короткометражный фильм, но открывающееся ему таинство работы Пикассо кажется настолько захватывающим, что он начинает понимать: коротким фильмом он не ограничится, этого слишком мало. Итак, камера следит за появлением изображения с обратной стороны холста, затем Клузо перемещает ее и снимает Пикассо за работой, время от времени показывая ее результат. При этом он просит художника встать и отойти в сторону. «Ты закончил с красным цветом?» – спрашивает Клузо. «Да». «Тогда встань». Начинает работать камера. «Все, можешь садиться». И Пикассо продолжает работать. «За те два часа, что Пикассо рисовал голову быка, я видела, как он вставал и садился семьдесят восемь раз», – говорит Франсуаза.
Пикассо работает, пот стекает по его лысому черепу, по спине, но он по-прежнему способен вскакивать, как будто его подбросило пружиной. У него усталое лицо, но в глазах все так же горит смешливая искорка. Перед камерой он работает с таким ожесточением, что оператор ворчит: «Сегодня он наработал на пятнадцать миллионов».
Иногда Пикассо забавляется: он начинает рисовать цветы; потом превращает их в рыбу, рыба в свою очередь обзаводится индюшиным клювом, а в конце концов на полотне проступает голова сатира.
Съемки идут не только в мастерской, но и в саду, и на пляже, куда Пикассо хочется пойти, чтобы еще раз насладиться зрелищем радости жизни и запечатлеть его на полотне.
Однажды Пикассо проработал без перерыва 14 часов. Уже 2 часа утра. День был жарким, а теперь начинает накрапывать доле дик. Пикассо закуривает сигарету. Его близкие видят при свете спички его торжествующее лицо. И вдруг у него начинает кружиться голова – от изнеможения. У него хватило еще сил сказать: «Поддержите меня, я сейчас упаду». За эти 14 часов ему придется расплачиваться повышенным давлением и усталостью, которая потребует долгого отдыха.
Клузо хочется завершить фильм еще одним появлением на экране Пикассо. Художник расписывается на большом белом полотне, на губах его легкая улыбка. А затем он уходит из студии, обходя аппаратуру и переступая через кабели. Камера следит за ним, пока он не исчезает из виду.
С момента своего обморока Пикассо, всегда боявшийся болезней и того, что силы оставят его, строго следует всем предписаниям врачей, являясь на все осмотры и ни на шаг не отступая от назначенного режима.
Выздоравливает он довольно быстро благодаря своей природной силе, а также тому, что добросовестно следовал режиму. И снова принимается за работу.
Работает он на своей вилле в Канне. Виллу ату, по всей видимости, выстроил какой-нибудь миллионер, который задался целью выставить свое богатство напоказ. В результате контраст между жилищем и его новым владельцем уж очень силен: претенциозный фасад с балконами из кованого железа, огромный холл, анфилада салонов, стены – имитация мрамора, свидетельствующая о весьма сомнительном вкусе. И здесь же – «Конструкция» и «Женщина с апельсином» Пикассо. А весь огромный холл и лестница белого мрамора загромождены нераспакованными еще коробками и ящиками, привезенными из Парижа и Валлориса. Из холла же широкая застекленная дверь ведет на террасу и дальше, в сад, где растут пальмы и мимозы. На террасе Пикассо собрал свои бронзовые скульптуры; когда идет дождь, бронза блестит и переливается.
Здесь Пикассо продолжает писать картины, писать так же лихорадочно, как во времена своей молодости. Он пишет портрет Жаклин в почти реалистической манере: она сидит в кресле-качалке, забравшись туда с ногами, это ее привычная поза, тень от ресниц лежит на щеках, рот нежен и розов. Он пишет ее обнаженной, с руками, скрещенными на затылке, с темными волосами под мышками и выставленной вперед грудью. Пишет он также множество портретов Жаклин в турецком костюме. На одном из таких портретов (20 ноября 1955 года) он изобразил ее на красном растушеванном фойе; голова ее слегка наклонена, белизну лица подчеркивают зеленоватые и сиреневые тени, сквозь прозрачную ткань видна атласная кожа груди.
Пикассо по-прежнему готов удивлять мир и себя самого тем новым, что каждый день приносят его работы. Его переполняют силы, его хорошее настроение все так же заразительно. Он знает, что стоит на пороге новых свершений. В тишине звучит его голос: «Смотрите, я начинаю…».
Жан Кокто
ПИКАССО
(Римская импровизация – речь на открытии выставки)
(…) Когда я был молод, все мы жили на Монпарнасе, были бедны и не ведали политических, социальных или национальных разногласий. И потому, когда меня спрашивали: кого вы считаете самыми выдающимися из французских художников? – я отвечал: Пикассо, забывая, что он испанец; Стравинский, забывая, что он русский; Модильяни, забывая, что он итальянец. Мы составляли единое целое и хотя часто дрались, часто ссорились друг с другом, но между нами царил некий интернациональный патриотизм. Такой патриотизм – особая привилегия Парижа, потому-то этот город нередко остается загадкой для посторонних. И все же не надо забывать, что Пикассо – испанец. Когда он блистательно оскорбляет человеческое лицо, это вовсе не оскорбление. Он поступает точно так же, как поступают его соотечественники, когда честят Мадонну, если Мадонна не исполнила их требование. А Пикассо всегда чего-то требует и хочет, чтобы весь мир, вся материя повиновались ему.
Наблюдая его за работой, думаешь, что он, как и все мы, скован ограниченными измерениями и, работая, пользуется теми же средствами, что и мы. Иными словами, он заключен в четырех стенах, и ведь это только говорится – четыре стены, измерений же, увы, только три.
Что же делает наш заключенный? Он рисует на стенах камеры. Вырезает на них ножом. Нет красок – он пишет кровью, царапает ногтями. И наконец, пытается бежать из тюрьмы, пробить ее толстые стены, выломать решетки. Этот человек живет в постоянной борьбе, желая вырваться за пределы собственного Я: когда он заканчивает свою работу, кажется, что на волю вырвался беглый каторжник, и, вполне естественно, за ним в погоню с ружьями и собаками бросается толпа преследователей. Но зато бесконечна любовь к нему тех, кто обожает свободу и беглых каторжников.
Я хочу рассказать о том времени, когда мы только-только узнали друг друга. Я познакомился с Пикассо довольно поздно, в 1916 году, когда он жил неподалеку от Монпарнасского кладбища, на которое выходили окна его квартиры. Зрелище невеселое, но впечатления внешнего мира всегда занимали его лишь постольку, поскольку могли пригодиться. А собирал он что придется. Он гениальный старьевщик, король старьевщиков. Как только он выходит из дома, он принимается подбирать все подряд и приносит к себе в мастерскую, где любая вещь начинает служить ему, возведенная в новый, высокий ранг. И не только руки подбирают необычный предмет. Глаз также вбирает каждую мелочь. Если внимательно присмотреться к его полотнам, всегда можно опознать квартал, где он жил, создавая ту или иную картину, ибо в них найдутся детали, которых рассеянный не заметит: рисунки мелом на тротуаре, витрины, афиши, газовые рожки, перепачканные известкой, сокровища мусорных ящиков.
На первых, так называемых кубистских, картинах уже угадываются маршруты его прогулок – от газетного киоска до галантерейных лавок на Монмартре. Из старого и ветхого он создает новое, оно может показаться необычным, но всегда покоряет своим реализмом. Условимся относительно того, что я понимаю под реализмом. Говорить об абстрактной живописи вообще не имеет смысла, потому что всякая живопись передает идею художника или в конечном счете представляет его самого. Пикассо никогда и не ставил себе цели создавать абстрактную живопись. Он страстно ищет сходства и достигает его в такой мере, что предмет или человеческое лицо часто теряет выразительность и силу рядом с собственным изображением. Однажды, когда я вышел из ангара, где Пикассо работал над фреской «Война и Мир» [2]2
Грандиозное стенное панно закончено в 1952 году и размещено в капелле замка гор. Валлори.
[Закрыть], природа показалась мне слабой и невнятной.
Долгие годы импрессионисты верили, что победили фотографию, что фотография – плеоназм, который необходимо преодолеть, и вот понемногу выясняется, что импрессионисты сами отличные мастера цветной фотографии. У Дега, например, это буквально бросается в глаза. Публика всегда ценит в живописи не ее самое, а изображенный ею предмет. Многие полагают, что любят живопись, в то время как им нравятся модели, которые художник избрал предлогом для самовыражения и для того, чтобы написать свой портрет. Рисует ли художник человеческое лицо, натюрморт, пейзаж – все равно получается автопортрет, и вот доказательство. Когда вы увидите Мадонну Рафаэля, то не подумаете: «Это Мадонна». Вы подумаете: «Это Рафаэль». Перед «Девушкой в синем чепце» Вермеера подумаете не: «Вот девушка в синем чепце», но: «Вот Вермеер». Увидев анемоны, изображенные Ренуаром, подумаете не: «А вот анемоны», но: «А вот Ренуар». Так же, когда вы видите женщину, у которой глаз нарисован не на месте, вы не думаете: «Вот женщина, у которой глаз не на месте», выдумаете: «Вот Пикассо».
Я уже говорил, что познакомился с Пикассо в 1916 году. Монпарнас тогда был захудалым кварталом. А мы слонялись по нему как будто без всякого дела, но так только казалось. Ведь у молодежи такой вид, будто она шляется и бездельничает В Париже всегда есть кварталы, которые переживают свой звездный час. Сегодня это Сен-Жермен-де-Пре. Когда-то это был Монмартр, а в наше время (теперь его зовут героическим) была очередь Монпарнаса. Мы не бездельничали, слоняясь по его улицам в компании с Модильяни, Кислингом [3]3
Кислинг Моиз (1891–1953) – французский художник польского происхождения, друг Модильяни, Аполлинера.
[Закрыть], Липшицем [4]4
Липшиц Жак (1891–1973) – один из самых известных представителей кубизма в скульптуре.
[Закрыть], Бранкузи [5]5
Бранкузи (Брынкуш) Константин (1876–1957) – румынский скульптор, много лет проживший во Франции, представитель «Парижской школы». Подчеркивая природу материала, он свел скульптуру к игре объемов, форм, ритмов.
[Закрыть], Аполлинером, Максом Жакобом [6]6
Жакоб Макс (1876–1944) – французский поэт, друг Аполлинера. Погиб в концлагере.
[Закрыть], Блезом Сандраром [7]7
Сандрар Блез (1887–1961) – французский поэт, романист, друг Аполлинера. Одним из первых стал писать свободным стихом, отказавшись от пунктуации. Побывал в России. («Транссибирский экспресс», 1913).
[Закрыть], Пьером Реверди [8]8
Реверди Пьер (1889–1960) – французский поэт. Не принадлежа к какой-либо поэтической школе, Реверди в некоторых своих произведениях близок к сюрреалистам.
[Закрыть], Сальмоном [9]9
Сальмон Андре (1881–1969) – французский поэт, друг Аполлинера. В его стихах фантастика нередко становится как бы частью реальности, а реальность предстает в фантастическом свете.
[Закрыть]– со всеми, кто, едва ли отдавая себе в этом отчет, совершал настоящую революцию в искусстве, в литературе, в живописи, в скульптуре.
Революция эта проходила при обстоятельствах чрезвычайно любопытных, в самый разгар войны 1914 года, войны столь необычной, что каждый из нас, будучи мобилизованным, беспрепятственно переходил с одного «фронта», в Париже, на другой, на фронт военных действий. Так жил Аполлинер, и это подорвало его силы настолько, что он умер в день перемирия; а мы решили, что город украсился флагами в его честь и в честь нашего художественного патриотизма.
Эта революция прошла почти незамеченной, и когда все, кто имел основания ее опасаться, наконец уразумели, в чем дело, бороться с ней было уже слишком поздно. Мы воспользовались тем, что город был почти пуст, он только и ждал, чтобы его взяли, и мы завоевали прочные позиции, ибо с тех пор слава людей, о которых я веду речь, все увеличивается.
Вот небольшой пример контраста между двумя эпохами.
Когда Модильяни писал мой портрет, он работал в том же ателье, что и Кислинг, на улице Жозеф-Бара. Я не знаю, что стало с портретом Кислинга, на котором изображен Пикассо в рубашке в черную клетку, рисующий в глубине комнаты.
Портрет Модильяни был написан на большом холсте. Он мне продал его за пять франков. К сожалению, у меня не хватило денег, чтобы нанять извозчика и отвезти этот портрет к себе. Кислинг задолжал одиннадцать франков хозяину кафе «Ротонда». Он предложил ему взамен этот портрет. Хозяин согласился, и вот картина начала кругосветное путешествие, которое завершилось в Америке, где ее продали за семнадцать миллионов.
Эту историю я рассказал не затем, чтобы пожаловаться, какими богатыми мы могли стать, но не стали. Я хотел показать ту стремительность, с какой мы шагнули от революции к полновластию; и хотя теперь нам ставят это в вину, но иначе быть не могло.
А вот еще одна история из той поры, когда Пикассо жил на Монпарнасе. В его ателье царил страшный хаос. Рисунки устилали весь пол. Один из первых меценатов, заинтересовавшихся Пикассо, однажды зашел к нему в мастерскую. Нагнулся, поднял какой-то рисунок и спросил, сколько стоит. Пикассо ответил: «Пятьдесят франков». Тогда этот любитель, видя, сколько их валяется на полу, воскликнул: «Да тут у вас целое состояние!»
Недавно к Пикассо на улицу Ла Боэси забрались воры – им досталось только белье.
Итак, мы на Монпарнасе совершали бессознательную революцию, которая, как и все революции, начиналась в подполье. Этим подпольем был небольшой подвальчик на улице Гюйгенса, где собирался наш Клуб, в котором мы читали стихи, а те, кого впоследствии окрестили «Шестеркой», исполняли свою музыку. Пикассо, по сравнению со своими собратьями, был тогда уже знаменит, его работы продавались за хорошую цену, и он великодушно раздавал направо и налево свои гуаши, закрывая глаза на то, что, как он хорошо знал, друзья должны будут их продавать.
Он помогал им выжить. Легенда о Пикассо-эгоисте целиком лжива. Каждому, кто хорошо знает Пикассо, известно, что он всегда помогал товарищам, оставаясь в тени, и не поднимал шумихи.
В конце 1916-го я увез Пикассо в Рим, где был тогда Дягилев со своим «Русским балетом». Наши выпады против его последних постановок показались ему справедливыми, он обратился в нашу веру и начал взрывать новые бомбы. Во Францию он привез с собой исключительно русских художников: Бакста [10]10
Бакст Лев Самойлович (1866–1924) – русский живописец, график, театральный художник. Один из ведущих декораторов труппы Дягилева.
[Закрыть], Александра Бенуа [11]11
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – русский художник, историк искусства и художественный критик.
[Закрыть], Ларионова. Теперь он приглашает Пикассо, Брака [12]12
Брак Жорж (1882–1963) – французский художник, один из самых видных представителей кубизма в живописи. В ранний период творчества был связан с Россией и русским искусством.
[Закрыть], Дерена [13]13
Дерен Андре (1880–1954) – французский художник-фовист. В позднем творчестве пришел к своеобразному «неоклассицизму».
[Закрыть], Матисса, Лорана [14]14
Лоран Анри (1885–1954) – французский скульптор, испытавший влияние кубизма. Работал также в области архитектуры и театральной декорации.
[Закрыть]. Он пытался привлечь и Ренуара, но Ренуар был уже очень стар и болен.
Монпарнас был возмущен, когда Пикассо, нарушив Аристотелевы законы кубизма, последовал за мной в Рим, чтобы работать над балетом «Парад» на музыку Эрика Сати.
Мы торжественно, как о помолвке, объявили об этом путешествии в Рим Гертруде Стайн [15]15
Стайн Гертруда (1874–1946) – американская писательница, жившая в Париже. Пользовалась большим влиянием в кругах литературного и художественного авангарда 20-х годов.
[Закрыть]…
В нашей работе приняли участие итальянские футуристы во главе с Маринетти. Футуристами были тогда Прамполини [16]16
Прамполини Энрико (1894–1956) – итальянский художник-футурист; в позднем творчестве пытался выразить некую «космическую метафизику».
[Закрыть], Балла [17]17
Балла Джакомо (1871–1958) – итальянский художник и скульптор, примкнувший к движению футуристов.
[Закрыть], Карра [18]18
Карра Карло (1881–1966) – итальянский художник-футурист.
[Закрыть]. Они великодушны помогли нам соорудить каркасы костюмов Пикассо и вообще сделали эту затею осуществимой. Мы были уверены, что балет понравится всем, потому что сами работали с удовольствием и думали, что его разделят и другие. Мы не сомневались, что «Парад» станет крупным событием и крупным скандалом в театральной жизни 1917 года. Первый раз он был показан в театре «Шатле», и если толпа нас не линчевала и не разорвала в клочья, так единственно потому, что Аполлинер носил военную форму и из-за раны в висок – эту рану предсказал Джорджо Де Кирико на портрете – ходил с забинтованной головой, а повязки внушали уважение наивно-патриотической публике. Только это нас и спасло. Однажды, когда после первых представлений все как будто улеглось, мы услышали, как какой-то господин сказал: «Если бы я знал, что это так глупо, я бы привел детей». Эта фраза побуждает меня процитировать и другую, столько раз звучавшую у полотен Пикассо: «Мой маленький сын (или дочь) мог бы нарисовать точно так же». Дело в том, что любой шедевр, любое значительное произведение искусства кажется очень простым, и если художники именно к этой кажущейся легкости стремятся, то публику именно она и отвращает. К сожалению, люди склонны предпочитать то, что представляется трудным. Но те, у кого есть чутье к таланту, понимают – великие художники всегда ищут простоты. Вы можете возразить, что произведения Пикассо отнюдь не просты. Это неверно. В противоположность всем школам, он идет не от незаконченного к законченному, но, движимый внутренней гармонией и избегая эстетизма, – от конечного к неоконченному, к бесконечному, от совершенства к наброску. Просмотрите альбомы рисунков, предшествовавших работе над его большой фреской «Война и Мир», и вы увидите, что все эти лица, воины, руки были раз по пятьдесят изображены совершенно точно и что постепенно, по мере того как рисунки превращаются в живопись, получается гигантский эскиз, его-то он нам и преподносит. Таким образом, как я уже говорил, он совершает путь, обратный общепринятому. Начинает с законченной работы и постепенно достигает незавершенности, бесконечности, оставляя простор догадкам и воображению зрителя.
Это ли не величайшее уважение к публике, когда художник говорит ей: «Вот вам мое творение, а теперь, если можете, закончите его сами, в вашем уме и сердце».
Первый вопрос, который вызывают картины Пикассо, всегда один и тот же: что это значит?
Вот уже много веков публика пребывает жертвой грандиозного надувательства. Ее обманывают с помощью более или менее искусно сделанной бутафории для глаз и ума. Ей показывают что-нибудь уже давно ей знакомое, зная, что она предпочитает узнавание познанию. Узнавать знакомое легче, чем познавать. Это не требует усилий. Множество людей верят, что любят живопись, потому что узнают в ней привычные предметы. И вдруг происходит необыкновенное. Художники, неудачно прозванные кубистами (прозвище пошло от шутки Матисса [19]19
«Слишком много кубизма!» – воскликнул Матисс, увидев первое кубистическое полотно Ж. Брака – городской пейзаж, где дома были изображены в виде кубов.
[Закрыть]), отказались от всякой приманки. Событие исключительно важное; если раньше здание сооружалось с помощью лесов, то отныне, с 1912 года, приходилось признать, что художник может оставить леса и убрать само здание да так, что при этом в лесах сохранится вся архитектура. Картины Пикассо, Брака в его «серый» период, часто похожи на леса, но за ними всегда чувствуешь здание.
Предметы повинуются Пикассо, как животные Орфею. Он ведет их куда хочет, в царство, которым он безраздельно правит, устанавливая свои законы. Но эти предметы всегда остаются узнаваемыми, ибо Пикассо всегда верен заключенной в них идее. Голова быка остается головою быка, ребенок остается ребенком, и бесконечно изменяемые изображения предмета сохраняют между собой фамильное сходство, как фотографии в семейном альбоме.
Однажды на выставке в Риме, стоя у портрета Франсуазы Жило, я был свидетелем занятного зрелища. Служитель музея, прикрыв половину лица фуражкой, спрашивает у посетительницы: «Что вы видите?» «Профиль», – отвечает дама, тогда он закрывает профиль на картине и спрашивает: «А теперь что?» – «Другой профиль». То был шиньон Франсуазы. «Вот вы все и поняли», – объявил служитель. Ни он, ни дама не поняли ничего, да понимать и не нужно.
Главное, почувствовать, попытаться постигнуть душу, дерзания человека, который вбирает в себя атрибуты внешнего мира и заражает их своей великолепной самобытностью. Пикассо, первый из живописцев, не обманывает публику – и это не парадокс. Апеллес [20]20
Апеллес – древнегреческий живописец второй половины IV в. до н. э. Согласно преданию, был столь искусен, что на изображенный им виноград слетались птицы.
[Закрыть]обманывал даже птиц, которые принимали его виноград за настоящий.
В борьбе нашего художника, рвущегося прочь из тюрьмы, бывают минуты отдыха. Не скажу – усталости. Тогда получаются куда более безобидные вещи, чем обычно. Цвет смягчается, формы становятся приятны для глаз. Таковы, например, портреты его сына Поля. Это минуты передышки в войне с холстом, который ненавидит, когда его разрисовывают, покрывают краской, и словно думает: меня пачкают, губят, грязнят. Но когда Пикассо по-настоящему бывает собой, он доводит реализм до предела – свой особый реализм, и если он не совпадает с вашим, это не причина, чтобы его отвергать.
Хозяин кафе «Ле Каталан» признался однажды Пикассо, что не понимает одну из его картин. В ответ Пикассо спросил, понимает ли тот по-китайски. «Нет», – ответил хозяин, и тогда Пикассо сказал: «Этому нужно учиться». И он прав. Наше условное искусство совершенно непонятно для дикарей. Оно требует долгой привычки. Но можно порвать с привычным, признав, что искусство не обязательно должно нравиться и быть понятным с первого взгляда.
На выставке в Лувре (в Павильоне Флоры) я заметил, сколько посетителей задерживается перед картинами, пытаясь расшифровать их язык. Ошибочно думать, будто художник обязан приноравливаться ко вкусам толпы. Было бы справедливее, если бы толпа приноравливалась к художнику, вместо того, чтобы относиться к нему, как к радиоприемнику: включай, когда хочешь, и из него, как из крана, польется тепленькая водичка – удобно и приятно. Я утверждаю, что если бы по радио передавали настоящую музыку, люди приучились бы к ней, прониклись ею и находили бы утомительными сладких теноров и вульгарных певиц.
Пикассо никогда ни к кому не приноравливается. Он величественно заставляет принимать себя таким, как он есть. Даже примкнув к политической партии, он не отказывается от своих исключительных прав. Таким я его знаю, таким он и будет до самой смерти, если смерть вообще когда-нибудь посмеет стать ему поперек дороги.
Не заблуждайтесь, кубизм – это классицизм, пришедший на смену романтизму фовистов [21]21
Имеется в виду буйство красок, поразившее посетителей первых выставок фовистов, и большая строгость цветовой гаммы, приверженность к геометризму художников-кубистов.
[Закрыть]. Вот почему, к великому изумлению многих, кубисты предпочли Энгра Делакруа, в то время как молодежь считала Делакруа революционером, а Энгра – академическим живописцем. Именно кубизм, к чести своей, опроверг это заблуждение тогдашней молодежи, увлекшейся пылом Делакруа и презревшей поразительные смещения и дерзкие, но не бросающиеся в глаза новшества Энгра.
Постепенно художник менялся, вообще Пикассо – это движение, а не школа. Его тайфун достиг апогея во фреске «Война и Мир», где он соединил «Турецкие бани» Энгра и «Въезд крестоносцев в Константинополь» Делакруа. Конечно, ничто в ней не напоминает ни одну, ни другую из этих картин, но спокойная мощь и буйная сила слились здесь воедино. И появилась удивительная фреска; она выглядит незавершенной, но подводит итоги долгих раздумий, начало которых восходит к «Гернике».
Я прекрасно понимаю, что такой ураган, как Пикассо, опасен для молодых. Опасен тем, что запирает на три оборота любую из им же открытых дверей. Идти за ним – значит уткнуться в закрытую дверь. И все же он – воплощение надежды, он доказывает, что индивидуализм не обречен на смерть и что искусство восстает против идеала муравейника. Не странно ли, что человек, чье творчество столь герметично, достиг такой же славы, как доступный для каждого Виктор Гюго? Возможно, нынешняя молодежь больше думает и ищет пути к тому, чтобы прояснить его темноту.
В работах Пикассо нет ни гримас, ни карикатур. В них есть выразительность. Труд идет прежде исканий. Он сначала находит, потом ищет. Несхожесть его картин обескураживает рутинеров и лентяев, и они кричат, что грош цена мастеру, если в его творениях нет единства. Так-то оно так, только это единство не должно быть поверхностным. Чему Пикассо научил меня и многих моих сверстников, так это тому, чтобы не заботиться о таком поверхностном единстве, не бояться прослыть жонглером и акробатом, не бить в одну точку и не дуть в одну дуду. С каждым новым произведением я должен, отринув все старое, начинать сначала.
Да, но вам помогает имя, скажете вы. Я порой слышу от молодых: «Вам хорошо, вы можете делать все что хотите». И тогда я перечисляю все сложности, которые наша известность только усугубляет, ведь от нас ждут бесконечного повторения прошлых, уже мертвых достижений и нас упрекают, когда мы отворачиваемся от них. Мы обязаны Пикассо тем, что он научил нас этому постоянному обновлению, этому упорному стремлению менять обличья до неузнаваемости, так, чтобы только по взгляду можно было нас узнать. Я поведаю вам один из величайших секретов
Пикассо: он опережает красоту. Поэтому его картины кажутся уродливыми. Позвольте мне пояснить: то, что сделает отставший от красоты, будет вяло; то, что сделает идущий с ней в ногу, будет банально; опережающий же красоту заставит ее задыхаться, бежать за собой вдогонку, и то, что он создает, со временем станет прекрасным. Нет ничего безнадежнее, чем бежать с красотою вровень или отставать от нее. Надо вырваться вперед, измотать ее, заставить подурнеть. Эта усталость и придает новой красоте прекрасное безобразие головы Медузы-горгоны.
Я должен извиниться за нестройную речь. Трудно придерживаться четкого маршрута, когда следуешь за человеком, который объявляет живопись ремеслом слепцов. Он рассказывал мне, будто видел в Авиньоне старого, почти слепого художника, рисовавшего папский дворец. Рядом стояла его жена, смотрела на дворец в бинокль и рассказывала ему все, что видела. Художник рисовал с ее слов. Пикассо не нужны чужие описания, он все рисует с собственных слов. Поэтому в его картинах чувствуется непосредственная и несравненная сила воображения.
В каждом из нас сокрыта тьма, которую мы знаем плохо или не знаем вовсе. Эта тьма и хочет, и не хочет вырваться наружу. Это трагедия искусства, настоящая борьба Иакова с ангелом. Я не думаю, чтобы хоть одно произведение Пикассо, если не считать керамики, которой он занимался потому, что минуты не мог просидеть без дела, – так вот, не думаю, чтобы хоть одно его произведение было создано без этой страшной борьбы с собой.
Фридрих Ницше говорит о мужчинах-матерях, тех, что беспрестанно рождают: им не свойствен критический дух, их снедает дух творчества. Это словно пророческий портрет Пикассо, больше того, подобно всем великим творцам, он одновременно мужчина и женщина; этакая диковинная семейка. И кажется, еще ни в одной семье не было перебито столько посуды.
В 1916 году он пожелал написать меня в костюме Арлекина. Получилась кубистическая картина, на которой опознать меня невозможно. После сеансов мы прогуливались по Монпарнасу и заходили в мастерские к художникам. Те запирались от нас на все засовы и открывали дверь не раньше, чем припрячут свои работы в шкаф. «Он украдет у меня манеру писать деревья», – говорил один. «Он украдет у меня идею сифона, который я первым изобразил», – говорил другой. Они придавали величайшее значение каждой мелочи, а визитов Пикассо страшились потому, что знали – он все увидит, проглотит и переварит и все воспроизведет с таким блеском, на который они не способны.
Пикассо можно любить или не любить, но одно бесспорно: он привлек к себе внимание мира, который, казалось бы, давно должен был охладеть к искусству как к ненужной роскоши.
Кроме меня, близкими друзьями Пикассо были Аполлинер, Андре Сальмон, Макс Жакоб, Гертруда Стайн, Пьер Реверди, Поль Элюар. Поэты. Не знаменательно ли, что Пикассо предпочитает общество поэтов, а не художников? Ведь и сам он большой поэт. Его картины говорят, и говорят на нашем языке. У него свой, визуальный синтаксис, подобный синтаксису писателя. Кажется, каждая его вещь стремится стать тем, что Гийом Аполлинер называл «поэмой-событием». Когда он переходит к новому синтаксису, создавая очередную серию, ее непременно венчает, завершает какая-нибудь одна картина-событие.
Вернемся на Монпарнас. Наша компания распалась с рождением сюрреализма [22]22
Сюрреализм (буквально – сверхреализм) – авангардистское течение в искусстве, сложившееся в 20-х годах и объявившее источником творчества сферу подсознательного. Сюрреалисты враждебно относились к буржуазной культуре, но в отличие от дадаистов они выдвигали свою позитивную программу. Сюрреалисты претендовали на то, чтобы раскрепостить «глубинную сущность» человека, подавленного современной цивилизацией. Своим творчеством они стремились к переделке жизни, говорили о «сюрреалистической революции». Таким образом, в их теориях присутствовал элемент социальной утопии.
[Закрыть]. Движение «дада» [23]23
Движение «дада» сформировалось в 1916 году в Щвейцарии (Цюрих). Главой группы дадаистов и автором манифестов «дада» был французский поэт Тристан Тцара (1896–1960). Движение «дада» было проникнуто духом неприятия и сарказмом по отношению к буржуазной цивилизации, что нередко переходило в нигилистическое отрицание ценностей культуры вообще. Дадаисты призывали к «чистому» и всеобъемлющему бунту, включая бунт против любых правил в искусстве и даже норм языка, что зачастую приводило к распаду самой художественной структуры произведения. В 1923–1924 годах дадаизм как организованное движение распался и многие его участники перешли на позиции сюрреализма.
[Закрыть](Тристан Тцара, Арп [24]24
Арп Жан (1886–1966) – французский скульптор, художник, поэт-дадаист, впоследствии испытал влияние сюрреализма.
[Закрыть], Марсель Дюшан [25]25
Дюшан Марсель (1887–1968) – французский художник, раннее творчество которого отмечено влиянием кубизма, с конца 10-х годов – один из столпов дадаизма. В 1919 году выставляет свою нашумевшую «Джоконду с усами».
[Закрыть], Пикабиа [26]26
Пикабиа Франсис (1879–1953) – французский художник, начинавшийся как дадаист, с конца 20-х годов переходит к традиционной манере.
[Закрыть], Рибмон-Дессень [27]27
Рибмон-Дессень Жорж (1884–1974) – французский поэт, драматург, художник, в конце 10-х годов примкнувший к дадаистам; с 1922 года перешел на позиции сюрреализма.
[Закрыть]) предшествовало сюрреализму, под знаменем которого сражались Бретон [28]28
Бретон Андре (1896–1966) – французский поэт, основатель движения сюрреалистов, автор сюрреалистического манифеста (1924).
[Закрыть], Элюар, Арагон, Деснос [29]29
Деснос Робер (1900–1945) – французский поэт, участник движения Сопротивления, погиб в концлагере. В своем творчестве эволюционировал от сюрреализма к более традиционным формам лирической поэзии.
[Закрыть], Макс Эрнст [30]30
Эрнст Макс (1891–1976) – немецкий художник-сюрреалист, с 20-х годов обосновавшийся в Париже. В его раннем творчестве заметно влияние дадаизма, однако художественное наследие Эрнста не вмещается в рамки обоих течений.
[Закрыть], Миро [31]31
Миро Хуан (1893–1983) – испанский художник-абстракционист, в раннем творчестве которого ощущается влияние сюрреализма. В 20-30-х годах сотрудничал с «Русским балетом» Дягилева и русской балетной труппой в Монте-Карло.
[Закрыть], Массон [32]32
Массон Андре (род. в 1896 г.) – французский график, много работавший как театральный художник; в частности, сотрудничал с Л. Мясиным, Ш. Дюлленом, Ж.-Л. Барро.
[Закрыть], Пауль Клее [33]33
Клее Пауль (1879–1940) – швейцарский художник-экспрессионист, испытавший влияние сюрреализма и абстракционизма.
[Закрыть]и т. д. Кирико упорно отрицает свое участие. Сюрреалисты тогда еще не называли себя сюрреалистами. Мы сразу рассорились, потому что я не привык исполнять приказания. В сюрреализме на все существовали твердые законы. А я человек свободный; всегда был и останусь свободным. Поссорившись с сюрреалистами, я боролся, в сущности, за то же, что и они, но работал один, они же высыпали группой. Они привлекли к себе и Пикассо, но, что характерно для него, он не участвовал в этой ссоре, длившейся семнадцать лет, и она нисколько не омрачила нашей с ним дружбы. Понемногу мы все помирились, и Элюар стал моим большим другом, которого, увы, я так скоро потерял. Элюар и те, с кем я когда-то сражался, – да и могло ли быть иначе?