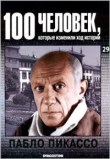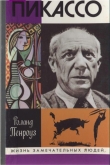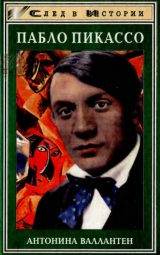
Текст книги "Пабло Пикассо"
Автор книги: Антонина Валлантен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
В нем преобладает чувство постоянства, а также – и это поражает в человеке, способном на внезапные и бурные разрывы – чувство непрерывности, которое заставило его сохранить ту первую картину, нарисованную в восемь лет, и все школьные наброски с гипсовых копий. Через много-много лет эта согнутая рука, это гипсовое предплечье, полый внутри муляж, все эти наброски найдут себе место среди картин Пабло Пикассо, ставшего зрелым человеком, и свяжут его с ангельским лицом и блестящими глазами ребенка, которым он когда-то был.
Ребенок работал так, как другие дети в его возрасте развлекаются. Очень рано работа стала для него основным прибежищем, его жизнью. У отца его, как и у многих других посредственностей, запасы терпения были довольно ограниченны: его донимала скука, друзей не было, погода была уж слишком отвратительной, все больше времени дон Хосе предавался лени. Если он еще и рисует время от времени, то у него все равно не хватает терпения закончить картину, выписав все детали. Он без конца изображает этого своего голубя, который дается ему легче всего. Пикассо рассказывал своему другу, что отец, потеряв терпение, отрезал у мертвого голубя лапы, пришпиливал их к доске и просил сына тщательно пририсовать их к незаконченной картине, причем сам наблюдал за работой Пабло, пока и это ему не надоедало.
Приблизительно в 14 лет, где-то около 1895 года, мальчик начинает рисовать живую натуру. Это обычные школьные модели, в основном старики с резко обозначенными чертами лица: легче передать сходство лиц морщинистых, гладкие щеки даются всегда труднее.
Один из таких «стариков», с опухшим, изборожденным морщинами лицом, находится сегодня в коллекции Сала в Барселоне. Голова выписана мелкими мазками, передающими неровную, шероховатую кожу и узловатость дряхлой плоти, контрастирующей с белой, распахнутой на груди рубашкой.
Еще одно полотно из провинциального музея в Малаге, «Два старика», написано оно приблизительно около 1894 года, – тот же самый тип убеленных сединой старцев. Картина эта была семейным подарком и посвящалась кузине. Композиция интерьера довольно неловкая, манера исполнения – весьма тщательная; в том возрасте ребенок не отваживался еще на упрощения. Но это весьма условное, старательно выполненное произведение, на котором старик, опирающийся на палку, разговаривает со слепой старухой, очень эмоционально; мальчик, по всей видимости, чувствовал жалость к беспомощной и больной старости, а может быть, испытывал страх перед неумолимой разрушительной силой времени, довольно необычное чувство для ребенка его возраста, но Пабло Пикассо пронес его через всю жизнь.
«Бородатый мужчина в фуражке» (собственность самого Пикассо), вне всякого сомнения, был также одной из школьных моделей. По всей видимости, к этому времени мальчик успел уже ознакомиться с шедеврами испанской живописи, его живая натура очень быстро усваивала то, что могло ее раскрепостить. Полотно написано крупными контрастными мазками, прекрасно гармонирующими с освещением и экспрессией. Мальчик смог ухватить и передать – в жесте руки – несколько резонерскую сторону характера персонажа. Он овладел уже той удивительной быстротой исполнения, которая в зрелости придавала ему вид фокусника; уверенная техника мастера основывается не только на постижении законов мастерства, на знании способов использования фактуры полотна и передачи рельефности натуры, того, как перенести на картину теплые тени или холодные отблески. Прежде всего, мастерство – это врожденная способность решиться и без всяких проб и ошибок избрать тот прием, который поможет художнику достичь желаемого эффекта. Если с точки зрения формы это произведение не представляет собой ничего исключительного, то в содержании и манере уже безусловно видна та решительность, которая всегда была присуща зрелому Пикассо.
Именно тогда мальчик впервые попробовал себя в том, что стало одной из основных тем его зрелого творчества, а именно – в натюрморте. Однако медная ваза с фруктами, узорчатый глиняный кувшинчик и яблоки, разбросанные по скатерти, отразили лишь дурной вкус эпохи, пристрастие к изысканному беспорядку. На маленьких деревянных дощечках он рисует пейзажи, птицу, человека с собакой; он настолько уже уверен в себе, тем более, что окружающие ценят его работы, что отваживается писать портреты друзей дома. И вот наступает момент, который знаком многим гениям: отец признает его превосходство. Он знает, что не только ничему больше уже не может научить сына, но что ребенок с легкостью делает вещи, которым сам он научился с великим трудом. Пикассо определил этот момент в одной из своих знаменитых фраз, простой и выразительной: «Тогда он отдал мне свои краски и кисти и никогда уже больше не рисовал».
В это время сын часто рисует своего отца, причем ему удается передать причину принятого доном Хосе решения. Он рисует его таким, каким он был, красивым изысканным человеком, но на лице его – вечная озабоченность, на лоб набегают морщинки. Пабло открывает перед нами человека, потерявшегося в собственной жизни: на картине он сидит, облокотившись на стол, в расслабленной, безучастной позе, которая, по всей видимости, была для него привычной – одна рука подпирает голову, другая лежит на столе, взгляд обращен внутрь себя.
Был ли этот отказ для него мучительным, как это случается с людьми, обольщающимися в своей посредственности, или, скорее, дон Хосе оставил всякие усилия, как человек, который хочет отдохнуть от тяжких трудов в тихом уголке у огня? Отныне свое свободное время он отдает мелкой работе по дому, что-нибудь чинит, переделывает. Это ему нравится.
С помощью картона, бумаги и клея он делает для своего сына разные коробки, вещи совершенно бесполезные, просто занимающие место. Кроме того, дон Хосе развлекается еще и тем, что украшает все, что попадается ему под руку. Однажды, рассказывает Пикассо, он взял гипсовую статуэтку, изображающую итальянку, спилил острые углы, образуемые чепцом, перекрасил голову, задрапировал фигурку и наклеил на щеки стеклянные слезы.
Глядя на своего отца, который играл таким образом с предметами, преобразовывая их так, что назначение их менялось, Пикассо, возможно, впервые испытал влечение к преобразованию, воображение его стало более изобретательным. И быть может, увидев однажды «Портрет итальянки», принадлежащий к Лионской школе XIX века, он вспомнил ту самую гипсовую итальянку. Более полувека прошло с того дня, когда ребенок увидел длинные и тонкие руки своего отца колдующими над гипсовой фигуркой, но память Пикассо непогрешима, она ничего не теряет: условность изображения пробуждает в нем воспоминания, он рисует фигурку, только на полях рисунка изображает еще и фавна, играющего на свирели, а также Геркулеса, избравшего своей опорой высокую грудь модели.
Итак, первые опыты маленького Пабло любопытным образом определяют тенденцию его развития, его путь к мастерству, именно в этом и состоит их ценность.
Дон Хосе, скромный ремесленник, сумевший, однако, обеспечить прочное основание будущей славе, устранившись от жизни, умер накануне начала первой мировой войны.
Та самая ранняя виртуозность, сравнимая с мазком Ленбаха, с которой написаны портреты отца, проявляется также и в портрете лучшего друга дона Хосе: «Доктор Рамон Перес Косталес». Если Хосе Руис и был посредственным художником, то его человеческие качества помогли ему приобрести множество друзей. Мальчик вспоминал тех, кого его отец знал в Малаге; особенно часто вспоминал дона Рамона, врача, лечившего его сестру Кончиту от дифтерии, от которой она все-таки умерла. Дон Рамон настолько был привязан к дону Хосе, что, когда этот последний уезжал из Ла-Коруньи, решил тоже оставить негостеприимный город и поселиться в Малаге, в надежде, что рано или поздно дон Хосе туда вернется.
Этот человек стал первой значительной личностью, чей портрет написал Пабло Пикассо. Доктор Рамон Перес Косталес был ярым республиканцем. Именно в его доме глаза автора «Мечты и лжи Франко» впервые остановились на испанском республиканском знамени: дон Рамон был министром труда и изящных искусств при первой испанской республике. Человек, изображенный тогда мальчиком, казалось, принадлежал к тому поколению людей доброй воли, которые верили в реформы. С бородой, подстриженной как у Франца-Иосифа, с доброжелательным взглядом из-под слегка нахмуренных бровей, он олицетворяет тип просвещенного чиновника.
Кроме серьезной работы Пабло рисует и ради забавы. Все свои чувства он выражает рисуя. Этот способ отображения мира одновременно поглощает и развлекает его. У него есть единственный способ общения: «Даже когда он был ребенком, он испытывал отвращение к письму». У него изображение преобладает над словом, мысль приобретает четкие очертания в остроте восприятия. Семейство изводило Пабло, как обычно изводят всех детей, требуя, чтобы он писал родственникам, бабушке, оставшейся в Малаге. Он, как и все дети, испытывал ужас перед этой пыткой. Что писать? Как выразить в непривычных ему словах перипетии повседневной жизни семьи? Для него это было все равно что взгромоздиться на ходули, вместо того, чтобы просто пройтись пешком. Пабло находит выход из положения, подражая взрослым интеллектуалам, впрочем, к такому решению рано или поздно приходит большинство детей, а именно: сделать газету. Лист бумаги складывается пополам. Очень известная в то время газета называлась «Белое и черное». Пабло (ему было тогда тринадцать лет) назвал свой листок «Синее и белое». Детские впечатления, которые мальчик доверяет этой своей газете, настолько примечательны, что один из друзей отца отправляет их директору издательства. Директора они, впрочем, совершенно не заинтересовали.
Спустя много лет эти сложенные пополам листы бумаги найдут себе место в семейном архиве Пикассо, том самом архиве, где только на взгляд непосвященного человека царила полная неразбериха. Молодой репортер описывает в основном непрекращающийся дождь в Ла-Корунье, насмехается над людьми, которых такой климат не угнетает. Женщины, закутанные в теплые шали, отваживаются лишь мочить в воде ноги: «Как купаются в Бетанзосе», – записывает мальчик, привыкший к мягкой погоде в Малаге. В этом доморощенном издании он выражает также свой страх перед однообразием: он думает о том самом вечном голубе и в рубрике «Объявления», располагавшейся как раз над его домашним адресом, записывает: «Покупаем породистых голубей». Так что уже тогда Пабло проявлял свое чувство юмора; еще не научившись выражать страдание или протест, он уже умеет преодолевать эти чувства с помощью смеха, того самого смеха, который много позже будет обескураживать его почитателей и позволит ему избежать участи идола на пьедестале, куда его хотят взгромоздить. Ребенок входит во взрослую жизнь, вооружившись заранее иронией, неумолимым чувством смешного.
Одна из его последних картин, написанных в Ла-Корунье, подводит итог его учебе: «Босая девочка» (собственность Пикассо). На этот раз модели заплатили, как обычно платят взрослые художники, для Пабло же это было своего рода наградой за прилежание, он получил ее на рождественские каникулы. Девочка совсем не была красивой, по всей видимости, она привыкла зарабатывать на жизнь более тяжелой работой, чем позирование художнику. На плечи ее наброшена какая-то тряпка. Руки, детские, но уже отмеченные трудом, лежат на коленях. Босые ноги, ненормально большие, много ходившие, как-то очень тяжело стоят на земле. «У нас бедные девочки всегда ходят босиком, а у той малышки ноги были еще и обморожены», – вспоминает Пикассо. Детское лицо угрюмо, уголки рта опущены, как это бывает у детей, которых часто ругают и которые не способны защититься он незаслуженных упреков. Красивы у девочки только глаза, однако взгляд слишком пристальный, рано ставший по-взрослому покорным.
Четырнадцатилетний мальчик и маленькая изнуренная девочка встретились однажды лицом к лицу. Как удалось мальчику, уже отмеченному благосклонной судьбой, сыну любящих, заботливых родителей, передать беспомощную боль этого молчаливого создания? Глаза Пабло Пикассо понимают больше, чем в состоянии воспринять его мозг. В этом теле, не знакомом с отдыхом, есть что-то от самой земли, какая-то животная чувственность, обезоруживающее ожидание. Рано, очень рано Пабло Пикассо стал на сторону тех, кто угнетен, но не умеет жаловаться.
ГЛАВА II
Постоянство законов созидания
(1896–1900)

Настоящая карьера Пабло Пикассо начинается с события, которое, будь речь о ком-нибудь другом, могло бы сойти за розыгрыш. Обучение в Школе изящных искусств Барселоны, солидном учреждении, основанном еще в 1775 году, ведется в две ступени: общее отделение рисунка уделяет особое внимание античности, живой модели, живописи. Для того чтобы попасть сразу на второе отделение, нужно выдержать экзамен, требования которого настолько серьезны, что претендентам дается целый месяц на выполнение заданного рисунка. «Я закончил его в первый же день, – рассказывает Пикассо, – потом долго на него смотрел, размышляя о том, что же еще можно было бы сюда добавить. Но добавить было нечего, совершенно нечего». Глаза его становятся задумчивыми, в своем воображении он снова видит этот рисунок и, как полвека назад, качает головой. Он и сегодня ничего бы не стал добавлять. Его всегда ставила в тупик медлительная манера письма, свойственная многим художникам, сам Пикассо работал на удивление стремительно.
Это доведенное до крайности усилие и было для Пикассо основой созидания; оп никогда не предавался долгому и изнурительному труду над одной картиной, для него работа была коротким и стремительным броском. Большое полотно он покрывает красками за день, как ребенок, стремящийся успеть как можно больше за возможно короткое время. Одному из своих знакомых, который спросил у него, закончил ли Пикассо работу над одним из вариантов «Алжирских женщин», он ответил улыбаясь: «Закончил ли? Ну, если хотите, то да, хотя для Микеланджело, например, это полотно не могло считаться законченным, но для меня – да». Если воплощенное видение натуры его не удовлетворяло, на следующий день Пикассо предпринимал новую попытку, менял подход, искал другие средства выражения. Но тот вариант, который сам он считает неудачным или неполным, является вполне законченным произведением. Он высказал все, что хотел, в этом едином творческом всплеске, и если попытается что-либо изменить, то единство, уравновешенность различных компонентов картины окажутся нарушенными.
«Говорят, что художник пребывает в постоянном возбуждении», – сказал как-то Пикассо, посмеиваясь. Он всегда удивлял людей, ожидавших найти в нем бурю страстей. Врачи, наблюдавшие его и снимавшие энцефалограмму, нашли его удивительно уравновешенным; хироманты, склонявшиеся над его руками волшебника, – на удивление спокойным. Для того чтобы проиллюстрировать преобразование видения в окончательную форму, Пикассо однажды несколькими жестами объяснил то, что кто-нибудь другой, вероятно, пояснял бы очень долго и сложно, без конца путаясь в формулировках. «Все, что происходит, находится здесь, – он подносит руку к голове. – Прежде чем это спрыгнет на кончик пера или кисти, оно должно ощущаться здесь, в кончиках пальцев, оно должно полностью сконцентрироваться в них».
Некоторое время спустя Пикассо принялся за поиски своей живописи; он сбивался с дороги, попадал в тупики, возвращался и начинал сначала, правда, продолжалось это очень недолго, но, как и на том экзамене в барселонской Школе, он всегда точно знал, что хочет сделать именно сейчас, в данный момент.
Итак, дон Хосе вместе с семьей переехал жить в Барселону, ему представилась возможность поменяться местами с преподавателем Школы изящных искусств, предпочитавшим работать в Ла-Корунье. Но, хотя работа в Барселоне, самом в то время оживленном испанском городе, весьма недурно оплачивается, он все же не чувствует здесь себя лучше, чем в Ла-Корунье, тоскуя по тихой жизни в Малаге. Он ощущает себя изгнанником. Тоска по Малаге – это тоска по упущенным возможностям, по молодости, по тому, что могло бы быть в его жизни, но так и не случилось. Его друзья, художники, нашли свою дорогу, а он остался в стороне. Они стали членами Королевской Академии, о них пишут в газетах, они купаются в лучах славы, они разбогатели и позабыли о своем друге, погрязшем в посредственности. Хосе Руис чувствовал, что судьба предала его: «Ни Малаги, ни быков, ни друзей, ничего».
Сам Пабло тоже был несколько разочарован этой своей первой встречей с большим городом. Ему тогда исполнилось всего 15 лет. До сих пор он еще не пережил ни одного серьезного потрясения. Здесь, в Барселоне, он мог бы испытать и воспринять самые различные влияния, которых множество, они перемешиваются, противоречат друг другу, число их все время растет. Пабло и вправду их воспринимает, но на свой лад, ловя все, что можно поймать, но не давая этому проникнуть в глубину своего существа.
Гуляя по улицам Барселоны, Пабло сталкивается с единственным в своем роде феноменом, неким пароксизмом стиля модерн, который Гауди увековечил в камне. Кассу сказал: «Антонио Гауди – один из тех эксцентричных персонажей, которых много в Испании и на которых она частенько жалуется. Кажется, что они балансируют на грани безумия, а в жизни и в работе используют колдовские приемы». Он бросил вызов старинным архитектурным традициям, законам материи, строго установленным соотношениям между человеком и пространством. Среди влияний, пришедших извне, Барселона испытала уже воздействие неоготической архитектуры с ее стрельчатыми фронтонами, высокими крышами, остроконечными башенками, которые казались здесь чужими. Тем не менее готика для Гауди стала одним из источников вдохновения, того вдохновения, которое ниспровергает саму основу структуры, убирает контрфорсы и арки, это готика театральная, более естественно смотрящаяся в полотне и прессованном картоне, чем в камне или кирпиче. Неправдоподобность, берущая верх во всех конструкциях Гауди, тесно соседствует с искусственностью, с обманчивой глубиной кулис или кинокадров. Один из биографов Гауди заявил как-то (и не без оснований), что когда-нибудь фантасмагорические коридоры Каса Баттло будут использованы в качестве экспрессионистского декора к «Доктору Калигари» [1]1
«Кабинет доктора Калпгари» (реж. Р. Вине) – немецкий экспрессионистский фильм.
[Закрыть]. Это беззастенчиво-небрежное обращение с материалом, вызывающее у камня конвульсии, которые заставляют тяжелые крыши колебаться, как лист толя на ветру, колонны – наклоняться, а каминные трубы – извиваться по-змеиному, придающее скалам вид животных, а кованому железу – сходство с мясистыми стеблями растений, все это могло оставить глубокий отпечаток в несформировавшемся еще мозгу. Новое видение художника должно было подпасть под влияние этой полихроматической архитектуры, этих цветных фаянсовых осколков, которые в балюстраде парка Гуэль сливаются с отблесками горизонта. Однако сама несоразмерность этих экстравагантностей, видимо, оттолкнула очень еще молодого Пабло Пикассо.
Тем не менее в этом сумасшедшем искусстве Гауди чувствуется уже художественный авантюризм будущего. Экспрессионизм мог бы назвать его творчество одним из своих истоков; а сюрреализм и натурализм – вдохновиться этими скульптурными нагромождениями, кишащими на портиках церкви Саграда Фамилиа (выполнены они были по фотографиям или муляжам с живой натуры).
У Гауди можно найти и обращение к истокам примитивного искусства, которое позже будет предшествовать решительному повороту в искусстве Пикассо. «Оригинальность, – сказал Гауди, – это возврат к истокам». Головокружительные конусы, которыми он увенчал храм Саграда Фамилиа, напоминают негритянские постройки Экваториальной Африки; впервые Гауди использовал эту форму, работая над проектом францисканских миссий в Танжере.
Если отвлечься от поиска неслыханных форм, то во всем опыте Гауди есть один аспект, который, видимо, смог бы поразить воображение Пикассо: осуществление невозможного, необузданная мечта, облеченная в конкретную форму. По весьма редкому стечению обстоятельств, Гауди повстречал на своем пути одного из самых могущественных сеньоров Барселоны, графа Эусебио Гуэля, что и дало ему возможность дать жизнь монстрам своего воображения.
Этот триумф невозможного, повлиял ли он хоть в какой-то степени на молодого Пикассо, как это принято считать? Сам Пикассо это отрицает: «Нет, он не произвел на меня никакого впечатления. На мою молодость он никак не повлиял». И потом: «Возможно, произошло как раз обратное». На выставке Гауди, организованной в Барселоне уже после его смерти, были представлены многочисленные его проекты, так вот в некоторых из них ясно ощущается влияние художника, который был намного моложе признанного и заслуженного мастера. «Любопытно, не правда ли?» – задумчиво говорит Пикассо. Гауди было больше сорока, когда пятнадцатилетний мальчик приехал в Барселону, он был уже знаменит, тогда как молодой Пабло еще многие годы будет идти к известности; но великий старец уже перед смертью, в 1926 году, в семьдесят пять лет, видимо, вдохновился этой молодой силой, с которой он, вероятно, столкнулся однажды, сам того не зная.
Барселона – средиземноморский порт, она, как и любой другой портовый город, принимает вся и всех, здесь оседает и плохое и хорошее, причем плохое приживается легче. По словам Кассу, особенность этого города в том, что «он не знает, что такое хороший вкус… Дурной же вкус утверждает себя здесь весьма агрессивным образом». Возможно, молодому Пикассо трудно еще судить об атмосфере, в которую его погрузили, но уже тогда он знал или, во всяком случае, предчувствовал, что эти первые годы в Барселоне не повлияют благотворным образом на его работу. Однажды, обнаружив пейзаж, написанный им в 1896 году, Пикассо содрогнулся: «Ох, этот период, я его ненавижу. То, что я делал раньше, было намного лучше».
В этом 1896 году он не хочет или не может работать дома. Дон Хосе снимает для него, «как для взрослого», мастерскую на улице Ла-Плата. Однако, сменив место жительства, Пикассо не смог уйти от опеки своего отца. Сюжеты, которые он выбирает под влиянием Хосе Руиса, самые что ни на есть конформистские, исполнение – условное. Тем не менее картины эти позволяют ему добиться того успеха, на который он нацелен. Это: «Первое причастие», отправленное (и принятое) на муниципальную выставку в Барселоне весной 1896 года (коллекция доктора Витальто, Барселона); «Ребенок из хора» (коллекция Сала в Малаге); «Человек с масляной лампой» (коллекция Льобет, Барселона); «Две утки», маленькая картина, которую отец послал на выставку в Малагу, она получила там премию.
В этом же году Пабло написал маленький «Портрет Лолы», своей младшей сестры. Портрет этот он оставил у себя. Сидящая девочка держит на коленях куклу. Она очень похожа на своего брата: довольно большой нос, короткая верхняя губа, нижняя же довольно мясистая. Общий темно-серый тон картины побуждает его особенно старательно поработать над колористикой платья девочки и над самим фоном, где в глубине угадываются висящие на стене японские веера (дань тогдашний моде) и эстамп.
Это уже можно было бы счесть свидетельством полной ассимиляции, вкусом времени, рисующим его рукой. Эта условность характеризует и рисунки, сделанные китайской тушью и углем, и акварели: «Читающая девушка», «Стоящий мужчина», «Пруд в барселонском парке» с тремя лебедями и грациозной дамой под зонтиком, облокотившейся на балюстраду. Одним из первых его больших полотен, относящихся к этому периоду, с персонажами в натуральную величину, была «Штыковая атака». Картина настолько велика, что ее оказалось невозможным вынести из квартиры по лестнице и пришлось, к великому удовольствию прохожих, спускать из окна на шнурах от штор.
Эту сцену, пронизанную воинственным пылом, первое большое произведение будущего автора «Герники», Пабло счел недостаточно хорошей и не заслуживающей того, чтобы ее сохранить. Через некоторое время он заново загрунтовал полотно и написал гораздо более мирный сюжет, названный поначалу довольно скромно: «Визит к больной». Дон Хосе продолжает наставлять сына, лелея в своем воображении успех, скроенный по его собственной мерке. Это он придумывает композицию и он же служит моделью для бородатого врача, проверяющего пульс больной, над которой склонилась сестра, держащая на руках младенца. Картину, которую по такому случаю помпезно окрестили «Наука и милосердие», отправляют на выставку изобразительных искусств в Мадрид, где она удостаивается весьма лестных отзывов.
Пикассо отнюдь не испытывает снисхождения к этим своим первым попыткам и, поскольку его чувство юмора обращается против него самого так же легко, как и против других, со смехом вспоминает высказывание одного критика: «На руке врача, щупающего пульс, была перчатка…».
В 1897 году, несомненно воодушевленный своими скромными успехами, молодой Пабло отправляется в Мадрид. Здесь ему удается с такой же легкостью, как и в Барселоне, сдать экзамен в Академию Сан-Фернандо, выполнив за несколько часов задание, рассчитанное на несколько дней. Родители Пабло, которые отнюдь не бедствуют, оплатили ему проезд до Мадрида, а также пообещали присылать деньги. Денег этих, правда, очень-мало, «несколько песет, – рассказывает Пикассо, – как раз хватало, чтобы не умереть с голоду». И он начинает учиться переносить лишения. Однако вдали от родных, которые заранее обозначили своими вехами его путь к успеху, подросток начинает бунтовать. Он отказывается работать в Академии, зная, что его школа не здесь. Родственники, возмущенные таким непослушанием, вообще перестают присылать деньги. Только отец, «бедняга», продолжает присылать все, что только можно.
Весной 1898 года Пабло заболел скарлатиной. Ощущение слабости во время болезни вызвало у него самую настоящую депрессию. Тогда он впервые почувствовал страх человека, который почти всегда здоров, перед болезнью. Для того чтобы жить и работать, ему необходимы все его силы. На протяжении всей жизни Пикассо будет пугать любое недомогание у него или у его близких.
Чувствуя необходимость как можно скорее восстановить силы, Пабло принимает предложение одного из своих друзей, художника Мануэля Пальяреса, провести некоторое время у него, в Хорта-де-Сан Хуан. Он пробудет там несколько месяцев, ведя самую что ни на есть обычную деревенскую жизнь. Это не было ни естественным проявлением любопытства юного создания, ни быстро угасающим интересом горожанина, который побуждает его в течение некоторого времени поработать вместе со всеми в поле или на ферме. Это было желание соприкоснуться с постоянными жизненными факторами, со сменой времен года, с нравами и повадками животных, с природой вещей, которые не разочаруют вас своей ненадежностью. Эту потребность будущий «приемный» парижанин сохранит на всю жизнь, для пего это станет способом ощутить равновесие, сопротивляясь искусственности большого города. В Хорга молодой Пабло учится ухаживать за курами, доить коров, делать перевязки лошадям, доставать воду из колодца, собирать хворост, готовить рис и вязать крепкие узлы. «Всему, что я знаю, я научился в деревне Пальяреса», – говорит он. Это знание повседневных вещей – не единственное, что он взял у Пальяреса. Задушевная дружба – это то, что останется с Пикассо на всю жизнь.
Есть в Пабло Пикассо что-то, делающее его похожим на человека, живущего на открытом воздухе. Кажется, что он вобрал в себя солнце и ветер, его жесты требуют пространства, если о нем ничего не знать, то можно подумать, что перед вами горец или моряк. И хотя он и проводит целые дни, а то и недели, в своей парижской мастерской, видя в окне только низкое небо, серые крыши или голые деревья, когда он входит в комнату, вам кажется, что он только что вернулся из большого путешествия; вместе с ним к вам врываются дыхание ветра, солнечные лучи и запах дождя.
Набросок автопортрета, сделанный в 1898 году, показывает его таким, каким он был тогда. В силуэте рисующего семнадцатилетнего парнишки чувствуется еще нескладность подростка, упрямая посадка головы, костлявые запястья… Его городская одежда, манишка и широкий галстук художника, не слишком ему идет; волосы, разделенные на прямой пробор, явно только что призваны к порядку, но в этом быстром наброске видно уже свойственное молодому художнику упорство и сосредоточенный взгляд.
Вернувшись из Хорта, Пабло начинает работать у друга, который был постарше, чем он сам, Хосефа Кардона Итурро, посвятившего себя скульптуре. Он явно испытывает влияние немецких прерафаэлитов, особенно Овербека, но молодой Пабло интересуется не столько эстетическими теориями, сколько техникой. «Он пишет и рисует без устали». Когда Сабартес приходит его навестить, он находит его сидящим среди целого вороха рисунков.
Мастерская, в которой он в это время работает, не что иное, как обыкновенная комната в квартире корсетницы, матери Кардоны. Пикассо, которого с детства чрезвычайно занимали тайны ручного труда, со вниманием следит за мастерицами, которые проделывают дырочки для шнурков в длинных корсетах из китового уса, этих жестких формах для женских изгибов. Он сам пробует поработать на машинке, чья точность его забавляет.
Все, кто близко знал Пикассо, обязательно наблюдали, как его ловкие пальцы превращали кусок проволоки или клочок бумаги в фигурку, лицо, знакомый предмет. Обычно он делал это почти бессознательно, когда ему прискучивал разговор.
Пабло Руис Пикассо – так он теперь подписывает свои картины, а в характере его начинают все четче проявляться постоянные черты. В 18 или 19 лет он уже входит в литературную и художественную элиту Барселоны, причем большинство ее представителей гораздо старше его. Каталонцы приняли его к себе не без труда, ведь он был андалузцем и уже потому – подозрительным, кем-то вроде тореро или цыгана. Однако Пабло все же заставил их признать себя, притом позже они не могли понять, с чего вдруг этот молодой незнакомец стал пользоваться подобным авторитетом. Общительным он не был, скорее – сдержанным, никогда не шел навстречу привязанностям или признаниям, от него легче было дождаться шутки или каламбура, чем комплимента. Но он присутствует. Он этим удовлетворен. Придет время, когда его присутствие начнет становиться все более и более заметным.
На свой лад, завладевая и исключая, он испытывает влияние этой среды. Самые разные течения, перекрещивающиеся в Барселоне, идут из одного и того же источника: необходимости обеспечить материальную, то бишь финансовую, безопасность. Декадентский век подходит к концу. Как и повсюду, тоска сентиментальная и духовная бросает здесь вызов человеку XIX века, человеку, восхищающемуся достижениями промышленности; это вызов буржуазному покою, вскормленному на незыблемых ценностях, покою, быть может, даже не подозревающему, что такое множество новых ферментов могло появиться и развиваться только в основательно замешанном тесте.