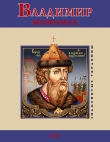Текст книги "Владимир Мономах"
Автор книги: Антонин Ладинский
Соавторы: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 57 страниц)
11
Так началась константинопольская жизнь Олега. Когда он выходил из своего дома, прохладного даже в полдневную жару, так как во внутреннем дворе днём и ночью шумел водомет, его неизменно сопровождал на прогулках Халкидоний, приставленный свыше к особе архонта, как знающий язык руссов, в качестве переводчика и соглядатая. Точнее говоря, спафарий знал болгарский язык. Но известно всем, что руссы и болгары отлично понимают друг друга и считаются братьями. Халкидоний ещё не удостоился получить обещанную награду – звание протоспафария – и плёлся за князем не всегда в хорошем настроении, возмущаясь до глубины души ничем не извинительной волокитой, царящей в государственных секретах. Обычно за ними следовали позади трое или четверо вооружённых служителей. Для большего почёта, как объяснял Олегу спафарий, в действительности же для предотвращения побега или попытки освободить знатного пленника. Ведь Халкидоний отвечал за порученного его заботам Олега собственной головой. Спафарий заметался, выполняя причудливые желания молодого архонта или улаживая всякие неприятные истории, в которых тот был замешан. То князь с необъяснимым упрямством во что бы то ни стало хотел носить красные сапоги, хотя его предупреждали ещё в день прибытия в Константинополь, что обувь такого цвета имеет право надевать на ромейской земле только царь; то он скакал, как безумный, на коне по Месе, вызывая восторг легкомысленных девиц и наводя ужас на степенных прохожих и торговцев. На прогулке, очутившись на улице, Олег останавливался на каждом шагу. Его внимание привлекали товары, разложенные на мраморных прилавках, – парчовые ткани, оружие с золотыми украшениями, сарацинские сёдла с красными шариками и бирюзой. Вдруг князю хотелось зайти в попавшуюся на пути церковь с мощами прославленного мученика. Иногда он, горделиво подбоченясь, не сводил взгляда с какой-нибудь красивой женщины в богатом одеянии.
– Кто эта жена? – спрашивал Олег, толкая локтем Халкидония.
– Откуда мне знать? – сердился спафарий. – Их тысячи в нашем городе.
Горожанка с улыбкой оборачивалась, догадываясь, что это на неё обратил благосклонное внимание красивый чужестранец в плаще непривычного покроя и парчовой шапке. В полной уверенности, что её провожают взглядами, она делала свою походку соблазнительной, без всяких дурных помыслов, совершенно бескорыстно.
Олег задумчиво крутил светлый ус. Конечно, это было не в Чернигове, где все знали друг друга и где он любил разглядывать в Михайловской церкви красивых боярынь, пришедших к обедне.
На площади шумело перед Олегом константинопольское торжище. Нигде не приходилось ему видеть столько злачных мест, как в Царьграде; притоны и корчмы привлекали молодого князя необычностью обстановки, музыкой, песнями корабельщиков и, главное, смехом смазливых и весёлых женщин, продававших свои поцелуи.
Как только над Константинополем спускалась тёплая ночь и в лавках торговцев шёлковыми материями зажигались масляные светильники, Олег надевал своё пышное корзно и отправлялся в лабиринт подозрительных кривых улочек, богатых неожиданными встречами и приключениями. Порой, сидя в каком-нибудь вонючем кабаке перед оловянным кубком кислого вина, рядом с молчаливо сопевшим Халкидонием, Олег вспоминал прошлое. Вдруг вставал любимый Чернигов со своим прекрасным собором. Владимир Мономах сидел с книгой в руках, а его зеленоглазая супруга стыдливо опускала очи под дерзкими взорами гостя… А здесь он, князь и сын князя, не в царском дворце, а в корчме, где нарумяненные блудницы, даже аспидоподобные эфиопки бесстыдно показывали сосцы, выпрашивали у пьяных посетителей жалкие медяки. Греческие корабельщики пели что-то заунывное, а потом, выхватывая из-за пазухи ножи, дрались с другими мореходами. Тогда хозяин таверны разнимал буянов и выталкивал их на улицу, где сиял на чёрном небе над спящим городом золотой полумесяц и прохладный воздух после блевотины казался особенно чистым.
Жизнь Олега была полна превратностей. Сначала всё обещало полное благополучие. С юных лет приходилось садиться на коня и опоясываться мечом. Что было тогда, Халкидоний? Далёкий поход вместе с Мономахом, когда они были с ним как родные братья и по-братски делили трапезы под придорожным дубом. Владимир печалился о молодой жене, а он, Олег, был свободен, как ветер, и в каждом селении целовал красоток. Тогда они поделили с Мономахом тысячу гривен, взятых в виде дани. Но после смерти отца, великого князя Святослава, начались трудные времена. Пиры и охоты прекратились, драгоценные сосуды, собранные в доме, разошлись по чужим рукам. Изяслав вывел его из Владимира, что на Волыни, и поселил в Чернигове, под надзором княжившего там сурового и богомольного Всеволода. Но черниговцы не любили киевских бояр и хотели иметь князя из рода Святослава, и он терпеливо ждал своего часа. Мономах угощал его обильными обедами, хотя сам не съедал за столом и двух кусков пирога, едва прикасался к чаше, но зато длинно говорил, вспоминал общие походы или читал ему вслух толстенные книги, в которых рассказывалось… О чём там рассказывалось? Нет, никогда не давалась Олегу книжная премудрость. Зато хорошо помнил он, как за столом смущалась под его взглядами прекрасная чужестранка, сияющая, как утренняя денница…
Однажды Олег засиделся в одном из константинопольских вертепов. Халкидоний заметил, позёвывая:
– Скоро и утреня. Не пора ли на покой?
Князь взял в руки кувшин с вином и отпил половину.
– Кто держит тебя? – сказал он, вытирая тыльной стороной руки мокрый от вина рот.
По примеру отца, Олег не носил бороды, оставил только длинные шелковистые усы. Его глаза, полные гордыни, светились презрением ко всем, кто не был княжеского или царского рода. Война, добыча, власть, дорогое оружие, породистые кони, пламенные женщины… Вот что составляло его радость и смысл жизни. Побольше серебра, селений, рабов…
Блудница, стоявшая у скамьи, на которой сидел молодой князь, совсем рядом, склонилась к нему и умильно шептала, прижимаясь мягкой грудью, обнимая воина за плечи:
– Хочешь, я спляшу тебе? Или пойдём и ты возляжешь со мной, как в тот вечер. Помнишь?
Русский архонт не знал греческого языка, но по жестам и выражению лица у этой женщины догадался, о чём идёт речь.
– Халкидоний! – обратился он к сонному спафарию.
– Слушаю тебя.
– Дай ей серебрении.
– За что?
– Чего мне жалеть деньги из царской сокровищницы?
Сопя и хмурясь, Халкидоний вынул из-за пазухи старый кошель, сделанный из потёртой парчи, с опаской огляделся по сторонам, зная, что тут немало злодеев и татей, зарящихся на чужое добро, развязал зубами ремешок и, запустив руку в суму, вынул серебряную монету. Женщина взяла её, подбросила в воздух и ловко поймала. Затем милиарисий исчез как дым. Поблагодарив князя улыбкой, блудница отправилась в дальний угол харчевни, где происходила яростная игра в кости.
Когда костяшки с сухим треском падали на стол, несколько косматых голов одновременно склонялись к ним и снова откидывались назад, и уже тот, кому подошла очередь метать зернь, с увлечением тряс белые кубики с чёрными очками в кожаной стопке.
Ещё один игрок захотел попытать своё счастье. Он сгрёб костлявой рукой костяшки со столешницы, долго тарахтел ими то у правого уха, то у левого, оглядывая весёлыми глазами людей, сидевших за грязными столами или препиравшихся с трактирщиком у жаровни, где варились бобы с чесноком. Лицо этого человека на мгновение попало в поле зрения Олега, потом снова всё заволок туман воспоминаний.
…Мономах в любой час готов вскочить на коня и ехать средь ночи по лесной дороге. Но немало и Олег провёл ночей под открытым небом, глядя на яркие степные звёзды, пушистые и трепетные, как женские очи под длинными ресницами. Не счесть поездок и ночлегов в шатре, чтобы не проспать утреннюю зарю. Владимир пытался просветить его книжным чтением. Нет, пусть занимаются подобными делами монахи и епископы. В нём бушевала мужская сила. Как хотелось ему тогда соблазнить молодую женщину с зелёными глазами, приехавшую на Русь из далёкой страны! Однажды он обнял её и уже почувствовал перстами нежность её тела, уже опьяняла его женская теплота, но Гита оттолкнула насильника и, задыхаясь от гнева, сказала страшным голосом:
– Как посмел ты…
Вскоре ему пришлось бежать в Тмутаракань. Потом загремела битва на Сожице. Не худо тогда его половцы посекли воинов Всеволода! Сам старик едва спас свою жизнь, убегая, как заяц, с поля сражения. А как радостно приняли его, Святославова сына, черниговцы! Но Владимир ворвался в окольный город, стал жечь посады, и, чтобы не губить отцовское наследие, Олег вышел через Восточные ворота и ушёл в степь. Чернигов отдали на княжение святоше Владимиру. Ведь у Всеволода лари были полны серебром, а в жилах его сына наполовину течёт греческая кровь. В Царьграде у них нашлись союзники. Половцев перекупили за подарки, и Всеволод заключил с ними мир. Тогда эти предатели и убили его милого брата Романа, и никто теперь не знает, где лежат его кости – лежат без христианского погребения. Он сам даже в далёкой Тмутаракани не мог найти прибежище, и здесь достала его десница киевского князя. Проклятые хазары… Но ныне ветер как будто бы снова менялся…
Халкидонию хотелось спать. Он зевал во весь свой широкий рот.
– Князь, не пора ли покинуть это злачное место?
– Ещё не пора.
Халкидоний опять зевнул, щёлкая зубами, как пёс, ловящий мух.
…Что теперь на Руси? Всеволод сидел в Киеве, Владимир в Чернигове, а его судьба забросила за море. Но живёшь-то один раз на свете. Перед глазами Олега выплыла из тумана ангелоподобная красота Феофании. Широко расставленные агатовые, круглые, как у птицы, глаза, маленький яркий рот и острый подбородок. Обилие чёрных волос, перевязанных голубой лентой. Как у ангела. Олег улыбнулся. Сквозь пьяный туман к нему тянулись нежные девичьи губы для лобзания. Однако в дальнем углу опять появилась богомерзкая рожа игрока, мечущего кости. Опять этот разбойник тряс костяшки, прикрывая кожаную стопку огромной рукой, и не спускал насмешливых глаз с князя Олега.
Побуждаемый нуждою, Халкидоний встал и вышел, нагибаясь в низенькой двери, прочно сбитой и с окошечком, забранным решёткой. И едва он оставил корчму, как игрок в зернь отодвинул от себя костяшки и подошёл к князю, стаскивая с головы колпак, что был когда-то красным.
– Будь здоров, князь! – сказал он.
Олег с удивлением посмотрел на прощелыгу, услышав русскую речь. Конечно, этот человек был с Руси, высокий детина, со светлой и как бы сбитой на одну сторону бородой, с копною давно не чесанных волос, с неунывающими голубыми глазами, хотя одежда его превратилась в лохмотья и сквозь драную русскую рубаху просвечивало загорелое тело и поблескивал на груди медный крест на грязной тесьме. На портах виднелись заплаты, а ноги были босы.
– Ты наш? – спросил Олег.
– Наш.
– Из какой земли?
– Из Чернигова.
– Из Чернигова? – удивился князь. – Как же ты сюда попал?
– Из Тмутаракани.
Подобрев от вина, князь стал расспрашивать незнакомца, видом своим напоминавшего разбойника:
– Из Тмутаракани? Добро.
– Был конюхом в княжеской дружине, – пояснил смерд.
– Не с хазарами ли ты был в том городе?
– Нет, у князя Романа, твоего светлого брата. И тебя я сразу узнал. На Сожице мы с твоими отроками киевскую рать саблями порубили. Тогда ты был полон веселия. А ныне что сталось с тобою, княже?
– Ныне худо стало.
– Худо.
– А ты кто?
– Я Борей.
– Не помню тебя.
– У боярина Ивана Еленича был… – со злобой перекосил рот Борей.
– Еленич… – протянул князь, что-то смутно припоминая.
Он вспомнил, что этого боярина убил секирой его собственный холоп и убежал в неведомые страны, спасая свою голову.
– Не ты ли боярина зарезал?
Борей отвёл взгляд в сторону.
– Разве мёртвого воскресишь?
У конюха были мощные руки. Олег теперь уже знал, кто стоит перед ним. Еленич отнял у холопа жену и три ночи ласкал её в своей опочивальне, а потом выгнал из хором на посмеяние отрокам, и она исчезла, не оставив после себя никаких следов. Никто больше ничего не слыхал о ней с тех пор.
– А жена твоя? – спросил Олег, не глядя на Борея.
– Отлетела её душа.
– Умерла?
– Утопилась.
Понемногу в памяти Олега восстанавливалось прошлое. Двор у боярина Еленича. Портомойня. Беззаботный женский смех и среди других – румяное лицо, красное ожерелье на белой шее. И вот утопилась…
– Другую найдёшь, – сказал он сквозь зубы.
– Не искал.
– Что творишь тут?
– На причалах с кораблей корчаги сгружаю.
– А люди, что с тобой кости мечут, тоже из нашей земли?
– Греки.
– Как же разумеешь их?
– Нужда заставит человека и птичье пенье понимать.
– Тоже корабли разгружают?
– Они корабельщики.
При этих словах Олег подумал с раздражением, что даже эти бродяги плывут по волнам куда хотят, а он должен ждать у моря погоды.
– Князь! – сказал Борей и почесал косматую голову.
– Что тебе?
– Уйдём в Тмутаракань.
Олег рассмеялся.
– А смерть боярина как замолишь?
– Если пожелаешь, все следы потеряются.
Молодой князь протрезвел немного и бросил взгляд в сторону двери, чтобы удостовериться, не возвращается ли Халкидоний со двора, где находилась вонючая латрина. Он повеселел и смеялся уже от удовольствия.
– Тмутаракань! Любо мне там. Но не легко до неё доплыть. Где корабль возьму?
– Если есть серебро, корабль и корабельщики найдутся. А ветер смелым в корму дует.
Опять появились на мгновение влюблённые глаза Феофании. Они проникали в самую душу. В этом огромном мире такая странная жизнь, что не знаешь, где правда, а где ложь и с какого конца приступать ко всякому делу. Всё перемешалось – война и мир, любовь и нажива. Олег догадывался, что вокруг него плетётся паутина, связывавшая его с каждым днём крепче железных цепей. Ему намекали, что помогут советами и золотом и даже греческим огнём, поднимут половцев, если он пожелает завладеть не только своим, неизвестно чем прельстившим его Черниговом, но и Киевом. Однако логофет напоминал, что в таком случае надлежит объявить себя верным другом царя и исполнять его повеления, за что будут пожалованы звания и всякие отличия. Теперь в эту игру включили и любовь Феофании, шестнадцатилетней девушки. Недаром вчера Никифор неоднократно напоминал о юной красавице. Олегу представлялось, что таким способом царедворцы надеялись крепче привязать его к своему греческому делу. Поистине, не попытаться ли бежать на Русь и начать борьбу с самого начала? Но в кармане его штанов звякали всего два золотых. Сжимая кулаки и зло глядя перед собою, князь повторил:
– Не легко это сделать, смерд.
– А уже приспело время. В Тмутаракани любят щедрых и храбрых князей, и в Чернигове тебя давно ждут.
Князь посмотрел на лохматую голову Борея и подумал, что этот смышлёный холоп может ему пригодиться в будущем. Он спросил:
– Знаешь дом мой?
– Откуда мне знать его?
– Видел церковь Фомы?
– Красную, с золотым крестом?
– Рядом с нею каменный дом на улице.
– Здесь все дома каменные.
– В моём доме над воротами мраморная птица.
– Видел.
– Явись ко мне тайно.
В двери, нагибаясь в три погибели под низкой притолокой, показался Халкидоний.
Князь сказал бывшему конюху:
– Иди теперь.
Борей молча отошёл.
Спафарий, приводя в порядок одежду, приблизился к столу. Чрево у него было внушительное, как у епископа, глаза маленькие. Заметил косматого бродягу и спросил, позёвывая:
– Зачем подходил?
– Деньги просил.
– Попрошайки, – проворчал спафарий.
Князь тоже притворно зевнул и предложил:
– Не пора ли на покой?
На улицах уже просыпалась жизнь. Огромные звёзды на мутном предутреннем небе побледнели. Со стороны моря веял приятный ветерок. По направлению к Ипподрому торопливо двигались люди. Это были придворные чины различных степеней, спешившие на дворцовую церемонию. Они скользили в мягких башмаках, как тени, переговариваясь между собою об очередном посвящении в звание патрикия или о других милостях благочестивого. Халкидоний с грустью подумал, что не будь архонта у него на шее, и он тоже провёл бы ночь, как полагается христианину, в тёплой постели, в объятиях супруги, а в этот час шёл бы вместе с другими на Ипподром, как все спафарий и кандидаты.
Их перегнал сидевший на ушастом сером осле магистр, судя по белой хламиде с золотыми украшениями, обозначавшими его высокий чин. Это был Феодор Музалон. Старый вельможа трусил, смешно расставив локти и задирая носки жёлтой обуви. Седая борода тряслась в такт ослиной побежки. Позади поспевали за магистром два быстроногих служителя. Один из них держал в руке дымный смоляной факел, уже ненужный на рассвете дня.
Увидев русского архонта, который дважды бывал в его доме, Музалон закивал головой и обернулся, придерживая осла. Потом спросил Халкидония:
– Откуда направляете свои стопы?
Спафарий решил, что лучше прибегнуть к святой лжи, и сказал, покашляв в огромный кулак, не без смущения:
– Идём от полунощницы в церкви Сорока Мучеников.
Должно быть, магистр не поверил, потому что произнёс, с ласковым сокрушением поглядывая на архонта:
– Ах, молодость, молодость…
Вспомнив о своей единственной дочери Феофании, о надеждах, связанных с её красотой и невинностью, он лукаво погрозил князю перстом:
– Избегай путей, коими ходят нечестивые!
– Что он лопочет? – спросил Олег.
Спафарий перевёл отеческое наставление.
Подковы осла снова бойко застучали по каменной мостовой, и двое служителей, передохнувшие немного во время разговора, снова побежали за своим господином. С обеих сторон улицы возвышались глухие стены домов, кое-где только прорезанные на большой высоте оконцем, порой уже озарённым светильником трудолюбивой хозяйки или заботливой рабыни. В этом городе любили высокие стены, решётки, крепкие запоры, ограды, тишину внутренних дворов, потому что люди тщательно берегли своё имущество. В одном из таких домов, под незримым наблюдением, поселили и князя Олега. Над воротами его жилища красовался мраморный орёл, оставшийся от римских времён.
Когда князь подходил с Халкидонием к дому, он увидел, что у ворот его поджидает дворцовый вестник. На этот раз русского пленника приглашали не к логофету, как обычно, а на приём к самому императору.
12
Убедившись, что василевс проявляет к особе русского архонта большой интерес и связывает с ним какие-то тайные планы, известные только логофету дрома, константинопольские вельможи стали наперебой выражать Олегу своё расположение и даже приглашать его при всяком удобном случае в свои дома. Обычно это были довольно скучные, хотя и обильные, обеды, во время которых за столом велись душеспасительные разговоры на непонятном для князя языке. Халкидоний, работавший рядом с ним с завидным усердием челюстями, и тут выполнял обязанности переводчика, если хозяину или кому-нибудь из гостей приходило на ум задать архонту тот или иной вопрос. Чаще всего эти люди любопытствовали по поводу цен на меха и воск, расспрашивали о суровом климате Скифии, о её снегах и непроходимых чащах, где водились соболь и чёрная лиса. Халкидоний переставал жевать, вытирал рот рукой и, глядя в одну точку перед собой, переводил вопрос и ответ. И тогда удовлетворивший своё любопытство хозяин, придерживая рукав одной руки другою, брал с блюда ещё один кусок пирога и передавал архонту, и тотчас появлялся служитель, чтобы протянуть гостю полотенце для вытирания рук, а виночерпий наполнял его чашу вином, разбавленным тёплой водой.
Когда трапеза происходила у магистра Феодора Музалона, его дочь Феофания не сводила глаз с красивого варвара.
Олегу трудно было следить за разговорами, какие велись на подобных собраниях, хотя иногда он и спрашивал у Халкидония, почему греки вдруг вставали со своих мест и, выразительно размахивая руками, выкрикивали друг другу слова, должно быть весьма неприятные, если судить по выражению лиц у спорщиков. Особенно часто он наблюдал подобное оживление в доме Музалона. Действительно, как это ни странно, но у магистра, несмотря на пышное звание, человека не очень образованного и не посвящённого в глубины философии, собирался цвет греческой образованности. Иногда здесь бывал даже Михаил Пселл, недавно покинувший столицу, но неизменно приглашаемый к Музалону при каждом посещении Константинополя и принимавший охотно участие в научных спорах. Бывали в доме магистра также преемник Пселла, новый наставник философского факультета Иоанн Итал, молодой поэт, подававший большие надежды, Феодор Продром, врач и стихотворец Николай Калликл и другие не менее образованные мужи.
Однажды Олег был свидетелем большой ссоры в этом обществе. В тот день на почётном месте сидел Михаил Пселл. На нём шумела монашеская ряса из великолепного чёрного шёлка, и от него пахло благовониями. Как всегда, борода философа была старательно подстрижена. Олег, попадавший на такие собрания только по прихоти своей странной судьбы и благодаря каким-то расчётам магистра Феодора, заметил, что этот инок, перед тем как сесть за стол, очень оживлённо разговаривал с красивой женщиной, прижимал руки к сердцу и даже шептал ей что-то на ушко, от чего красавица смеялась от души, а затем, потирая руки, приступил к еде, для начала выбрав на столе ножку фазана. Кто-то из соседей не выдержал и позволил себе выразить по этому поводу своё недоумение:
– С каких пор монахи вкушают мясо?
Пселл сделал вид, что ничего не понимает:
– Мясо? Какое мясо?
– Вот ты ешь фазана и даже облизываешь пальцы, – уже возмущался блюститель монашеских уставов, хотя сам не менее деятельно расправлялся с крылышком той же самой птицы.
– А я предполагал, что это рыба! – изумился Пселл.
Слышавшие этот разговор смеялись. Русский князь не мог по незнанию языка оценить шутку философа, посмеяться вместе с другими. Он вознаграждал себя тем, что пил вино, особенно если рядом сидел какой-нибудь пьянчужка вроде знатока церковных канонов Феофилакта. Они объяснялись друг с другом только жестами, но, подвыпив, чувствовали взаимную любовь. У законоведа, горького пьяницы, умерла жена, которую он нежно любил, князь чувствовал себя одиноким среди этих чуждых болтунов. Русь, ты была далеко, за морем! Олег опять подставлял чашу виночерпию. А между тем Михаил Пселл уже прислушивался к тому, что изрекал на другом конце стола Иоанн Итал.
У этого большеголового человека прежде всего обращал на себя внимание необычайно выпуклый лоб. Каждый, кто смотрел на него и на подобное чело, невольно спрашивал себя: что же таится там, какие мысли и какие хитросплетения? Обладая завидным здоровьем и хорошим дыханием, Итал мог произносить длинные тирады. Высотою роста он не отличался, за бородой не ухаживал, однако горе было тому, кто вступал с ним в спор неподготовленным. Этот замечательный диалектик так донимал противника каверзными вопросами и до такой степени запутывал нерасторопного спорщика, что от бедняги только перья летели, к великому удовольствию присутствующих на прении. Однажды Итал, обративший на себя внимание высоких сфер, был послан в Италию, как уроженец этой страны, с царским поручением, но его обвинили в предательстве. Он бежал, позднее получил прощение и вернулся в Константинополь, где ему было предписано жить в монастыре Животворного источника. Когда же Пселл покинул столицу, Итала сделали ипатом философов, и он занялся объяснением Аристотеля и Платона.
Михаил Пселл, несколько утолив свой голод и выпив чашу вина, уже тянулся к духовной пище и жаждал поразить умением подбирать риторические цветы присутствующих молодых женщин, среди которых были образованные и даже читавшие Гомера.
Он услышал, как одна из приятельниц хозяйки неодобрительно отзывалась о женихе своей дочери:
– Елевферий любезный и обходительный молодой человек, но худощав и мал ростом, и это огорчительно.
Пселл тотчас подхватил фразу:
– Но ведь он не карлик? Кстати, когда я был секретарём у покойного василевса Константина Мономаха, его развлекал в часы плохого настроения шут ростом в три стопы. Как вы знаете, василевс содержал тогда наложницу, родом аланку.
– Говорят, была красавица… – перебила одна из слушательниц.
– Нельзя сказать, чтобы она была очень красивой, хотя и отличалась необыкновенно выразительными глазами и очень белой кожей. Этим она и покорила Константина. И можете себе представить! Шут тоже влюбился в аланку! Однажды мы навестили с василевсом его любовницу. За нами увязался этот карлик. Воспользовавшись удобным случаем, он стал бросать на молодую женщину вкрадчивые взгляды, украдкой улыбался ей, посылал воздушные поцелуи и даже пытался коснуться её ноги, Василевс заметил проделки шута и сказал, толкнув меня локтем: «Смотри, смотри! Оказывается, не я один влюблён в эти прекрасные глаза!»
– Я знаю, что василевс дарил тебя своим особенным вниманием, – заметил магистр Феодор, – но следует сказать, что это был весьма легкомысленный человек.
Пселл воздел руки:
– О, я плакал, видя, какие огромные суммы из государственной сокровищницы тратились на построение никому не нужных дворцов или даже на подарки потаскушкам. Ты прав, этот распутник был позором для царства ромеев.
Итал, слышавший заявление монаха, во всеуслышание произнёс:
– Тем не менее это не мешало нашему знаменитому философу писать в честь Константина пышные панегирики.
Пселл вздохнул:
– У каждого человека за плечами ошибки молодости.
– Странно только, что ты всегда ошибался так, что из этого извлекал для себя немалую пользу.
Итал недолюбливал Пселла и в разговоре с ним легко раздражался или печалился. Он оглядел направо и налево присутствующих, как бы призывая их в свидетели справедливости своих слов. Впрочем, этот человек по своему отвратительному характеру вообще не мог упустить малейшего повода, чтобы не сказать кому-нибудь неприятное.
– В конце концов, ничего особенно восхваляющего я не писал о Константине, – пробовал защищаться Пселл.
Его преемник вскочил при этих словах со скамьи и стал передразнивать бывшего учителя:
– Ничего особенно восхваляющего! Что ты писал о Константине? А вот что! Царь, ты заступник бедных, покровитель добрых и гневный каратель злых. Ты ввёл в государстве своими новеллами правосудие и справедливость и укрощаешь жадность сборщиков налогов. Ты не позволяешь, чтобы судьи вымогали мзду у просителей. Если бы Гесиод ещё жил в наши дни, то назвал бы твоё царствование золотым веком…
– Это же только риторический приём, – возопил Пселл.
Но Итал продолжал:
– Что ещё ты сочинил? Всего не упомнишь. Само собою разумеется, не дышат лестью и те строки по поводу Константина, в которых ты восхваляешь василевса как оросителя пустыни. Это когда он устроил в своём саду пруд, чтобы ротозеи падали в воду…
Пселл, поглаживая край стола холёными руками, метал молнии из глаз в сторону грубияна и варвара и раздумывал, как бы покарать злоязычие. Гости предвкушали удовольствие от горячей ссоры, понимая, что за личными нападками скрываются глубокие разногласия и в оценке современности, в понимании богословских проблем, и в толковании Аристотеля и Платона. Ни для кого не было секретом, что Итал интересовался не только этими мыслителями, но даже читал Ямвлиха и Прокла. И, может быть, ещё с большим удовольствием. Одним словом, диспут предстоял горячий.
И вот Пселл уже метнул первую отравленную стрелу:
– Во всяком случае, я не из тех, кто возбуждает своих слушателей против святой церкви.
Итал опять поднялся и бросил кусок мяса на тарелку. С раздувающимися ноздрями он воскликнул:
– Против святой церкви?! Может быть, приведёшь пример из моих высказываний?
Хозяин кинулся к нему, простирая руки, и всячески старался умерить гнев вспыльчивого философа. Но Итал, отталкивая магистра, рвался к Пселлу.
– Нет, не скажешь ли ты, наконец, в чём же заключаются мои прегрешения против церкви? Или я назову тебя при всех обманщиком и лжецом.
Но Пселл знал, что делает:
– А разве ты не учил о переселении душ и о том, что материя безначальна и столь же вечна, как бог?
На мгновение Итал остановился, обдумывая, как лучше дать отпор противнику.
Олег спросил у Халкидония, показывая движением подбородка на спорящих:
– Чего они не поделили?
Тот, продолжая уплетать за обе щеки кусок зайчатины и находясь в превосходном настроении духа, успокоил князя:
– Не обращай на них никакого внимания. Это всего лишь спор о первоначальном веществе, из коего сотворён мир.
Олег ничего не понял, но с пренебрежением подумал, что его другу и врагу Владимиру Мономаху было бы любопытно присутствовать при таком словесном состязании, так как переяславский князь знал греческий язык и любил читать сочинения мудрецов.
Развивая нападение, Пселл добавил:
– Кто, например, учит, что мёртвые восстанут из гробов не в тех телах, в каких они жили до своей смерти, а в иных…
Итал уже не мог дольше ждать:
– Совершенно верно. Мыслящая душа есть в то же время и формирующее начало. Поэтому естественно, что она образует для себя после смерти новое тело, подобное прежнему.
– Каким образом?
– С помощью присущих ей сил.
– А что ты скажешь относительно твоего утверждения, что материя вечна?
– Да, мне приходилось оспаривать догмат о сотворении мира из ничего. Однако каким образом и с какой целью? Исключительно для того, чтобы использовать это учение как оселок для проверки способности человеческого ума разрешать метафизические вопросы. Ты сам…
– Что я сам? – в свою очередь обеспокоился Пселл.
– Во всяком случае… Скажи, как, по-твоему, была обожествлена плоть Христа – по положению или по природе?
Пселл уже не знал, каким образом выбраться из этого спора, опасаясь, что Итал своими колючими, как жало пчелы, вопросами заведёт его в такой лабиринт, откуда не так-то легко найти выход.
– К чему подобные прения во время приятной трапезы? – попытался он успокоить спорщика, примирительно разводя руками над столом, уставленным вкусными яствами. Знаменитый писатель хотел выиграть время, ибо колебался, что же ответить относительно обожествления плоти.
– Это не прения, а всего один вопрос, на который ты обязан дать ответ, поскольку обвиняешь меня в ужасной ереси, – не унимался ипат философов.
Пселл старался постичь, какой подвох заключён в вопросе этого диалектика, и с ужасом подумал, что ему не приходилось задумываться над определением воплощения. Потом решил, что, пожалуй, правильнее будет второе решение. Он твёрдо произнёс:
– Конечно, по природе!
В эти минуты он лихорадочно размышлял о сущности догмата, но ему не пришло в голову подумать о том, что западня заключается в самой постановке вопроса.
– По природе? – Итал ликовал, потирая руки. – Ты изволил сказать – по природе? Не по положению?
– Не по положению, – уже с меньшей уверенностью ответил Пселл.