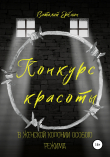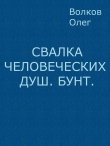Текст книги "Том 1. Педагогические работы 1922-1936"
Автор книги: Антон Макаренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
Докладная записка об организации свободной мастерской
В составе производственной части трудовой коммуны им. Ф. Э. Дзержинского состоит сапожная мастерская. Когда строилась и организовывалась трудкоммуна, мы только с трудом могли представить себе реальные условия работы в ней, ибо мы привыкли к другой обстановке работы. После месячного функционирования трудкоммуны оказалось:
1. Сапожная мастерская в ряду других мастерских коммуны оказывается слишком непривлекательной для воспитанников, слишком кустарной по сравнению с серьезно поставленными, электрифицированными деревообделочной и слесарно-механической мастерскими. Коммунары 1-го отряда (сапожники) представляются поэтому поставленными в слишком узкие производственные условия: несложный сапожный инструмент, однообразная и простая работа составляет чересчур большой контраст с другими мастерскими. Этот контраст не только кажущийся: и в действительности комплекс воспитывающих и организующих влияний в сапожной мастерской слишком беден среди других влияний коммуны.
2. Так как средний возраст коммунаров невелик и так как все население коммуна на 100% охватывается мастерскими, то получается, что весь средний и старший возраст поглощается деревообделочной и слесарной мастерскими и на долю сапожной остается младший возраст, совершенно к ней не подходящий.
Между тем ясно, что в составе наших мастерских должна быть одна мастерская легкого типа для возраста 11-12-13 лет. Проблема такой мастерской появляется впервые в практическом соцвосе именно в нашей коммуне, благодаря ее идеальной обстановке.
В решении вопроса, какую именно легкую мастерскую открыть вместо сапожной, для меня подсказывалось несколько решений (картонажная, переплетная), но ни одно из них не представляется вполне решающим.
Я было совсем остановился на переплетно-портфельной мастерской, но при более глубоком анализе отказался от нее.
Наконец я пришел к заключению, что наилучшим решением вопроса будет универсальная свободная мастерская, основные черты которой должны быть следующие:
а) она назначается для регулярных занятий младшего возраста и свободных занятий в клубные часы всех коммунаров;
б) в ней сосредоточены материалы и первичные инструменты по всем видам работы: по дереву, металлу, коже, гипсу, картону, электричеству и пр.;
в) она имеет целью подойти к ребенку со стороны его вкусов и способностей и дать ему возможность проявить себя в свободном трудовом усилии;
г) она не может иметь никакого производственного уклона, но в ней могут изготовляться интересные вещи, как-то: игрушки, модели, мелкие вещи комфорта, детали;
д) она вначале может быть бедная, но с течением времени обогащаться новыми видами работы и инструмента;
е) будучи свободной мастерской, она должна все же обязательно приучать воспитанника к серьезному отношению к работе, к ответственности;
ж) вокруг нее может расположиться теоретическое изыскание по формуле: «Что из чего делается».
Такая мастерская потребует единовременного расхода до 700 рублей и ежемесячного до 100 рублей.
Мастерская эта будет «новеллой» в области трудового воспитания, и поэтому окончательные ее формы будут найдены только в процессе работы.
Прошу об утверждении этого предложения.
А. Макаренко
Доклад на заседании секции социального воспитания Украинского НИИ педагогики
От имени трудкоммуны был представлен проект основных принципов, какие предполагалось положить в основу работы трудкоммуны, и в развитие этих принципов – внутренняя конституция. При этом должен заметить, что внутренняя конституция предполагалась для домашнего употребления, для детей, чтобы они могли следовать внутренним законам детской трудкоммуны.
Как указывалось научно-исследовательским институтом, в проекте имеется несколько неопределенных мест, что вызывает недоразумения. Отчасти это объясняется спешностью работы, а частью вытекает из сущности нашей проблемы. То, что в коммуну им. Дзержинского послана часть колонии им. Горького и тот уклад, который существует в колонии им. Горького, остался и у коммунаров-дзержинцев, – это и определило характер конституции. Я как основатель колонии им. Горького остался при прежних убеждениях и объясняю недоразумения только указанными обстоятельствами. Причем известное количество неопределенных мест выражает собой законную неясность, так как нужно дать возможность детскому коллективу творить формы своей жизни и быта. Слишком точно определить каждый шаг коммунаров представлялось бы излишним, ибо это значило не оставлять свободы для развития детского общества и общества педагогов, согласно тем условиям, в какие они попали, тем данным, какие имеют на будущее, и тем силам, какими обладают. В настоящее время исходным положением для трудкоммуны нужно признать горьковскую конституцию и оставить ее как исходный пункт для дальнейшего развития.
Это не значит, что коммуна им. Дзержинского должна в какой бы то ни было мере повторять развитие горьковской колонии. Даже за эти три месяца, прошедшие со времени перехода детей из колонии им. Горького в коммуну им. Дзержинского, заметна эволюция этих двух колоний: горьковская колония эволюционирует в другую сторону, и коммуна отличается от нее внутренним планом. Все же, несмотря на эту оговорку, как выяснилось на вчерашнем заседании и в беседе с отдельными членами, представителями научной секции института, можно признать, что основные моменты, выдвинутые в нашем проекте, рассматриваются как основные пункты отправления в отношении коммуны им. Дзержинского.
Эти пункты: воспитание рабочего, единство коллектива в той мере, в какой указывалось, т. е. единого детского коллектива и педагогического и единство самого детского коллектива, меры принуждения в отношении некоторых членов, нарушающих общий порядок коллективной жизни, и главный принцип – производственный отряд, а не спальня и класс как первичный коллектив со всеми вытекающими последствиями – собственным командованием, ответственностью и представительством в совете самоуправления. Наконец, то, что вызвало наибольшую дискуссию, – это воспитание классового долга, общий добрый тон и незначительное привнесение военной игры, не выходящей за рамки военной игры пионеров. Эта военная игра заключает в себе салют, знамя, в торжественных случаях – военный оркестр.
Наша конституция, мы считаем, в основных моментах является ортодоксальной формой соцвоса, отличающейся от средней линии соцвоса только углублением некоторых деталей, не нарушающих основного соцвосовского положения. Это основная установка моя как педагога и совета колоний им. Горького и им. Дзержинского. Расхождение по некоторым пунктам между проектом моим и позицией института, по-моему, вызывается неточными выражениями, возможно, в проекте о значении права, значении педагогического состава, совета командиров и т. д. Все недоразумения я перечислю и остановлюсь на них более подробно.
Первое недоразумение – указание на отсутствие определенной классовой установки. Как вчера я имел честь объяснить, когда я писал проект, то думал о классовой установке, но поскольку это общепризнанно, то не надо было останавливаться на этом, и я, останавливаясь на элементах классовой установки, не употреблял слово «класс» и «классовая установка». Таким элементом является воспитание определенных переживаний коллективных, классовых. Это политическое воспитание. В единстве коллектива мы видим отражение интернационального единства рабочего класса и коммунистического единства; его необходимо проводить в нашем коллективе. Считаю также, что и в праве коллектива на принуждение мы отражаем монолитность классовых явлений, какие существуют в рабочем классе, что и в детском коллективе такая монолитность, право коллектива на принуждение должны существовать.
Тот момент, что рабочий класс является не только классом трудящихся, но и классом-организатором, хозяином, я в проекте отразил путем поручения детям не только трудовых функций, но и функций организаторских. Этим я имел возможность доказать, что наша практика пропитана таким функционированием, поскольку прежняя практика показала, что отряды состоят из мальчиков, прошедших командирский стаж, и только отряд новеньких заключает в себе наибольшее количество не прошедших такого стажа.
Что касается сознания долга, то он тоже является проявлением классовой установки. Я имел уже честь докладывать, что классовую установку я положил в основу проекта. Если это не так было понято, тому виной неудачная редакция. Вот первое недоразумение.
Второе. Мне указывают, что в проекте игнорируется детское движение. Это тоже недоразумение. Я считаю, что наш проект должен отразить только те линии, которые являются отходящими от общей линии соцвоса в сторону углубления или варианта. Поскольку детское движение, социальное воспитание являются обязательными, то я не распространялся и указал только, что мы ведем политическое воспитание. Возможно, это пропуск; если бы было больше времени, я остановился бы подробнее, но наш проект основан на том, что все воспитание должно опираться на политическое воспитание. Причем возраст ребят, в среднем превышающий 14 лет, и общая жизненная опытность наших детей-беспризорных заставляют высказывать мнение, что нужно опереться не столько на пионерское движение, сколько на организацию комсомольской ячейки. Я имел дискуссию по этому поводу в органах окркомсомола и в органах наробраза и встречал согласие с моим мнением со стороны многих лиц, что в условиях нашей работы и житейской опытности беспризорных лучше опереться на комсомольскую ячейку. В колонии им. Горького мы имеем один из сильнейших комсомолов в округе, а пионердвижение слабо, и в колонии им. Дзержинского последнее является также проблематичным.
Следующее недоразумение то, что мы пытаемся основать нашу работу на науке о праве. Это, по-моему, является словесным недоразумением. Я имел в виду представление о праве, т. е. тот комплекс прав, который существует и в нашей советской жизни и Конституции, союзной Конституции, в кодексе законов, – все это должно отразиться на устройстве детского коллектива.
Мы вообще считаем, что детский коллектив не только в области изучения, но и в воспитании навыков, рефлексов не может игнорировать законы, по которым строится советское общество. Значит, замечание проекта, что воспитание коллектива должно опереться на явления права, т. е. на наши «эмоции права» и т. д., верно. Я имел в виду право на орудия производства, на справедливое распределение в обществе труда и благ и право внутри класса, расширяющее или ограничивающее права личности. То есть только в этом понимании, понимании чисто советских форм права, я говорил, что наше воспитание не может игнорировать всю эту область, тем более что из этой области я выводил идею долга. Исходя из идеи долга, нельзя сказать что наш воспитанник будет только лояльным человеком. Все воспитание должно развивать чувство долга по отношению к своему классу, тут дело не может ограничиться лояльностью, так что те замечания института, которые касаются этого пункта, очевидно, исходят из словесных недоразумений.
Самый спорный вопрос, спорный не в данном собрании, а в нашем педагогическом совете, – это пункт, по которому я расхожусь с советом: в отношении значения коллектива детского и коллектива воспитателей. Этот пункт затронут также институтом в двух местах, в частности в том, где говорится о неясности роли детского коллектива и больших функциях командиров. Это недоразумение, так как никто не переводил группу ребят на положение касты командиров, ибо это было бы гибельным. Мне потребовалось бы слишком много времени для того, чтобы описать тот быт совета командиров, который существует на деле. Это дело такта руководящих органов коммуны, который позволяет нам командирский совет в организаторской области его работы строить так, чтобы в нем участвовал значительный процент детей. Я приводил таблицу двух отрядов – полевого отряда и квалифицированного из колонии им. Горького, работающего на электростанции. Может быть, не обратили внимания на эти таблицы,
а может быть, этого недостаточно, чтобы снять с меня обвинение, обвинение старое. Поэтому я привел список того отряда, где стаж не более года; в этом отряде 4 мальчика из 11 имели командирский стаж по основному отряду 2 года и по так называемому сводному отряду [до года]. Что касается отряда ремесленного типа, то он старый, где стаж по колонии был больше года и все 11 мальчиков прошли командирский стаж, причем некоторые были 101 и 46 раз командирами и т. д. Таким образом, мы втягиваем всех в работу организатора и касты командиров появиться не может. Если взять командира коммуны им. Дзержинского, то увидите, что командиры имеют минимальный командирский стаж, т. е. одни командиры уступают свое место другим. Причем я могу доказать, что с командирством не связаны никакие привилегии и каждого командира может заменить в любую минуту любой коммунар и командовать отрядом. Это первое недоразумение.
Что касается второго вопроса о роли воспитателя в нашей работе, то с [педагогическим] советом у меня расхождение чисто принципиального свойства, где бы я уступить не мог. Оно заключается в следующем: я полагаю, что роль воспитателя вытекает не из тех формальных прав, которые ему даются внутри коммуны и являются подкреплением его авторитета. Роль воспитателя должна исходить из его эрудиции, его подготовки, его такта и т. д. Какими бы формальными правами ни награждал педагогический совет воспитателя, если нужного соотношения сил воспитанников и воспитателей не будет, то расхождения углубятся. Причем я считаю, что права отменять постановления органов самоуправления у воспитателей не должно быть. Сообщение таких прав воспитателям грозит тем, что их работа и общий тон подхода к делу пойдут в сторону наименьшего сопротивления, так как они будут стараться пользоваться этими правами, а не своими возможностями педагога-мастера. Поэтому я считаю возможным настаивать на такой форме. Роль воспитателя не обозначается никаким установлением права (т. е. оно есть в общегосударственном масштабе, но не в масштабе коммуны). Воспитатель принимает участие во всех функциях коммуны.
Наш совет трудкоммуны им. Дзержинского настаивает на том, что он должен получить еще значение верховного органа коммуны, т. е. официально должно быть признано право утверждать и отменять постановление органов самоуправления. Для меня это значит разрыв с моими прежними убеждениями в этом вопросе. Поскольку орган самоуправления один, он должен остаться в глазах воспитанников верховным органом коммуны, а если воспитательский персонал не сумеет влиять в этом органе так, чтобы выносимые постановления были полезны для нашего дела, то поправлять это бессилие применением формальных прав было бы вредно, а само наличие этого права давало бы возможность совету ослабить роль своих педагогических сил. Опыт показал, что при нашей системе устанавливаются хорошие отношения между воспитателями и воспитанниками, получается свободная от насилия установка в положении старших товарищей, имеющих значение благодаря своему опыту, создается хорошее состояние детского и педагогического коллективов. Вопрос этот чисто технический, принципиальным он является только в нашей среде, хотя фактически отношения от этого не меняются. Вот все недоразумения, которые более или менее объяснены или приведены для сведения.
Самое главное, на чем следует особенно остановиться: мы считаем отправным пунктом конституцию колонии им. Горького, из которой мы пришли. Что должно определить нашу эволюцию? Здесь главным направляющим, а может быть, единственным моментом является та целевая установка нашей коммуны, о которой говорилось. Мне кажется, что в этом вопросе возможны самые различные решения и каждое из них может быть более или менее правильно, но в последнем счете достаточно ясно определилось, что у автора проекта и у института (существуют) кардинальные расхождения. Даже, пожалуй, не расхождения, а две возможности. Институт подчеркивает значение школы и образовательного процесса и поэтому ищет такой тип школы, который был бы завершенным, причем в качестве проекта дается семилетка или фабрично-заводская семилетка. Мы сами думали так в первые дни организации коммуны.
В последние дни мы пришли к убеждению, что такое решение вопроса на школу, на серьёзный образовательный процесс возможно, желательно, но нужно тогда сделать все необходимые выводы, какие отсюда вытекают.
Если решим, что трудовая колония им. Дзержинского есть ФЗУ или ФЗС [фабрично-заводская семилетка] с точной регламентацией всех программных движений в среде этого учреждения, то придется сделать такие выводы: прежде всего необходимо в таком случае понизить возраст[ной ценз] воспитанников до нормального школьного возраста для той или иной рубрики, во-вторых, необходим подбор воспитанников по строго школьным признакам. Наконец, необходимо в известной мере отказаться от материального эффекта наших мастерских, тогда нужно мастерским придать учебный характер.
Нужно отказаться в значительной мере от функций самообслуживания, поскольку в настоящее время самообслуживание отнимает 25% детской силы и ребята отвлекаются отчасти от школьной работы и в известной мере от учебно-производственной работы мастерских.
Наконец, нужно будет совершенно отказаться от работы по сельскому хозяйству на тех пяти десятинах, которые есть. Как ни мизерны эти пять десятин, все-таки если развивать огородное дело, то с середины апреля и с начала октября значительная часть ребят направится на эту работу, а если учтем всю массу работы, вытекающей из жизни коммуны как [трудовой] коммуны, а не как школы, то значительную часть сил мы должны отвлекать [брать] от учебного процесса.
Если быть последовательным, то, организуя коммуну на базе серьезной школьной работы, нужно отказаться от всех тех вещей, о которых я говорил, и отказаться от самого термина «трудовая коммуна». Это будет не трудовая коммуна, а ФЗУ с интернатом или детский дом с уклоном к ФЗУ или к фабрично-заводской семилетке. Весь цикл взаимоотношений в детском коллективе, весь цикл внутреннего быта должен измениться под влиянием строго школьной учебной установки.
Но возможен и другой путь – возможна установка на трудовую детскую коммуну, т. е. трудовой детский коллектив, главной целью которого является воспитание. Это установка не только возможна, а в настоящий момент наиболее целесообразна. Это проистекает из следующего: у нас самый разнообразный по возрасту детский состав, самая разнообразная школьная подготовка. В трех группах имеются слесари, столяры и т. д., в деревообделочной мастерской есть учащиеся первой, второй, третьей и четвертой групп. Мы имеем три производства, три вида работ, принять школьную программу – значило бы каждую группу делить на три-четыре части. Эти условия страшно затрудняют организацию такой школы. Дальше мы имеем такой факт: различие целеустремленности наших учебных заведений. В обычное ФЗУ поступают дети, специально интересующиеся этим видом образования. К нам приходят дети без целеустремленности, которых не спрашивают о их желаниях (они имеют различные желания и цели), и быть уверенным, что все дети пожелают быть слесарями или столярами-деревообделочниками, нельзя так как часть думает быть механиками, часть – пойти на рабфак и т. д. Это вытекает из самого факта беспризорщины: из того, что мы берем детей не по желаниям, которые их толкают к нам, а случайно, причем у нас они должны определить свои интересы и вкусы, а эти интересы настолько разнообразны, что мы их всех удовлетворить не можем. Благодаря этим условиям я лично (педагогический совет я об этом не спрашивал) как специалист по детским трудовым коммунам остановился на коммуне. Я оставил бы детскую трудовую производственную коммуну с усилением даже финансовых прав детского самоуправления, т. е. с представлением ему права распоряжаться суммами, какие имеются в распоряжении коммуны, с определенным производственным эффектом, который выразился в известной самоокупаемости, и с увеличением заработка в мастерских.
В этом случае мы должны допустить известную свободу движения ребят, т. е. после коммуны известная часть ребят может уйти на рабфак – часть как хозяйственники, часть как служащие и т. д., и в силу этого для педагогического совета надо установить свободу руководства движением ребят. Эта установка на детскую коммуну была с самого начала организацией этой колонии. Я указывал, что ставка на твердую квалификацию не всегда может быть выдержана и в такой коммуне. Мы имеем производственные мастерские, в то же время даем определенную школьную подготовку, чтобы воспитанник мог пойти дальше продолжать свое образование. Это было бы трудовой коммуной.
Возможность такого типа выяснилась в первые дни. Я считаю, что организация такой трудовой коммуны была бы прекрасным памятником товарищу Дзержинскому, если бы она была организована с прекрасным средним тоном, с политической установкой и уверенностью в будущем, какая необходима для детей. В детских колониях запутывают все карты. Во-первых, материальная бедность, во-вторых, неуверенность [в том], что воспитанник будет делать при выходе из коммуны. Если у ребят будет уверенность, что они получат поддержку, то смело пойдут в сторону определения своих вкусов, в сторону определения себя.
Такая трудовая коммуна как образцовое учреждение для беспризорных должна быть. Мы не можем строить для беспризорных ФЗС [фабрично-заводскую семилетку], так как ФЗС с интернатом будет чрезвычайно дорогая вещь и для ста человек было бы чрезвычайно невыгодно. Но это мое мнение.
Таким образом, есть два пути: ставка на точную школу, но с отказом от самообслуживания, от сельского хозяйства, приемом ребят по возрасту, либо трудовая коммуна, трудовой коллектив, главной целью которого будет выпуск в жизнь подготовленных людей, хотя без строго осуществляемой школьной установки.
Я думаю, что в самую постановку вопроса нужно внести некоторую ясность. Памятник товарищу Дзержинскому можно построить различный: можно построить школу для детей и можно построить бронзовый памятник. Я думаю, что у нас более узкая задача: построить такой памятник, чтобы нашли себе приют беспризорные, приют и воспитание. Поэтому в устройстве памятника мы должны исходить из нужд и из характера нашей беспризорщины.
В нашей беспризорщине два проклятия: материальная бедность в самих учреждениях, не позволяющая серьезно и всех охватить учебно-воспитательной работой, и отсутствие опеки после выхода из детской колонии. Колонист или воспитанник детского городка живет в детском доме, но перспективы он не имеет. Во-первых, не имеет ее потому, что не получил никакой квалификации, и, во-вторых, потому, что, когда уходит из дома, не имеет серьезной опеки каких-либо людей. Таким образом, если говорить о памятнике товарищу Дзержинскому, о помощи беспризорным, то нужно стараться уничтожить эти два проклятия.
У нас в колонии первое проклятие мы уничтожили: воспитанник живет в богатой, в смысле питания, машин и даже эстетики, обстановке. Дальше нужно, чтобы воспитанник был спокоен за свое будущее и естественным путем вошел в жизнь здорового рабочего коллектива. Вот конкретное выражение задач, и думаю, что, решая эти задачи, мы не должны рассчитывать, что обладаем неисчерпаемыми средствами. У нас должны быть обычные средние нормы, возможно несколько более обычных норм потребления детского дома.
Колония как памятник товарищу Дзержинскому будет типичным учреждением для беспризорных, по которому будут равняться другие, но ведь среди этих учреждений нет ФЗС. Если мы организуем ФЗС с богатой обстановкой, то такое учреждение для наших детских домов не может являться типичным. Наши колонии-городки по 500–600 человек, может быть, до ФЗС дойдут тогда, когда будет покончено с беспризорщиной. Поэтому вряд ли можно отказываться от образца, по которому будут равняться все детские городки. Отсюда основная задача – это конструирование жизни в детской колонии так, чтобы в области удовлетворения временных детских потребностей, в области удовлетворения естественных стремлений детства и организации жизни все было сделано правильно. Если мы говорим о школе, то мы не решаем этой задачи, так как школа не будет памятником в смысле борьбы с беспризорностью, будет обычной школой, но не будет типичной колонией для беспризорных.
Заключительное слово
…Скажу, что когда я писал проект, то полагал, что идеологические споры разрешены. «Правильное» идеологическое решение было тогда, когда строился детский дом ВУЦИКа и другие богатые детские дома. И, несмотря на это, дома оказались нежизнеспособными. Я считал, что на десятом году революции мне идеологические положения защищать не нужно, и поэтому идеологической установки не указал, ибо я считал, что мы живём в центре Украины – в столице, где нам решать в этом отношении ничего не нужно.
Я хотел в первом разделе (цель воспитания) перечислить отдельные пункты того социального заказа, который нам предъявляют. Я возражал не против цели, а против того, что цели слишком общо выражались, не имея практического значения. Я говорил, что практического значения одна только общая формула иметь не могла. Мы с таким коротким, слишком общим выражением справиться не могли, и опыт не только Украины, но и РСФСР показывает, что, хотя все педагоги были знакомы с этой общей целью, все-таки выразить практически эту цель в близких, понятных формах не могли. Вот почему, выражая эту цель, я перешел к социальному заказу, какой нам дается.
Тут я подошел правильно с точки зрения класса. Товарищи…недостаточно внимательно прочли мою фразу: «Производственный отряд является хозяином мастерской», так как дальше – такое выражение: «Для работ по самообслуживанию, а летом по сельскому хозяйству в производственные отряды выделяют временные (сводные) отряды». Именно в таком понимании основной отряд уподобляется профсоюзу. Поскольку мальчик числится в отряде столяров, а командируется на другую работу, то он относится к столярному отряду как к своему профсоюзу. Это не синдикалистский уклон…
В вопросе о дисциплинарной практике, когда я говорил о кодексе, я указал: «Во всяком случае, такой опыт произвести не мешало бы», но не производил, не думал производить, хотя считаю, что научно-исследовательскому институту вряд ли есть основание отказываться от такого опыта. Конечно, речь идет не об уголовном кодексе, но некоторый кодекс поведения можно было бы провести. Не вижу оснований только из эмоциональных соображений отказываться от постановки такого опыта, так как это будет опытная постановка.
Перехожу к сущности возражений против моего проекта. Что касается принуждения, я, когда употребил это слово, думал, что употребляю его в совершенно научном смысле и что оно будет понято научными работниками так же, потому что, если мальчик отказывается умыться, а я говорю «ты пойди умойся», – это элемент принуждения, так что элементы принуждения не могут быть отброшены в воспитании, а если их отбросить, то и такой момент, как сказать «иди умойся», не может быть допустим. Либо принуждение не может быть допущено, либо если это не принуждение, то что? (С места: это убеждение). Я называю это принуждением (тов. ПИСЬМЕННЫЙ: это метафизика), т. е. каждое принуждение может существовать, если его назвать убеждением.
В более тяжелых случаях есть более тяжелые формы принуждения. Московский съезд детских домов поставил этот вопрос прямо, так же как вопрос о наказаниях, и даже мне, убежденному стороннику принуждения, пришлось возражать против слишком формального подхода в этом вопросе.
Я для себя признаю обязательным, если вы скажите – никакого принуждения и никакого наказания. Значит, мы отказываемся от принуждения. Тогда этот закон может быть применен к коммуне им. Дзержинского, и посмотрим, что получится. Я уверен, что получится развал, если не будет принуждения и элементарного права наказания.
Я не хотел выступить ханжой и прикидываться, что не буду принуждать никого, а на самом деле буду принуждать, и поэтому должен сказать, что стою за принцип принуждения. Может быть, преодолевая естественную неловкость, считаю себя обязанным сказать, что даже применение физической силы не с целью наказания, а с целью задержки и остановки допустимо. Если два мальчика при вас будут драться, то вы физически их остановите, а не остановите – пожнете все плоды этого.
О правовых эмоциях я говорил. Считаю, что отказаться от этого нельзя. Сплошь и рядом мы получаем детей, у которых есть правовые эмоции, рефлексы, когда мальчик уверен, что его обязаны кормить, одевать и т. д., а он никаких обязанностей к существующему обществу не имеет. Это обычный тип беспризорника. Вы имеете дело с правовым явлением. У некоторых мальчиков переживания нужды переходят в переживания (не знаю точного термина, выражаюсь практически) правовые: если он не имеет сапог, то он это воспринимает как право украсть сапоги, и поскольку мы соприкасаемся с жизнью детского общества, мы сталкиваемся с постановкой правовых проблем. Если бы наша педагогическая наука содержала определенные термины, определенную трактовку таких проблем и проблемок, то можно было бы отбросить термин «правовой», но поскольку я лично точных указаний, как это назвать, в литературе не встречал, то принужден был сам придумать название – я это называю переживанием правового типа. Такие переживания у нас в доме встречаются на каждом шагу: либо ребенок убежден в каком-то своем праве, либо убежден в отсутствии права другого.
Реальная работа рядового педагога проходит во время между этими явлениями, и рядовой педагог принужден на деле как-то на это реагировать. Возможно, я в своей практике имел дело с правонарушителями, когда эти эмоции особенно проявлялись.
В отношении долга. Я старался в первой главе определить, как умел, что переживания чести исходят из сознания о чести класса, его значимости. Если я уверен в высокой ценности рабочего класса, то я это называю переживанием чести своего класса, т. е. известное достоинство от того, что принадлежу к этому классу. Конечно, у меня этот термин вытекает не из тех оснований, которые были у офицеров; что касается понятия о долге, я понимаю долг как переживание своих обязанностей по отношению к коллективу. Убежден, что в трудные моменты нашей жизни эта идея долга возникает у каждого комсомольца, у каждого партийца и даже у каждого сознательного рабочего. Может быть, нужно придумать другое слово, а я называю термином «долг». Нельзя из-за того, что я называю таким термином, переворачивать всю установку.
![Книга Колония [V] (СИ) автора Алексей Губарев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-koloniya-v-si-432901.jpg)