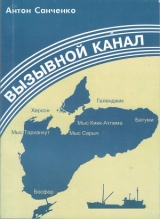
Текст книги "Вызывной канал"
Автор книги: Антон Санченко
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Бог ты мой, как противно вдруг. Водка что-ли? Да нет – игры в горе. И в спасение утопающих. И – в любовь…
Отучила меня ты от этого. Всё – взаправду. И горе, и радости.
– Знаешь что, дорогая, – топись. Но в другой только раз. Возвращаю тебя, туда где взял. А там – хоть топись. Водолазам привычней с русалками.
***
Хочу тебя, моя ведьмочка.
Как угодно пусть называют: распущенность, похоть, разврат. Готов быть тем боровом, на котором лететь тебе в эту ночь, нагой, распустившей волосы на свою Лысую Гору.
Хочу тебя. Даже посреди шабаша, когда уже нет недозволенного, только желанное, когда даже самые дикие и постыдные в божий день похоти, в которых стыдно признаться себе самой, держишь их взаперти в самом дальнем закутке, тут же с готовностью будут выполнены.
Хочу тебя. Даже в свальном грехе, когда тебя берут двое и трое, и сзади и спереди – столько и как только тебе захочется. Только и мне пусть достанется хоть малая толика твоего греха. Даже если прогонишь от себя, дай хоть видеть, как страстно трепещут твои ноздри, как качается в этой дьявольской пляске тело твоё, и разметались волосы, и колышется грудь, как ты бьёшься в судорогах, стонешь, кричишь, царапая спину избранника. Готов быть хоть подстилкой под вавилонской блудницей, пропускающей через свои жаркие чресла когорту солдат императора за ночь. Только не прогоняй от себя меня, не отлучай от тела своего.
Если это грязь – растянусь в ней боровом.
Если это грех – первым прыгну в приготовленный для тебя костёр.
Всё равно – на моей спине возвращаться тебе домой. Опустошённой, затихшей, нагой и простоволосой по-прежнему, пугая проснувшихся дворников и неспавших всю ночь, захлебнувшихся желчью соседей. Не их время. Кончилась инквизиция.
Из какого ребра можно вылепить это грешное тело? Такое не изваять, не любя.
Бог ревнивый прогнал от Адама первую женщину, не из ребра, а из плоти и грязи вылепленную, потому что Адам рядом с ней забывал о нём?
Или потому, что ваяя из грязи и глины, возлюбил её сам, как Пигмалион Галатею? И побоялся на старости лет свою же нарушить заповедь?
Почему он отдал Лилит Дьяволу?
Чтобы можно было испытывать своих пророков, и жён, и детей их лишая: не возропщут ли? Нет: слава Господу! Всё во власти его. И другая жена уже им за то дана, и детей нарожала – пророки счастливы. Не заметили даже, что – не та жена. Всё равно – из того же ребра. Протез женщины. Голливудский стандарт. Даже родинки заштукатурены, все – блондинки и грудь по последней моде.
Не хочу я – другого, Господи. Эти морщинки появились на мраморе уже на моей памяти. А этому седому волосу – я виной. И не знаю я, кто гребёт уже в нашей лодке, а кто правит.
***
Неужели нужно было случиться такому, чтобы я понял, что не обязательны войны, необязательны старость и дряхлость? Необязательна умудрённость безусых Сократов и мудрость Соломонова, чтобы чувствовать, что тебе нужно быть рядом с женой каждый раз, когда выпадет случай, и не считать расходы с доходами, и срываться, лететь, плыть, прыгать с поезда, ловить попутки, бежать, будто кто-то гонится, успеть бы только.
Она и не гонится. Но всегда за плечом, с косой: примеряется.
Он как чувствовал. Зелёный совсем пацан. Даже штурманский ценз не выплавал. А успел – всё.
Олька – в чёрном, хоть и не Грузия. Не ты, его Олька. Говорит спокойно и буднично.
– Мы так радовались этой работе. Хорошо, что ты о нём вспомнил. Я – в декрете. Деньги кончились. Он сторожит машины какие-то.
Благодетель. Позвонил, вспомнил:
– Хватит держаться за жёнину юбку. Есть судно, есть место. Завтра к обеду будь в Одессе.
Благодетель. Облагодетельствовал пацана деревянным бушлатом.
И ведь всё позади: расслабились. Ещё раз пронесло. Уже выгрузились. Уже шли домой. Отдавай концы!
Что за команда? Никогда ведь не думаешь, что такие команды наверное – не иначе как с погребальной лодьи викинга.
– Нет – я счастливая женщина. Было всё у нас. И деньги, и нищета, и сказка просто, когда вы меня в Ялту взяли… Помнишь, выкрали просто? "Поварихи нет. Садись, поехали." Я потом звоню: "Бабушка не пугайся, я – в Ялте…", и хоть немного поплавал он, как хотел. Мир увидел. И сына – … тоже увидеть успел.
– Он рассказывал мне обо всех почти. Я вас всех уже знаю, мальчики. И приснился в ту ночь, но вроде как хорошо: я – с друзьями приехал, накрывай на стол.
– Вот он – стол. Вот и вы…
Бог ты мой! Вспомнил. Я ведь написал всё это так давно! Сразу после училища. Почему вдруг – об этом? Кто водил моей рукой? Кто решил показать мне, что все слова – ложь? Даже те, что сбываются наяву.
А ты знаешь, Кирилл тоже учился в КЮМе в группе у Барабаша? На семь лет просто позже. Мог бы вспомнить его, лопоухого пятиклассника, когда мы со Славкой – кумиры-курсанты, после первой практики, – приезжали к ним: "Да чего, пацаны? Ну, красивый у них Копенгаген…Русалочка… "Мог бы вспомнить, если б знать наперёд. Он случайно мне проговорился, недавно совсем.
Недавно? Ему всегда теперь – двадцать три. А нас всех несёт уже дальше.
Неужели мне нужно было нырять, знать что уже не найду, об ракушки резаться, плакать, лёжа на тёплой палубе, трусить течения и того что опять затянет под три корпуса сразу, и уже с другой стороны не вынесет, снова нырять, пока водолазы приехали, чтобы просто понять, что сильных и слабых – нет. Все бессильны. Перед ней – все. И смерть не ждёт ни войны, ни старости.
Ошибка. Опять я обманут коварным Отцом. Это ведь мной написано:
"Не покажется ль даже ад после рейса такого – отдыхом? Так к чему всё: голод, лишения, жажда, пекло экватора, лютая стужа Дрейка? Все мы бросим свой якорь в аду. В срок. Кто раньше, кто позже, но – в срок. Все замкнут этот круг своевременно, как вернутся с Востока, ушедшие к Западу.
Так к чему всё? Шаг до борта – и круг будет замкнут сейчас. И никакому пастору не подсилу похоронить тебя за оградой этого кладбища, отдельно от праведника, сорвавшегося с рея в шторм… "
Вот и сорвался.
Я спросил Баришевского:
– Как дальше жить?
Он ответил:
– Как? Быть мужчиной.
– Не хочу. Это был мой последний рейс.
***
Неужели мне нужно было узнать, что Рэнкин брат – жив, родители тоже, из ада выбрались, а её – больше нет… Неужели должен был из-под знака выскочить на трассу тот частник, чтобы я наконец понял, что и ты – смертна? Даже без войн и старости, даже в тихой нашей гавани, где всё так постоянно, где, даже среди катастроф и войн, по-прежнему другой отсчёт времени:
"Нам уже – семь. Завтра – в школу… "
Знаешь, а мы все втроём были в неё влюблены. И когда Андрюха был на плавпрактике, мы вместо него провожали её до общаги пединститута, и ходили на всякие сборища молодняка: питие чая на ковре в чьей-то гостинной, на какие-то стихи, выходки студента по кличке Тромбон и разговоры в прокуренной кухне. Когда они сильно поссорились, мы перестали с Андрюхой разговаривать. Он уже тогда умел перешагивать через сантименты, плевать бы ему на наш бойкот. Но нет, сорвал последнюю розу с клумбы перед училищным КПП, которую начальник строевого отдела уже чуть ли не принимал у дежурного по описи: "Лепестков – семнадцать, листков – пять, шипов – восемь…"– и пошёл мириться и свататься.
Помнишь какой счастливой она была на нашей свадьбе? Не за нас, конечно. Андрюха вернулся из первого рейса, она ездила встречать его пароход в Одессу и даже стояла за лентяя Андрюху стояночную вахту механика: открывала в машине какие-то клапана и переключала рубильники на ГРЩ, пока её сокровище нежилось в коечке.
Может ей лучше было бы с Толиком? Или со мной? Если бы для нас дружба не была святым и решённым?
Я знаю, что ты готова меня ревновать даже к школьным подружкам, но к этому – не надо. К тридцати наконец понимаешь, что нельзя откладывать напотом ни любовь к женщине, ни измены ей.
Всё ведь было ещё до начала времён. До тебя.
Когда она последний раз приходила к нам в гости, и вы по-женски секретничали и жаловались друг другу на мужей, я даже разочарован был: ничего не ёкнуло. Чужая женщина. Смотрел больше на уменьшеную копию с Андрюхи-оригинала. Такой же шустрый пацан.
Андрюха и в мореходке был шустрым: всегда умел устроиться так, чтобы самую неблагодарную и тупую работу делал другой. В какие-то лаборанты, чтобы не отмечаться на самоподготовке и иметь каморку, даже в сантехники какие-то, на зарплату. Делил с Толиком. До сих пор смешно, прорыв канализации, Толик в люке уже, а Андрюха подаёт ключи и инструкции. Он ведь – механик, специалист, а не радист какой-нибудь малахольный. И не водолаз.
Он и из училища уже с рабочим дипломом вышел. Дописал в справке о плавании ноль в мощности дизелей, порт Николаев после порта Херсон, и превратил речную баржу, на которой мотористом после бурсы работал, в сухогруз с морским районом плавания.
И в море пытался какой-то короткий путь выискать. Учёба в вышке по направлению управы, аспирантура. Заучился до того, что теперь его в моря силой не выпихнешь. А в море оказалось, что лёгких путей нет. Там идти по дуге – короче чем по прямой.
Он теперь – бизнесмен. Торгует рыбой вместо того, чтобы, как учили одиннадцать с половиной лет, ловить её.
Вот он – победитель. Хозяин жизни. Без сантиментов.
Только вот… Бизнес – в Мурманске. Рэнка с ребёнком – в Киеве. "Ты – свободная женщина. Моё дело вас обеспечить. Можно, завтра об этом? Дела. Должны позвонить."
Обеспечил. Наконец все дела оказались недостаточно срочными.
– Не знаю, как сыну сказать.
Что осталось? Звон того хрустального колокольчика, который они подарили на нашу с тобой свадьбу?
Как хрупок хрусталь.
Колокольчик мой. Неужели, опять хлопнув дверью и закинув на плечи парусиновую кису, я могу возвратиться в пустыню?..
Может тебе было бы лучше с другим моим другом? Который напился вдрызг на нашей свадьбе? С бестолковым моим Клюбе, так и не вышедшим ни разу в моря, даже на училищной практике умудрившимся угодить на отстойный пароход и четыре месяца проловившим бычков с его борта, так и не выйдя в рейс?
Ведь это он, а не я, называл тебя Оленькой?
Он ведь и звонить нам перестал, после того, как я в шутку отчитал его:
– А чего это ты ей звонишь? Я ж – в рейсе ещё.
И Клюбе пропал. Неужели я сдуру – угадал? Бестолковый, смущающийся вечно Клюбе. Я ведь тоже это только сейчас понял. Как мудреешь, когда перевалил эту тридцатую параллель.
Он звонит тебе ровно раз в год. Уже десять лет. Дружба – святое. Может лучше с ним, чем со мной неприкаянным?
Колокольчик мой.
Знаешь, что сказала мне моя мэм, когда я в очередной раз хлопнул дверью и ехал в Одессу побеждать эту чёртову жизнь, несмотря на то, что… Да какая разница что? Прости ей все придирки к чужой девке, уведшей навсегда из дому родненького и всегда правого сынка, то, что она не такая, как ты, и за всё остальное, даже мне неизвестное, прости за одну эту фразу:
– Ты может не знаешь, что тётка твоя ушла из жизни по своей воле? Никакой не инфаркт. Да, тогда за это грозила тюрьма, а не поездки на Канарские острова. Но куда важней то, что рядом не нашлось человека, способного поддержать её в такой момент, и она ушла даже несмотря на то, что Колька ещё был совсем маленьким. Не доводи до этого Олю.
Если б мы слышали женщин.
Неужели только звон разбившихся колокольчиков проникает в наши залитые воском уши?
***
Оказывается, вот так всё это происходит?
Без шума и гама, ты говоришь:
– Похоже, мне пора, – собираешься и мы идём за ручку, точно так же, как часом раньше я отводил в школу Барби. Даже той же дорогой.
– Боже мой! Вы что, шли пешком? – это моя мэм. Ты всегда её поражала. На сей раз тебя упрекают в беспечности.
А я опять думаю о естественности. Рожать для женщин – естественно.
Так же, как для меня собирать свой заплечный мешок и садиться на поезд.
– У тебя что, ещё нет билетов?
Как же можно рожать, не договорившись заранее с каким-нибудь светилом акушерской мысли, не задобрив его щедрым подношением, не упросив присутствовать лично, чтобы не дай бог чего…
– Да, Оля – смелая женщина, – это уже твоя подруга Ирка, забираем из школы наших девок.
– Рожать сейчас, когда и самим непонятно за что жить, мой Генка – опять без работы. Нет уж, увольте. Янку я вам родила, хватит.
А я опять думаю, что рожать-то – всегда одинаково. Бог не берёт взяток, и королев обслуживает так же по-хамски, как и простолюдинок: выполняет обещанный пращурам пункт о муках.
А я ведь до сих пор не запомнил день рождения Барби. Двадцать пятое или двадцать четвёртое?
Радиограмма пришла двадцать пятого.
– Двадцать третьего, – отвечает мне Барби, насупившись. Оказывается, чтобы помнить такие вещи, нужно стоять не на якоре под островом Нокура в Красном море, а под окнами первого роддома, вместе с разделившим мою радость и бутылку самогона однокашником Стасом, который почему-то прыгает свадебным индейцем под твоими окнами, пожалуй, повыше меня. Явно решил, что имя для Синди мы выбрали в честь него, плэйбоя лысеющего.
У Стаса хорошо получается очаровывать женщин, мурлыкая марши мартовских мурзиков на ушко, но, видимо, плохо получается просто жить с этими женщинами все остальные месяцы года. Его мгновенную какую-то жену я успел увидеть всего дважды, один из них был на дне рождения Стаса, в марте, когда он её ещё только охмурял. Ему хватило её всего на два моих рейса.
Ты же с одного взгляда охарактеризовала её странной женщиной. Стас, кстати, в трезвом виде тебя побаивается, и за глаза называет княгиней Ольгой. Боится, что и его, невзначай как-нибудь охарактеризуешь, и прийдётся только оправдывать, другого выхода нет.
***
Бог мой, тёплая моя жёнушка.
Хочу тебя, даже после привычного до "потолок побелить" и такого же непродолжительного совокупленья. Но "хочу" уже не всегда значит "могу". Старею?
Я опять безработен, весь вечер грузил какие-то ящики с медикаментами, и даже работа и водка не согрела меня на морозном ветру аэродрома. Медикаменты уже улетели в Туркмению. Там тепло, как у тебя под бочком.
Не обманывай. Я не жгучий брюнет, чтоб иметь седину на висках в свои двадцать девять. Старость здесь ни причём, просто – вечер трудного дня.
Хорошо, когда есть кому согреть, обхватив руками и положив на грудь голову, и говорить о чём угодно: о деньгах, о школе…
Но тебе почему-то вдруг захотелось, чтобы мы рассказали друг другу об изменах друг другу. Или попытках измен, как уж там получилось. Прижмись ко мне поплотнее.
Я расскажу тебе о том сочинском буксире, и о той голой русалке, едва не утащившей меня на дно.
Ты выслушаешь спокойно. Заметишь только:
– Ты хотя бы изменить мне сможешь для меня, а не для дружественных водолазов?
И расскажешь свой случай.
День рожденья в общаге, домой идти поздно. Ночевать пришлось в одной комнате с мужем подруги. В одной, и – одной.
Сытый, ухоженый кобель. Привык чтобы дамы сами прыгали прямо в штаны. Повздыхал, поворочался с полчаса, чтож, если уже не идут к Магомету… Что ж такое? Стареет?
Если б брыкалась, кусалась – тогда ясно всё. Надо брать силой. Хочет, просто ломает комедию. Будто муж лежит третьим в постели. И после всего обязательно, хоть одним словом, но упомянёт своего рогатенького. Тоже вечная реплика этой комедии.
Но никто из-под одеяла не гонит, но – и только. Он отвык от забав восьмиклассников. Зажиманий и поцелуев у подоконника после танцев в актовом зале. Целоваться тебя не учили? Неужели старею?
Но не гонят ведь, не кричат караул. Значит хочется. Есть, есть ключик для любого пояса верности. Так облом включать обаяние: говорить, говорить, говорить. Ведь тоже давно отвык. Но прийдётся.
Вот, собственно, всё. Не относить же к процессу измены полуночные разговоры.
Через год, встретив случайно на улице, он смутится и скажет тебе, что нужно было тебя просто трахнуть. Озабочен поныне. Холёные, с родословной и педигрипалом на блюдечке, очень болезненно переживают неудачи на этом поприще.
Мне смешно. Найти к тебе ключик за ночь. Я искал целый год. А когда нашёл, оказалось, что всё очень просто: не играть и не делать любовь, а любить.
– Когда это было?
"Кара-Даг". Так давно. Хорошо что ты раньше не решалась устроить этот душевный стриптиз. Я смеюсь над безусым Сократом, у которого все мысли – в скобках. Как бы он вёл себя?
Похоже, ты разочарована. Обнажались, старались, чтобы под музыку. А никто нам не аплодирует, и ничего с небес не обрушилось от обнажившейся правды.
Мы всё так же лежим, обнявшись. И ты такая же тёплая, домашняя моя жёнушка. Говорим уже о другом: о деньгах и о детях. И вдруг меня догонит, рикошетом настигнет ревность:
– И этот кобель обнимал мою тёплую жёнушку? Голую, только в трусиках?.. Или нет, ещё ту египтяночку. Или нет, другую – страстную мою амазонку? Или наяду разнеженную?
Настигнет, и тут же уйдёт, перекатившись, как волны. Я просто пойму, что вопреки всем трудным дням, и холодным ветрам на аэродромах, просто – Хочу тебя.
Бог мой, сладкая моя жёнушка. Благодарен буду даже самому гневному Богу только за то, что вот уже десять лет каждый день и каждую ночь я
Хочу тебя.
Какое это счастье, и какая мука – десять лет, день в день, познавать одну единственную во всём мире женщину, но так до конца и не знать. И пусть Всевышний простит, когда я скажу ещё одну правду:
– Когда я с тобой, мне не нужен бог.
Он – простит. Если б он не хотел, чтоб вкусили мы от этого плода, он бы просто выкорчевал то дерево.
Бог – простит. А Стругацкие не обидятся.
Бог мой, тёплая моя жёнушка, рядом с которой даже пророку Ионе было бы не страшно жить в этом Содоме с Гоморой, наступившем по окончании света.
Не знаю, сколько ещё предстоит проплыть нашей лодке, и далеко ли осталось до устья нашей Реки. Не знаю уже, кто гребёт, а кто правит в ней.
Я благодарен жестокому Богу уже за то, что мы до сих пор живы, и до сих пор – рядом, и – уже не одни в этой лодке. И каждую последующую милю Реки готов отмечать крестом на берегу во славу его, как делали и поморы, и португальцы, продвигаясь вдоль берегов в неведомое.
К счастью, я не пророк.
Не преследует меня гневный Бог, чтобы шёл я куда он прикажет, и нёс его слово.
Мы всего лишь плывём в нашей лодке вдоль пустынного берега, и читаем надписи на почерневших крестах.
Одна из них:
Бороздящие море вступают в союз со счастьем.
Ибо море есть поле надежды.
M/V SURSK/3FZW5
1996.
«Невыносимо жить без дельфинов…»
Невыносимо жить без дельфинов.
Годами, десятилетиями на суше. Тычась в берега, как в стенки камеры. От этого можно спятить.
Пусть на твою только что пригнанную с Фарерских островов тачку упал телеграфный столб;
Пусть сын-балбес стащил из бумажника двести баксов и купил игровую приставку «Денди» вместо того, чтобы зубрить бином Ньютона;
Пусть возгорелся и сгорел синим пламенем твой курень на Сухом лимане;
Пусть упали мировые цены на сало, доллар упал, скакнула марка, в общем – ты разорен;
Пусть тебя преследуют неудачи и долги, разыскивают алименты и интерпол, а импотенция не лечится даже пантокрином из собственных рогов;
Пусть жизнь – одна сплошная, как рана, и черная, как дыра, полоса – все нипочем, пока можешь сплюнуть под ноги, хлопнуть дверью и выйти вон с осточертевшей земной тверди.
Не в запой и не в петлю – выйди в море. Ощути ногой и нутром, как ходит палуба. Стань у борта. Всмотрись в лазурную зыбь. В пенные усы под форштевнем и сполохи солнечных зайчиков на волне. И они появятся.
Обязательно появятся, легки на помине.
Вынырнут стаей из толщи вод.
Примчатся торпедами.
Прискачут мячиком, вонзая в волну веретенообразные упругие тела. Будут мчаться перед самым носом судна, выпрыгивая, изгибаясь и кувыркаясь, рискуя получить штевнем по заднице.
Канальи! Бестии! Сучьи дети!
И как удается им вот так вот, играючи, мчаться наперегонки с табуном железных коней, громыхающих в машинном отделении?
Без пыханья задыхающихся клапанов, стука поршней, без дыма и копоти из труб, без надсадных вибраций винта. Без исходящих потом кочегаров у топок. Двенадцать узлов играючи. Лёгко. Даже не заметишь движений хвоста.
У дельфинов высокие сократовские лбы, хитрый прищур, и улыбка на все тридцать два, или сколько у них там, зуба. У дельфинов не оскал, а
именно улыбка. Не резиново-американская: «С-ы-ы-ы-р!». Натуральная, скоморошья. Острые зубы не кажутся хищными. Хотя те же акулы, машины для убийства с шестью рядами зубов, предпочитают с ними не связываться.
Под сократовским лбом дельфины прячут уникальный свой разум. Мозг дельфина больше и совершеннее человеческого. Они, например, могут спать, ни на секунду не прекращая движения, попеременно отключая полушария мозга. Решать навигационные задачи и размышлять о жизни одновременно. Судя по веселому нраву, большинство дельфинов придерживаются эпикурейской школы. Хотя попадаются среди них и стоики, не без того.
Не даром древние эллины, народ моряков и философов, признавали в них равных, называя морским народцем.
А голландцы, народ Моряков и негоциантов, знали, что Большой Халль, демон лютой тоски, преследующий моряка в океанском плавании между тропиками Рака и Козерога, бежит как черт от ладана, стоит хотя бы одному дельфину появиться у борта заштилевшего парусника.
Вот они! Появились! Ясно вижу! Право десять! Вот бестии! Прохвосты! Еще насмехаются, клоуны!
Перевожу с дельфиньего на человеческий:
Да, не везет тебе. Да, жизнь – копейка, злодейка судьба. Но – take it easy,дружок, take it easy.
Будь проще, и к тебе потянутся люди и другие дельфины. Do you read me?
– Roger, – отвечу по-гречески с филиппинским акцентом.
M/V KONKAR THEODORA/3FZMN
не позже 1998







