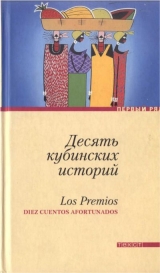
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Хорхе Анхель Перес
Строфы водой и о воде
© Перевод С. Силакова
Всем обезвоженным Старой Гаваны, всем ее водоносам.
Его отец даже не слыхал об Анаксимандре Милетском. И тем не менее, когда шел купаться, уверял: «Человек происходит от рыбы». Сын смотрел, как он плывет: взмах рукой, еще взмах, ноги размеренно сгибаются и разгибаются. Ритмичными движениями отец продвигался, завоевывал другой берег. Человек происходит от рыбы, говорил он, и зачерпывал пригоршню воды, чтобы мальчик рассмотрел, как она прозрачна, а сам нырял глубоко-глубоко, чтобы вдруг появиться, выскочить из воды стоймя, с громким посвистом – вылитый дельфин.
Выскакивал и опять погружался.
Эстебан завороженно смотрел, как ловко отец скользит в воде, и смеялся, когда тот, вновь и вновь выныривая, вновь и вновь выпрыгивая, объявлял: «Я тиляпия, я каранкс, я акула, я сардина». Эстебану нравились все рыбы, которыми был его папа. Иногда он выбирал сам:
– А теперь ты краб.
Отцу больше нравилось скользить в вольной водной стихии, но сына он баловал, не перечил. Вылезал на берег, и руки превращались в лапы с клешнями: большие пальцы оттопыривались, остальные слипались вместе, и краб подбегал к сыну сбоку, все ближе, а мальчик встречал его смехом и новым повелением:
– А теперь будь угрем.
И тогда кисти и предплечья становились плавниками, помогали нырять.
Однажды отец не вернулся с глубины, словно и не догадывался, что на берегу, усевшись, не спуская глаз с воды, ждет мальчик. Медленно тянулось время, час за часом, а сын притаился в траве, как мышка, не решаясь войти в воду. Ведь папа происходит от рыбы, его папа-рыба с минуты на минуту устроит ему сюрприз – вынырнет и улыбнется промокшей насквозь улыбкой. Мальчик и не подумал, что надо кинуться на выручку к отцу и уж тем более что стоит позвать на выручку людей; он поднимал глаза, только чтобы взглянуть на небо, на белые-белые бока облаков. Предупреждение сверху – так звал их папа и, когда облака были готовы переполниться, выскакивал из воды стрелой. Папа всегда дожидался небесной воды в воде, потому что, как часто говаривал, вода – проводник природы.
На сей раз Эстебан заранее почувствовал, в какой момент облака переполнятся влагой и хлынут в реку: он ведь не отрывал взгляда от реки, в которую уже довольно давно вошел его папа. Он продолжал верить, что папа выплывет, отфыркиваясь, разбрасывая брызги, выплевывая струи воды, выплывет и глотнет немножко воздуха, чтобы нырнуть обратно, и еще раз, и еще, пока не устанет, пока не заболят руки и ноги, предостерегая, пока в груди не заноет. Эстебан смотрел то на воду, то на небо, на населяющие небосвод белые силуэты. А папа так и не вернулся, хоть и знал, что на берегу ждет мальчик, сидит, не шелохнувшись, гадая, куда отца ведет вода – проводник природы, всматриваясь в прозрачность капель, питающих изобильную реку.
Разве он мог рассказать людям, что случилось? Разве предал бы доверие отца, который привел его посмотреть на свой последний прыжок в воду и уплыл по течению? Эстебану хотелось, чтобы рыба, которой обернулся папа, без помех плыла туда, куда движется поток. Он не изменит его воле – насовсем оставит отца в воде, ведь люди происходят от рыб и иногда снова в рыб возвращаются. Чтобы удостовериться, Эстебан вошел в реку и позволил, чтобы она подхватила его и понесла. Ему всегда больше нравилось наблюдать с берега, но теперь он плыл, разыскивая отца в гуще водорослей, в ракушках на дне, в глазах каждой рыбы.
Уверившись окончательно, он вернулся домой.
Труднее всего было вытерпеть крики матери, ее угрозы. Запертый в комнате, он выслушал с начала до конца причитания и жалобный плач. Эстебан затаился, молчал. Ему не хотелось нести отцу цветы – лучше уж облака, переполненные дождем, питающие изобилие этих вод, вливающиеся в поток. Мать рыдала, умоляла, взывала о помощи.
Его погубили сомнения. Мать вопила, а он, обхватив колени руками, задавал себе вопросы. Как быть? И страх развязал ему язык, и он проболтался, что папа решил не возвращаться – зашел в воду и там обернулся рыбой.
– Утонул твой папа, – завопила мать Эстебана и обозвала его дурнем.
И все пошли ворошить глубины, а когда ничего не нашли, потому что тело унесло течением, взяли дощечку из самого легкого дерева, приделали к ней большую горящую свечку, и шли за дощечкой, покуда она плыла, а там, где легкая, невесомая дощечка остановилась на воде и свечка ярко запылала, снова разгребли глубины, и вытащили недвижное, распухшее тело отца Эстебана, и отнесли домой, и всю ночь, собравшись вокруг, оплакивали его, а потом положили его в недра земли и там оставили, и снова заплакали, и каждый раз, когда проходил год, возвращались на кусок земли, где оставили утопленника, чтобы положить цветы и еще раз поплакать.
Эстебан уверен, что нельзя было ничего рассказывать: папа мечтал не о дощечке с горящей свечкой, и вовсе не о том, чтобы его вытащили из воды и отнесли в вырытую в земле пропасть, и вовсе не о том, чтобы раз в год ему приносили цветы и плакали.
Эстебан проговорился, хотя нельзя было. И теперь папа его никогда не простит.
И Эстебан выбирал вопросы, чтобы задавать их себе; или вопросы сами находили его и изводили? Куда увела папу вода – проводник природы? Может, его рыбье тело разлилось по тем мирам, где таятся семена всего живого? Или растворилось в атомах воды? Кем теперь сделался его папа – человек он или рыба? Акула или дельфин? Живой или мертвец? Скелет из колючих косточек? Кто он? Если вода и вправду проводник природы, то Эстебана она проводила в жизнь, полную сомнений, ввергла в бесконечные сомнения и, самое страшное, в нищету. А виноват сам Эстебан. Бросил отца – вот отец его и покарал нищетой, чего ни хватишься – нету.
Вода, вода, вода, повторяет он. А вдруг, если долго твердить это слово, твердить настойчиво, ответы появятся. И вместе с ответами – вода.
Повторы, настойчивость, истовость. Все это отпечатано на стенах его квартиры. Вода, water, aqua, eau [14]14
Вода (англ., ит., фр.).
[Закрыть].
Эстебан исписывает стены призывами.
Финикийскими и греческими буквами, кириллицей и латиницей – лишь бы буквы разбрызгивали вокруг себя воду, – всеми алфавитами Эстебан требует. Написал «вода» латинскими буквами, а рядом – готическими, начертал изящным унциалом; на потолке, на полу, куда ни глянь – прочтешь «вода». В дверях – водопад, в окнах – ручьи. Морское дно в точности совпадает со дном раковины его умывальника. Умывальник, похожий на фламинго с раскинутыми крыльями, он сам разрисовал фигурами. Нарисовал голову Исаака в профиль и Исаака в полный рост, с головы до пят; пальцем пророк указывает на долину Герар, указывает своим пастухам, где рыть землю, где откопать источник воды. Взял краски поярче и нарисовал пастухов Исаака за работой, а рядом – других, тех, кто издавна жил в долине: как они заваливают яму землей, как душат источник, найденный пастухами пророка. А Исаак снова тычет указательным пальцем и велит: копайте. И одни копают колодец, а другие заваливают колодец, пока не примиряются – после того как еврей в третий раз указал пальцем, в третий раз отдал приказ копать. На сей раз никто не забрасывает землей яму, которую копают другие. А под колодцем, который рыли всем миром, под колодцем, нарисованным на умывальнике Эстебана, подписано «Свобода» – во славу примирения и хлынувшей воды.
Так долго рисовал и, только наложив последний мазок краски, воспользовался умывальником. Умывальник – точно цапля вверх тормашками, опустившая голову в морские глубины своей раковины. Вода, вода, вода, читает Эстебан на стенах и на потолке, а сам выпускает из расписного, пестрого бака тоненькую-тоненькую струйку. Восторженно смотрит, как прозрачность вод медленно покрывает дно раковины. Еще немножко полюбовавшись, опускает в воду руки и, чуть-чуть подержав, вытаскивает, но держит над раковиной; отрадно смотреть, как капли скатываются с пальцев и падают в стоячую воду на дне, и лужица кажется глубокой-глубокой. Священное помазание, говорит он себе, и смотрит на ручей, нарисованный на окне, и на потолочные облака, которые вот-вот перельются через край, и на дверь, сулящую целую лавину воды. Куда ни глянь, всюду подспудно чувствуется присутствие воды. Будь настойчив: только упорство приведет твою страсть к счастливой развязке. Как же дорожит Эстебан водой! Как печалится, опуская руки в раковину, снова открывая для себя прозрачность, которая плещется в ладонях. И вот уже обрызгивает себе лицо, и освежает затылок, и заглядывает внутрь умывальника. Много ли осталось?
Каждый раз – самая малость.
Бедняга не знает, что такое изобилие воды, и во всем винит себя. Пока остается хоть одно пустое место, место, где не начертаны пресловутые четыре буквы, сушь не закончится. Кое-где буквы бесследно стерлись. Он берет кисточку, рисует. Рисует осторожно, медленно: воды мало, акварель развести нечем. Медленно, тяжело, неуклюже движется кисточка. «Вода», – написал он на белизне стены и подумал, что надо бы подсчитывать, сколько раз он написал это слово: иначе как узнать, сколько осталось, сколько раз еще придется обручать с водой свои разноцветные краски. Он мог бы покрыть все стены, все пространство прозрачным портретом воды, лучезарно льющейся с потолка: прыжок, гигантский водопад, прорывающийся сквозь пол, сквозь жидкое дно комнаты. Капли, капли, капли – весело сталкиваются, превращаясь в белую пену. Вода, вода, вода – лепечет он, ожидая наводнения или миража на худой конец.
Эстебана одолевает нетерпение.
Как залить буквы водопадом? В какой воде растворить краски? Как увлажнить лицо и освежить затылок? А что делать, если не сумеешь нарисовать воду? Как быть, если она к нему не потянется? Ему хочется расписать стены масляными красками, но как их купишь, если денег едва хватает на воду? Как быть, если вода кончится? Либо воображать ее прозрачность на стенах, либо уехать насовсем. Хуже всего, что руки, испачканные краской, опять надо мыть. Опять к раковине, к умывальнику. Пусть цапля выпустит еще струйку, совсем чуть-чуть, надо экономить, надо следить, чтобы вода не разбрызгивалась мимо. Эту воду можно использовать по второму разу. А если когда-нибудь даже руки будет нечем помыть? Эстебан впадает в отчаяние.
Надо бы закричать, потребовать, воззвать о помощи. Изо всех сил возопить с балкона. Пусть он хоть осипнет, кричать надо. Кричать: вода, тянуть «о-о-о» и «а-а-а», пока хватит дыхания. И пусть полиция приезжает выяснять, отчего крики, надо кричать, и когда они приедут, когда подойдут и спросят, а если начнут угрожать, кричать еще больше, и больше, а если не обойдутся угрозами – вопить, скандалить. Может быть, надо во весь голос попросить у отца прошения. Доказать, что веришь, что человек происходит от рыбы. Пойти к морю и прыгнуть в волны, пойти к реке и заговорить с ним:
– Прости меня, папа.
Эстебану надо бы вскричать, крик посреди безмолвия – это правильно, но для него – чересчур, он знает пределы своих возможностей. Никто в квартале никогда не слыхал его голоса, никто, кроме водоноса – единственного, кто за много лет поднимался по полуразрушенной лестнице.
Гуталин окликает снизу, и Эстебан открывает дверь, здоровается, угощает глоточком кофе. Водонос любезен – он считает Эстебана своим лучшим клиентом; в отличие от Эстебана, он никогда не произносит слово «вода» и свой товар изображает жестами. Насвистывая, быстро дергает рукой сверху вниз – ливень. Иногда свистит, бьет руками, точно плавниками, задирает голову – изображает дельфина, который вырывается стоймя из воды, но эта ужимка Эстебану не нравится, а Гуталин, в свою очередь, ненавидит пресловутое слово, разъясняет: «Если я ее зову по имени, ведра становятся тяжелее», – вот он и предпочитает пантомиму и у Эстебана старается не глядеть на стены. Водонос отлично знает, что за тоска снедает его лучшего клиента, в чем его страшная беда. Ему известна его история, его угрызения совести. О беде знает весь дом. Эстебан думает, что расплачивается за проступок, что отец приговорил его к каре, что одними рисунками на стенах не отделаешься. Эстебан верит, что возможен крик, возможно требование и воззвание, но знает предел своих возможностей и потому молчит.
«Вот бедолага!»
Так думает Гуталин и говорит Эстебану, что в его доме нужна баба, и зовет Эстебана сходить выпить пива – давай сходим, я всегда готов, пиво поможет тебе забыться. «Тебе надо завести бабу. Бабы и пиво – самое верное средство». Ведь Гуталин отлично знает, в чем беда его лучшего клиента. Знает, как исчез его отец, как отца схоронили. Ему рассказывали о Баркасе. Так прозвали отца Эстебана, а на самом деле он был тезка своего сына – тоже Эстебан.
Потому что Эстебан – самое что ни на есть рыбье имя.
Дед тоже был Эстебан, и прадед – тоже. Гуталин отлично знает, что все они были помешаны на воде и один за другим уходили в воду, а если чем и различались, то только прозвищами. Отец был Баркас, а дед – Акула.
Гуталин носит воду и несет чушь – он всегда такой. Любит побалагурить, а жалобы клиента пропускает мимо ушей. Не жалеет слов, проклиная этот город за свое безденежье. Ох, какой же болтун этот Гуталин! Каждый раз он советует Эстебану: брось ты эту блажь, хватит исписывать стены этими четырьмя буквами, уже места живого нет. Уверяет, что Гавана – город заколдованный, наказанный Богом, точно Содом и Гоморра. Вот только Гавану Бог не захотел испепелить огнем, а лучше бы испепелил – скорее бы наши муки кончились. «Бог – он без царя в голове», Бог решил, что лучше прикончить жителей Гаваны жаждой, говорит Гуталин. И разъясняет, перелив всю воду из бадей в бак, что мы, гаванцы, все про свою беду знаем.
– Смотри, все сходится, – твердит он, – в двух шагах от памятника инженеру Альбеару, первому, кто всерьез пытался добыть для нас сцепку из атома кислорода и двух атомов водорода, поставили памятник алькальду Супервьелле. А ведь Супервьелле наложил на себя руки оттого, что обещал утолить жажду гаванцев, да не смог.
Так говорит Гуталин и исчезает в сумраке лестничной клетки.
А вернувшись с еще двумя бадьями, полными до краев, уверяет: учти, с тех самых пор больше никто не вздумал ни строить для нас водопровод, ни ставить памятники. Памятник – знак почтения к невыполненному обещанию, знак, что воды нет и не будет. Гуталин спрашивает у Эстебана: «Ты когда-нибудь над этим задумывался?» – и, не дожидаясь ответа, снова исчезает в сумраке лестничной клетки.
Для Гуталина разговаривать – все равно что наполнять водой бак:
две бадьи,
пауза,
две бадьи,
и он возобновляет речь с того же места, на котором прервался. Переливает воду из бадей в бак, а сам рассуждает о символическом смысле. Гуталин считает памятник Супервьелле самой настоящей провокацией. Выстрел из пистолета, которым алькальд положил конец своей жизни, обессмертили нарочно. Водонос считает: эта мраморная статуя – совет горожанам, живущим без воды: возьми пистолет и застрелись, пуля утолит жажду.
Эстебан думает о Супервьелле и никак не может вообразить его улыбку. Эстебан думает о Супервьелле: алькальд весь извелся, ему хочется попросить прошения, но язык не слушается, и вот он, разрыдавшись, раскаивается и опускает пистолет, который поднес было к виску. Но Супервьелле решился – и Эстебану следовало бы. Супервьелле, затаив дыхание, нажимает на курок, и пуля вылетает, несется, проникает внутрь, а алькальд кричит, корчится, оседает на пол, разевает рот, покидает граждан своего города и обрекает их на жажду. Эстебан думает о Супервьелле и воображает его похожим на отца, говорит Гуталину, что хочет взять пример с алькальда, но Гуталин советует слегка погодить: «Вот расплатишься со мной, и стреляйся сколько хочешь». Мысли о самоубийстве не оставляют Эстебана.
– Где я возьму пистолет?
– Тогда помирай от жажды, – отвечает Гуталин и уходит.
Эстебану хочется застрелиться, положить конец своим несчастьям, но он отлично знает пределы своих возможностей. Он никогда даже близко не поднесет к виску оружие; желание есть, но духу не хватает.
Ему надоели ведерко и кувшин, кувшин, который он погружает в воду, чтобы потом вылить на себя: вода сбегает быстро, струя грубая, неделикатная. Больше всего на свете ему хочется принять душ. Он сам смастерит душ когда-нибудь, когда у него будет вода, много воды. Уже много лет он хранит пустую банку от сардин, которая, как он говорит, изнутри луженая: начистишь – блестит. Миллиметрами измеряется расстояние между линиями, которые Эстебан начертил на дне банки от сардин. В каждой точке, где горизонтальные линии пересекаются с вертикальными, он протыкает малюсенькую дырочку и шлифует ее края, придает круглую форму отверстию, которое ждет воды.
Душ – вот его величайшая мечта, и еще – чтобы больше не нагибаться над ведром, держа в руке кувшин. Душ – на душ можно смотреть со стороны, и подставлять лицо брызгам, и намыливаться обеими руками, и даже петь. Эстебану хотелось бы петь под душем и подставлять тело струям: пусть вода течет прямо по нему. Петь – и пусть пение прерывается оттого, что вода попала в раскрытый рот. Петь, петь, петь, впитывать воду душа. Ему надоело ведро, надоела нищета, он мечтает положить всему этому конец, пусть даже вместе со своей жизнью – совсем как Супервьелле. Чтобы обуздать желание, он пишет на стенах, и разрисовывает стены, и выходит из дома после того, как Гуталин приносит воду, отдает Гуталину тридцать песо и выходит.
Выйдя из дома – а живет он совсем рядом с Ангельским холмом, – он идет по авениде Мисьонес и смотрит на яхту «Гранма», которая уже не плавает по волнам, а отдыхает на пьедестале, защищенная от воды толстенными стеклами. Потом огибает Дворец изобразительных искусств и бесчисленные инсталляции вокруг него. Его интерес привлекает только одна: тележка, как у Гуталина, только побольше, в инсталляциях художников-концептуалистов тележки всегда крупнее, чем в жизни, а на тележке – два гигантских бака, один черный, другой красный. Тележка и два раздутых водянкой бака насмехаются над бедой, которая измучила город.
Наконец, миновав здание компании Бакарди, он входит в сквер, где стоит бюст Супервьелле, поставленный гаванцами. Поначалу он стеснялся, не решался подарить подсолнух. Но давно уже перестал робеть перед бюстом. Приближается решительной походкой и жертвует бюсту огромный цветок и несколько капель ароматического масла – то сандалового, то ветиверового – и заговаривает с бюстом, вполголоса, почти на ушко. Никто так и не дознался, что Эстебан рассказывает бюсту и откуда такая симпатия. Завсегдатаи сквера не знают, кто такой Супервьелле, и принимают Эстебана за его потомка, смотрят растроганно. Однажды Эстебан подслушал, как одна женщина уверяла, что он приходится покойному внуком. Это недоразумение его забавляет. Потому-то каждый день он снова приносит цветок и говорит с бюстом. И никто не знает, что Эстебан уже поведал покойному алькальду о своей беде. Уже нашептал на его твердое, тверже не бывает, холодное ухо о том, какое доброе дело делают гаванские водоносы, каждый раз упоминает о Гуталине, о Толстогубе, об Элое.
Когда идет дождь, Эстебан бежит в парк и смотрит на бюст, вглядывается в уголки рта алькальда. Ему мерещится, что мраморные губы вздрагивают, он воображает, что алькальд пытается улыбнуться. Однажды он спросил, помнит ли он фонтан «Индия», и, хотя не получил ответа, заговорил о четырех дельфинах фонтана и об их разинутых ртах:
– Рты разинуты широко-широко, но сухие, совсем сухие.
Эстебан жалуется Супервьелле на обезвоженные фонтаны Гаваны. На разговор с Супервьелле тратит массу времени: столько надо рассказать. Он уверен: собеседник не посчитает его сумасшедшим оттого, что Эстебан написал «вода» у себя на стенах тридцать тысяч раз с лишним, причем писать эти четыре буквы недостаточно, надо рисовать – реку, водопад. Разве алькальд сочтет его сумасшедшим, если уже знает от него про Эстебана-Каймана?
Семья отыскала Каймана, заглянув в прошлое. Когда он взошел на корабль, доставивший во Флориду экспедицию Панфило де Нарваэса, его еще звали Эстебаном. Прозвище появилось позже. Эстебаном он звался, пока корабль не вошел в Саграссово море. Там-то он со всеми и простился. Сказал: я тут останусь, и никто ему не поверил, даже когда он вышел на нос судна и спрыгнул в воду.
«Он несколько дней смотрел на море, пока не решился. И, поверьте мне, Супервьелле, его уговаривали, но все напрасно, даже Панфило де Нарваэс своей властью не добился, чтобы Эстебан вернулся на корабль. Он плыл себе, все дальше и дальше, и говорят, что за ним увязались тысячи рыб. Все это видели моряки и сам Панфило де Нарваэс. Даже Альвар Нуньес Кабеса де Вака видел, как он затерялся вдали, а потом описал увиденное в своих воспоминаниях. И еще рассказывали – наверно, тот же Кабеса де Вака и написал, – что, когда экспедиция высадилась во Флориде и побрела по болотам к настоящей земле, за ними погнался крокодил, и кожа у него была толстая-толстая, из аркебузы не прострелишь, а потом все застыли в изумлении и безмолвии. Знаете, Супервьелле, как было нарушено это безмолвие? Один испуганный матрос произнес имя, имя „Эстебан“, и каждый из моряков, которые смотрели и глазам своим не верили, вымолвил: „Эстебан“. Если бы Нарваэс сам не увидел, ни за что бы не поверил, поэтому его привели на болота – пусть сам посмотрит и не думает, что это лишь моряцкие байки. И Нарваэс разинул рот, глазам своим не веря, и даже Нуньес Кабеса де Вака – тоже, хотя нет, Кабеса де Вака, наверно, все-таки слегка поверил и потому написал… по крайней мере, так говорили мои родные, которые читали книгу… что Эстебан лежал перед ними в болоте ничком, чуть приподняв голову, и вместо лица у него было рыло, а кожа на его руках, вцепившихся в стволы мангровых деревьев, была огрубевшая, дубленая, а потом летописец своими глазами увидел, как кожа меняла цвет, розовела, смягчалась, превращалась в человечью. Так написал Кабеса де Вака, как передают у нас в роду. Вы это когда-нибудь читали? Я не читал, но спорить не решусь. А еще мои родные говорили, что кое-что подобное намного раньше написал другой испанец. Был такой Исидор Севильский. Оказывается, Исидор рассказал, что в одном семействе с Гибралтара все мужчины больше любили воду, чем сушу, все звались Эстебанами и, дожив до определенного возраста, насовсем пропадали в море или в реках. Честно говоря, я ничего не принимаю за чистую монету, но и спорить не хочу. Вы думаете, доверять можно только собственным глазам? Ну так я видел, как мой отец пропал, а он – как пропал его отец. Этого достаточно, и, возможно, я теперь расплачиваюсь за сомнения в том, что место нашей семьи – в воде. Может, поэтому воды у меня дома – кот наплакал. Или они так зовут меня к себе, хотят, чтобы и я обернулся рыбой? А вас, случайно, не Эстебаном зовут – не Эстебаном Супервьелле?»
Так разговаривает Эстебан с покойным алькальдом, хотя завсегдатаи парка принимают его за сумасшедшего или за родственника. На прощанье он всегда обещает вернуться и идет, отсчитывая сто шагов – до Альбеара, стоящего на мраморном цветке. Инженеру он не жертвует подсолнухов, не умащает его ароматными маслами. Альбеара он, похоже, ругает, если судить по жестам, которыми он сопровождает свою болтовню. Даже спрашивает инженера: вы что же, верите, что в Венто вас вспоминают добрым словом? [15]15
Франсиско де Альбеар – инженер, автор проекта и руководитель строительства первого централизованного водопровода в Гаване. Вода поступала из источников в селении Венто. Решение о строительстве было принято в 1852 году, работы шли крайне медленно, последняя очередь проекта была завершена в 1893 году, уже после смерти Альбеара. Кстати, его в некотором смысле погубила вода – он скончался от малярии.
[Закрыть]
Вернувшись домой с прогулки, Эстебан раскрывает настежь все двери и окна и, растянувшись на кровати, прислушивается к каждому звуку. Лучше всего он знает скрип тележек: железные колесики катятся по старому ухабистому асфальту, везут полные баки. Растянувшись на кровати, он легко воображает себе Гуталина, Толстогуба, Элоя или кого-нибудь еще, толкающих тележки. Все тот же скрежет железа по асфальту, а вечерами – другие веселые звуки: водоносы напиваются, чтобы не думать о визге колес, от которого глохнут уши, чтобы позабыть тяжесть бадей и бесконечность лестниц. Эстебан слушает эту симфонию визга и смотрит в потолок. Растянувшись на кровати, наблюдает за своими облаками, вычисляет, скоро ли они перельются через край. Дожидается ливня. Хоть он и поселил эти облака на потолке своего дома, они никогда не замирают неподвижно. Сколько ни смотри, каждый раз обнаруживаешь среди них новые фигуры, видишь, как облака ползут по потолку. В одном из облаков он разглядел своего отца: тот высовывался наружу, жестикулировал; но Эстебан никак не поймет, что отец хочет сказать, заглядывает отцу в глаза все пристальнее, хочет понять – хмурится тот или улыбается. Наверно, если отец когда-то обернулся рыбой, то вернется он водой, все-таки вода происходит от рыб. Так говорил папа или не так? В отчаянии Эстебан воображает отца ливнем, и ливень говорит: я превратился в рыбу, чтобы перевоплотиться в воду, и Эстебан ждет брызг, ждет потопа. Как жаль, что лицо отца каждый раз теряется среди белобоких облаков, сколько ни ищи, отец исчезает. Просто старики – они вроде облаков, говорит он себе, пытаясь утешиться, но ничего не получается, и он становится инквизитором. Допрашивает облака, которые нарисовал на потолке, задает им вопросы, упрекает, читает нотации и дедушке-акуле, и всем Эстебанам из своего рода, затерявшимся в водах рек и морей. Бывают дни, когда он замечает, как трепещет между скоплениями белых облаков смутный свет, и слышит гром; тогда он забирается с головой под простыню и плачет, оплакивает отца и себя самого и чувствует страх.
Может быть, от страха Эстебан возомнил себя пророком Исааком и стал убеждать соседей вырыть колодец там, где стоял портик, когда дом еще был особняком, а не многоквартирным полуразвалившимся, как сейчас. Вытянув указательный палец, Эстебан объясняет, где копать, и грозит соседям всеми карами. Если они не слушают, трясет пальцем и кричит, обзывая их пастухами, умоляет бросить овец и вооружиться лопатами и кирками: вгрызайтесь в землю, ройте.
– Если не копать, ни у кого воды не будет, – вопит бедолага, а никто и не обращает внимания, но он настаивает, маячит на верхней ступеньке лестницы, дергая указательным пальцем.
Соседям эта болтовня надоела. Соседям больше нравился прежний Эстебан. Им много не надо – лишь бы вел себя прилично. А вот причитаний они терпеть не намерены. Тишины, они требуют тишины. Они обращаются в полицию.
Одна соседка вызвалась на него заявить, и все решают: пусть лучше его заберут.
– Может, за решеткой он присмиреет, – говорит одна толстая негритянка. И добавляет: – Если Очун [16]16
Очун – женское божество в религии африканского народа йоруба и в синкретическом культе сантерия, распространенном на островах Карибского моря. Покровительница любви и материнства. В одном из мифов у нее отняли детей, она жила бедно и каждый день носила белое платье, пожелтевшее от грязи. Однажды, когда она стирала платье в реке, ее увидел обитавший в воде бог и влюбился. Они поженились, взяли к себе ее детей и зажили богато.
[Закрыть]не захочет, воды у нас никогда не будет.
Возможно, Эстебан и вправду присмиреет: ему уже не хочется вставать с постели, даже вылезать из-под простыни неохота. Не хочется смотреть на небеса, нарисованные собственноручно, тоскливо смотреть на водопады, на слово «вода», повторенное тысячи раз. Он устал взывать, устал смывать последствия несварения желудка водой, которая осталась от мытья посуды. Эстебану опротивел смрад в его доме, но нельзя же всю жизнь прожить, заткнув нос. Эстебану опротивел смрад, испускаемый его подмышками и всем телом, но нельзя же всю жизнь прожить, заткнув нос. Хочется плакать от дурного запаха одежды, сваленной в углу под водопадом, который он нарисовал падающим с потолка. Неохота подмечать запахи и злиться из-за пыли – тоже. Тем более теперь, когда ему сказали про Гуталина.
Наверно, это его вина – еще один груз на совести Эстебана. Это он рассказал трудолюбивому Гуталину о том, сколько водоносов в Париже. Только его вина. Гуталин достал из кармана маленькую картинку, вырезку из какого-то альбома. Картина Веласкеса, мужчина с глиняными кувшинами, подпись «Водонос из Севильи». Гуталин спросил: «А я на него как – похож? – И заявил: – Все, хочу в Севилью». А Эстебан заговорил о парижских водоносах. Подметил, как загорелись у водоноса глаза при слове «Париж», но не осекся. Его оплошность состояла в том, что он говорил с жаром, живописал, а водонос слушал молча, навострив уши, впитывая все подробности о том, что парижане зовут voie d’eau– «течь» или «путь воды». Два ведра воды одинаковы что в Гаване, что в Париже, но Гуталина заворожил Париж, его словесный портрет, дотошно нарисованный Эстебаном, и пылкие заверения Эстебана, что в Париже не нужно дожидаться водовозной машины, чтобы наполнить баки, а потом таскать по лестницам бадьи. Он рассказывал, и казалось, что по комнате струится Сена. Двадцать тысяч водоносов и полноводная Сена, пересекающая город, который Гуталин так и видел. Прекраснейший город, затмивший тот, что окружает Гуталина, и здания не рушатся, и лестницы не обваливаются, надежные-надежные. Гуталин прямо увидел Париж и парижских водоносов, и среди них – себя.
– Так любой может ведра носить, – сказал он и больше не вернулся.
Если люди не врут и водонос действительно подался в Париж, виноват Эстебан. Он же так и не пояснил, что водоносы в Париже больше не требуются. Это же старая история, из восемнадцатого века.
Поэтому он решил не вставать. Не покидать постели. Зачем вставать, если баки пусты? Как теперь рисовать облака или писать на стенах «вода»? Как без воды разведешь акварель? «Ох, были бы у меня деньги на масляные краски, были бы у меня деньги на воду!» – бормочет он, закрывшись простыней с головой. Даже соседи – те самые, кто заявил на него в полицию, когда он возомнил себя пророком Исааком, – не добились, чтобы он встал. Пусть они и рассказывают, что приносят жертвы Очун, он не поднимается с постели. Он не увидит сотен подсолнухов, которыми завалены ступени на покосившейся лестнице. Его уже не коробит ни вонь, ни пыль, облепившая комнату, как маска, и даже к нарисованным облакам он стал безразличен: и к облакам, и к ручьям, и к неподвижной воде, написанной готическими буквами и изящным унциалом. От пыли и вони не продохнуть, но Эстебан не различает, не чувствует. Он так и не узнал о пожаре этажом выше. Матрас загорелся от сигареты – одни говорят, нечаянно, другие, что с умыслом. Педро – он спьяну всегда чудит. Заметив язычок пламени, он замахал руками, раздувая огонь, засвистел, подул, как настоящий ветер. Пламя медленно-медленно росло, а потом стремительно взметнулось. Пригоршни воды хватило бы, но Педро не следил, как растут язычки пламени, – постоял немного, залюбовавшись оттенками огня, а потом отвлекся. Спьяну его всегда все восторгает!
Эстебан чувствует жар и прячется под кровать. Слышит жалобные крики, причитания. Прячется глубже. Смотреть ему не хочется. Зачем слушать, как соседи взывают: «Воды, воды!» Он знал, что когда-нибудь они признают его правоту, но теперь он не станет тыкать пальцем, не укажет на угол портика – скорее палец себе оторвет, чем укажет. Эстебан больше не Исаак, и ему безразлично, что все умрут от жажды. Он не услышит ни криков ужаса, ни сирен, не увидит мигалку, которая беспрерывно крутится на кабине пожарной машины. Никогда не узнает, как по лестницам взбиралось – аж голова кружилась – множество парней в черных плащах. В доме распоряжались хитрые, бесчисленные языки пламени, а он и не догадывался. Надменное пламя накидывалось на дерево, потрескивало, ломало своим натиском древесину, а он прятался под простыней.








