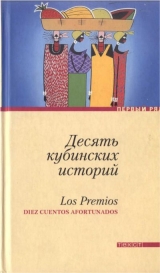
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Шли месяцы. Роза Келлер поняла, что больше не может метаться из города в предместья, из предместий – в город, из города – на остров. Если, сцапав жертву в Париже, она и спрашивала о местопребывании Анри де Сада, ей отвечали, что он в какой-нибудь деревне в Бретани; если жертва была из деревни, то уверяла, что Анри де Сад скрывается в Париже. Роза Келлер чуть ли не плакала и даже вздумала забросить охоту на де Сада и всецело посвятить себя поэзии. Только тот факт, что она сократила число подозреваемых с четырех до трех, воодушевлял ее на продолжение жуткой затеи.
На следующий день она снова устроила чтения. Собрались все те же слушатели, пришли даже подозреваемые, в том числе тот, кого она пырнула ножом, – он чудом выжил. Очевидно, раны были неглубокие, и теперь он сидел здесь как ни в чем не бывало; более того, он даже не догадывался, кто перед ним в обличье переодетого поэта, и даже рукоплескал стихам, искаженным паралексией. Роза Келлер поняла, что обозналась, и осознала, что раненый – вовсе не тот, кто давеча выбежал из этого зала. Настоящий Анри де Сад сидел как ни в чем не бывало рядом с ложным Анри де Садом; правда – определенно неспроста – прикрывая свое лицо журналом. Роза Келлер вновь прервала чтение и погналась за Анри де Садом, бежала за ним по улицам, переулкам и закоулкам, прочесывала проезды и развалины, кусты и общественные бани. Увязывалась за всяким, кто держал в руке журнал или газету, заглядывала в канализационные люки и на помойки, но так никаких следов и не нашла. Анри де Сад улизнул опять.
Шли дни, месяцы, годы, а Роза Келлер снова и снова прерывала чтения каждый раз, когда Анри де Сад решал сбежать. Почему же Роза Келлер не устраивала фальшивые чтения, чтобы перехватить Анри де Сада у входа в зал? Зачем она растянула игру на столь долгий срок? Она устала. Больше не находила смысла в том, чтобы жить ради погони за Анри де Садами по всему Парижу. Но почему же, почему? Она ощутила страх. До нее дошло, что Анри де Сад – существо-оборотень, квинтэссенция всех зол и только силой и хитростью его не возьмешь. Анри де Сад, как и Роза Келлер, представлял собой существо, которое постоянно меняло облик и было неуловимо.
Она решила устроить последние чтения. В тот день утренние сумерки так до конца и не рассеялись, над городом нависли тучи. Роза Келлер разложила на столе бумаги. Шум дождя удачно сочетался со строками, которые ей захотелось прочесть на прощанье. Она решила больше не совершать преступлений или, как минимум, совершать реже, вести затворническую жизнь в хижине на островке или, что даже лучше, покинуть Париж, уехать на Багамы. В ее голосе, почти охрипшем, чувствовалась усталость. В середине вечера Анри де Сад молча выскользнул из зала, но Роза Келлер не прервала чтение, а продолжала смешить публику. Конец близился. За шаг до того, как рухнуть в водоворот пучины под дождем, среди раскатов грома, Роза Келлер излила из своих уст потоки газообразного многословия. Дочитав последнее стихотворение, она встала, не дожидаясь аплодисментов, и, глядя себе под ноги, двинулась по боковому проходу в поисках выхода. Публика рукоплескала все громче, аплодисменты перерастали в овацию. Роза Келлер вышла на улицу. Медленно побрела куда-то, раскрыв зонт. Анри де Сад, стоя на углу, жестами манил ее за собой. Розе Келлер не хотелось возобновлять погоню: она определенно устала, очень устала, возможно, потому, что почувствовала: все, что ее окружает, – сплошные тенета гнусностей, а следовательно, ее новая жизнь – напрасная, неуклюжая, старомодная суета. И она ушла, под дождем, в одиночку, безутешная, искать в мутных водах устья избавление в смерти [6]6
Персонажи рассказа носят имена исторических лиц, сыгравших ту или иную роль в жизни маркиза де Сада. Маргерита Кост, Марианна Лаверн и Роза Келлер фигурировали на судебных процессах как потерпевшие от рук де Сада. Клод-Антуан Сойе в действительности был поверенным жены маркиза и улаживал скандалы вокруг его похождений. Но знание биографии де Сада мало что прибавляет к интерпретации этого нарочито бессвязного рассказа.
[Закрыть].
Рауль Агиар
Великие призраки
© Перевод Ю. Грейдинг
Долго еще придется ждать Лесаму Лиму и Чинолопе?
Собственно, это и был ответ. Вы сидели на скамейке на Пласа де Армас, лицом к садам и памятнику Се́спедесу, спиной к дворцу Капитан-генералов, рассматривали эти кафешки – такие старые, что заслуживали герба и швейцара в ливрее, – воробьев, клевавших крошки, которые щедро разбрасывали им завсегдатаи ресторана, и вам начинало нравиться, что вы как в колодец свалились на этот остров, остров-туннель, где были всего лишь еще одним персонажем, немного странным, но ничего особенного, где вы счастливы гулять по улицам вместе с замечательными друзьями – Ретамаром, Лисандро или даже с самим Лесамой, этим грозным, таким неторопливым вулканом слов, можно присесть в парке, и не надо раздавать автографы, прятаться за темными очками, можно просто быть, просто сказать, который час, или ответить на приветствие, как знакомому, чувствовать себя как дома в этом январе, похожем на парижское лето, за океан от всех издателей, журналистов и надоедливых фанатов, как раз в самой точке зарождения новых судеб, на Кубе, и вы не знаете, что ты в это время подходишь по улице Обиспо, отдаваясь ритмам и звукам старого города, пытаясь скрыть от людей, что ты так плакала, что так тяжело на душе и все, чего ты хочешь, – небольшого чуда, слова утешения. Вон там старик пытается продать туристам монеты с Че Геварой, а они, смеясь, отказываются, а потом замечают тебя, ощупывают глазами, но им не понять, что сегодня внутри тебя – пустота, тебе уже невозможно вернуться назад, необратимое время бежит, ты думаешь, что было бы гораздо лучше вслушаться в отголоски и отзвуки, будто ты оживающий феникс, чем в слезах вспоминать, что случилось всего несколько часов тому назад, тогда после дозы ты ничего не чувствовала, а они просто использовали тебя, как тряпичную куклу, и даже не заплатили.
Теперь ты подходишь ко дворцу, пересекаешь улицу, идешь, опустив голову, на Пласа де Армас, не замечая вас, сидящего на мраморной скамье парка, читающего толстую умную книгу и тоже не замечающего тебя. Садишься рядом с ним, и вы отрываетесь от чтения, чтобы украдкой взглянуть на нее и увидеть ее глаза с потеками туши. По выражению лица вы поняли – она так одинока, что напомнила вам заброшенного зверька, вы хотели бы задать вопрос, но знаете, что собеседник из вас неважный, и возвращаетесь к чтению, но слишком нависло молчание вокруг, думаете, что не стоит ходить по жизни на цыпочках, прячась или уткнувшись в самого себя, аргентинцы всегда выпускают когти или тычут пальцем в недостатки, а в конце концов понимаешь, что такая поза ни к чему не ведет, к чему пустые слова на планете, где все дышат одним воздухом, совершают те же ошибки, а в конце все мы оказываемся перед тем блюдом, которое пусть подадут попозже (и чем позже, тем лучше), эта девушка, похоже, едва жива, на ней явный след беды, она не знает, как жить дальше.
Вы не хотите быть нескромным и решаете на время держаться сурово и безразлично, как скала, а ты всего лишь ищешь спасения, одной только фразы, которая прикует тебя к земной тверди после ночи, когда над тобой измывались ублюдки. Вынимаешь сигарету и роешься в рюкзачке, но зажигалка навсегда осталась в той проклятой комнате. Посмотрела на соседа по скамье и удивляешься его росту, он такой невероятно высокий, с детским лицом и широко расставленными глазами. «Дашь огонька?» – спрашиваешь ты его, и вы обрадовались. Вдруг на площади вспыхнуло солнце всеми семью цветами. Вы предлагаете ей свою зажигалку, и ты прикуриваешь сигарету, затягиваешься пару раз и пытаешься улыбнуться. «Ты откуда?» Кубинцы, не задумываясь, «тычат» всем, и это вас прямо завораживает. Будто кидаются раздеваться, как на морском берегу. Может, в этом все дело, думаете вы; море тут везде, всегда в двух шагах. Во всяком случае, вы понимаете: она безнадежно запуталась. Не тот случай, чтобы присвистнуть и умыть руки. Отвечаете: «Аргентинец», – и ощущаете, что соскучились по бутылке вина; на Кубе нет вин, ну, вообще-то есть одно – шипучее апельсиновое, но эта земля не для вин, ром заставил их отступить.
Ты спрашиваешь его: «Художник? Или артист? Кажется, я видела где-то твое лицо».
Вы пристально взглянули на нее и покрутили головой: «Писатель».
– А как тебя зовут?
– Хулио.
– А я – Карла.
– Очень приятно, Карла.
– Ты писатель, аргентинец, и тебя зовут Хулио. Не хватает только, чтобы и фамилия у тебя была Корта́сар.
– Так ты меня знаешь?
– Это что, шутка?
– Почему?
– Вас тоже зовут Хулио Кортасар?
– Почему тоже? Разве есть другой?
Похоже, она забеспокоилась: «Конечно, нет.
Такой случайности и не придумать. И совсем невероятно, что ты о нем не слыхал. Все знают Хулио Кортасара. Его и в школах изучают. Он умер, кажется, лет пятнадцать или двадцать тому назад».
Вы размышляете о ритмах, о том, как люди упорно называют случайностями то, что подчиняется еще не известным законам, а часто они настолько же случайны (или неизбежны), как чудо ежедневного пробуждения от сна.
– Ты уверена, что его так звали? И он был аргентинцем? Не путаешь?
Наверно, он собирается продолжить игру, думаешь ты. Ладно, по крайней мере, поможет тебе забыть неприятности и удары, которые несколько часов назад перевернули твою жизнь.
Ты думаешь, что похожа на сестру матери. Пришлось пережить то же самое: влюбиться в болвана, последнего из дураков, а потом вернуться в слезах на отчий порог просить прощения, вот дальше уж нет, ты не вздумаешь пропасть в океане, плыть до изнеможения и позволить волнам взять твою жизнь глоток за глотком.
– Конечно, нет. Всем известно, что Хулио Кортасар написал «Игру в классики». Я не дочитала, но…
– Подожди. Ты сказала «Игру в классики»?
– Да. И еще много рассказов про хронопов. А еще «Преследователя».
Вы сразу подумали, что она решила подшутить. Ох уж эти кубинцы, вечные их розыгрыши! Но девушка была совершенно серьезна, будто и впрямь верила в то, что сказала. Конечно, может быть, она сошла с ума, или вообще все это сон, хотя не похоже.
– На днях отец читал что-то, называлось как-то вроде «Модели для сборки».
– «62. Модель для сборки».
– Вот-вот, правильно.
Вы обнаружили Сбой. Нечто такое, что не вписывается в структуру Реальности. Она не может знать об этой книге, потому что ее еще не напечатали, больше того, она еще не дописана. Может, говорил о ней в каком-нибудь интервью? Вы такого не помните. Это тревожит. Когда такое происходит, оно всегда сбивает с толку.
– Этот Хулио Кортасар – я. Только, как видишь, я не умер.
– Ну хватит! Не люблю, когда меня разыгрывают, этого только мне не хватало.
Пытаешься встать, но вы удерживаете ее за руку. Сердце стучит барабанной дробью. «Подожди. Есть нечто, что не вписывается во все это». Вы достаете из кармана пальто и протягиваете ей паспорт, открытый на странице с фотографией. Ты читаешь цифры и испуганно вскидываешь глаза:
– Не понимаю.
Открываешь рюкзачок, роешься на дне, потом протягиваешь ему удостоверение личности, и ваши глаза впиваются в дату рождения. Несомненно, все указывает на то, что это сон, а поэтому вы решаете плыть по течению.
– Я тоже смущен, как и ты. Говоришь, что этот Хулио уже умер? В каком году?
– Не помню точно, но примерно в восьмидесятых.
– В восьмидесятых? А какой сейчас год?
Недоверчиво покачиваешь головой: «Две тысячи третий».
Молчание. Ты думаешь, что все это от дури. Галлюцинации. Вы, однако, верите, что это сон. Слияние времен? Или это правда, что уже умерли и сейчас вы всего лишь призрак? Нет, вы предпочитаете первое объяснение, хотя оно и отдает научной фантастикой. В конце концов, Куба всегда казалась ему немного сюрреалистичной, не слишком реальной, но и не слишком фантастической, скажем так: остров со множеством людей на границе двух миров.
– Подожди. Ты думаешь, что я тебе снюсь. Я точно так же думаю о тебе. В любом случае мы проснемся. Так что сойдемся на этом и давай поговорим немного. Хорошо? На самом деле я сейчас на Пласа де Армас, жду Лесаму Лиму и Чинолопе. Сейчас январь 1967 года, я приехал на Кубу как член жюри премии Дома Америк. Ты знаешь Лесаму?
– Конечно. Я – тоже в Гаване, на Пласа де Армас, только в 2003 году.
Вы демонстрируете спокойствие, которого на самом деле нет.
– И не замечаешь ничего странного? Можешь описать мне то, что видишь?
Ты оглядываешься вокруг – вокруг кипит городская жизнь, клоуны на ходулях, стада туристов, осаждаемых газетчиками и валютными проститутками. «Зачем? – спрашиваешь ты его. – Все это бред. А ты – галлюцинация».
– Не думаю. Припомни, ты прикурила сигарету от моей зажигалки. Можешь меня потрогать, видишь, я вполне ощутим. Материален, хочу сказать.
– Верно.
– А если это всего лишь сон или странное путешествие во времени, вообрази себя на моем месте. Это же замечательно! Наконец-то могу поговорить с человеком, который знает будущее.
– Не думаю, что я тебе уж очень пригожусь. Про тебя я мало знаю, и про литературу тоже. Знаю только, что ты напечатал кучу книг и что ты очень знаменит, вот и все.
– Не важно. Можешь рассказать мне о другом.
– Ну о чем?
– У меня тысячи вопросов. Была еще одна мировая война? Похоже, что нет: если не так, то нас бы здесь не было. На Марсе человек побывал? А война во Вьетнаме? Освободились другие народы Латинской Америки? Что произошло на Кубе за это время? Фидель жив? А Че? А социализм – победил наконец? Об Аргентине что-нибудь знаешь?
– Че…
Собираешься рассказать и вдруг замолчала – стало жалко. Душит тоска. Смотришь сквозь черные очки на другую реальность, и она обжигает глаза. Понимаешь, что в нынешние времена похищений и выкупов утрачены все изначальные представления, никто уже не хочет предаваться мечтам, люди закованы в жесткие кандалы эгоизма, что за жизнь в этом мире, штампующем людей-волков и умные бомбы, мир с его роботами, порожденными шквалом пустых слов, будь проклято это новое тысячелетие, а тут в парке статуя Се́спедеса что-то еще указует спившимся попрошайкам, торговцам сексом, как ты сама, букинистам, которые за лотками расхваливают книжное старье. Позабыли о правде, думаем только об одежде, жратве или уж о бегстве. Вековая покорность и застрявшая в мертвой точке жизнь, но, по крайней мере, ты свободна от всяких надежд. А то было всего лишь ослепление, превратившееся в патетические воспоминания. Да, но как сказать ему это, такое не сболтнешь запросто, и будь что будет. А вы ждете, глядя на нее чистыми глазами, в вашем костюме, какие давно не носят, со всей не знающий стыда невинностью писателя из шестидесятых годов, очарованного кубинской революцией, партизанской войной Че Гевары, стольким еще… Тебе внезапно захотелось родиться в те времена, скинуть всю грязь, накопившуюся за эти сорок лет, и не знать, не знать… Конечно, ты могла бы открывать ему глаза постепенно, рассказывать ему о далеких войнах, как в дамских романах, или рассказывать ему только о хорошем, или иносказательно, в виде загадок, или даже просто врать ему, придумать для него подправленную реальность, что-нибудь вроде поражения капиталистического лагеря, ведь ты, по сути дела, для него всего лишь персонаж сновидения, но нет. Такого он не заслужил. Наконец ты решаешься, делаешь вдох, и, когда уже начинаешь говорить, вы встаете: «Извини, минутку», – и идете навстречу грузному человеку, который только что появился в парке. Вы возбужденно говорите с ним и ведете его к скамье.
– Вот, познакомьтесь. Это Лесама.
Жаль, уже поздно. Ты замечаешь, как линии тел начинают расплываться, Гавана исчезает миражом экстравагантной геометрии. «С кем ты разговаривал?» – спрашивает его друг, и вы, указывая на пустую уже скамью, взмахиваете рукой в знак покорности судьбе. А тебе, пытающейся удержать его последний, ускользающий взгляд, вдруг захотелось заплакать. Или засмеяться. Теперь ты думаешь, что стоит почитать серьезно, хотя тебе и не по вкусу такое занятие.
Давид Митрани
Эрекция в общественном транспорте
© Перевод С. Силакова
Гном зарывается мордой в отбросы: яичная скорлупа, кофейная гуща, пустые консервные банки. Чуя съестное, окончательно расшвыривает мусор. В грязи он копается невозмутимо, совсем как свинья. Обегает вокруг рынка, не осмеливаясь сунуться в ворота: еще вытолкают пинками, как в прошлый раз. Пожевывает кожуру маланги [7]7
Маланга – тропический корнеплод.
[Закрыть]. Торопливо проглатывает хлебную корку, лоскут куриной кожи. Пьет воду из лужи. Облаивает велосипедиста.
Велосипедист от неожиданности выпускает руль из рук, наезжает на бровку тротуара, вопит: – Мать твою, чтоб тебя разорвало, засранец. Гном не переставая лает и скалится, пока велосипед не теряется из виду. Тогда Гном трусит к мостовой, но тут встречает другого пса. Обнюхивает ему зад и подставляет для обнюхивания свой. Собаки, кружа вокруг выбоины на асфальте, рычат друг на друга, но до стычки не доходит: нет убедительного предлога. Расставшись со случайным соперником, Гном укладывается отдохнуть на автобусной остановке. И наблюдает, как медленно приближается автобус. Что это за штука, пес не ведает – откуда животному знать?
В автобусе едет Октавио, едет и чувствует, что в его спину вжимается женское лицо. Слышит беззаботный голосок, жизнерадостный смех женщины в пору первого расцвета. Чувствует горячие, маленькие ручки, бесцеремонно соскальзывающие по его лопаткам, и невольно воображает юное личико с умоляющей улыбкой, горячие губы – Бог ты мой – так и жгут, когда целуешься; воображает, как она робко стягивает с плеч платье, а он ее плечи гладит, и вот уже встает, и вот уже мерещатся груди, и как он своим опытным языком лижет ей шею; все, у него встало, и девушка лежит голая на кровати, виден лобок, встало, и губы ласкают рыжий цветущий куст в кольце из тропической росы; все, встало непоколебимо, хотя вокруг пассажиры, и раздраженные голоса, и липкое дыхание, и постоянные толчки – «эй вы там, еще немного продвиньтесь». Встало – вот ведь конфуз, ведь перед Октавио стоит мужчина, некий Гойо.
Октавио пробует попятиться, избежать соприкосновения с мужскими ягодицами, но и другой пассажир движется, уворачивается, опасаясь, что его случайно толкнут. Октавио отстраняется, но то же самое лицо, та же воспламеняющая прелесть оттесняет его обратно, прямо к заду Гойо. Это капкан. Седалище пассажира не ведает, что к нему приближается эрегированный член, девушка не подозревает, что соприкосновение с ней возбуждает Октавио, а последний ничего не может поделать со своим концом – только проклинать его за непослушание, за легкость на подъем, за неумение выбирать место и время.
Вчера Гойо изменила жена; он ее выследил, но сразу, на месте, скандала не закатил. Своими глазами удостоверился – еле нервы выдержал и, – что жена совокупляется с другим. Узнал, как они выражают свою удовлетворенность словами, увидел, как этот тип – черный, еще чернее Гойо – засаживает свой суперчлен его бесстыдной супруге, и увидел, как он без устали лижет пылающую щель, и шепот услышал: «Вот так, мой жеребчик, вот так», – и присутствовал при том, как жена завладела суперчленом, сосала со смаком и, когда брызнула струя, жадно проглотила.
Страдая, как в аду, Гойо вернулся в мастерскую и только под вечер обо всем рассказал жене. Нечего отпираться, он все видел, извращенка, бесстыдница и вообще блядь; а она в смех: «Иди ты, пусть тебя мама родит обратно, катись, заколебал уже. С тобой я на голодном пайке, а этот меня, считай, кормит, мой голод утоляет. Предупреждала я тебя, дурень: другого себе найду». Гойо никогда не давал себя в обиду, с кем угодно затевал драку, но тут как язык проглотил, замер, скрестив на груди руки, точно распоследний идиот. В другие времена он бы ответил: «Да я тебя порву, прошмандовка, шлюха», – и при всех набил бы ей морду, а любовнику раскроил бы хайло чаветой [8]8
Чавета – широкий нож.
[Закрыть]. А тут развернулся и ушел, света белого не видя от ярости. Это любовь превратила Гойо в кроткого ягненка, размягчила мускулы, даже костяшки пальцев.
Сегодня он опять едет домой в час свидания, едет в надежде на реванш, вот доедет, и, если повезет, снова застукает женушку в корчах страсти, и сможет расквитаться с хахалем. Как только сел в автобус, сразу же начал себя накручивать, беситься, мечтать о мести. Припомнил праздничные дни: вкусно ели, вдоволь пили, танцевали, хохотали, а потом в постель: белоснежные простыни, языческий храм. Припомнил, сколько всего эта шалава от него получила: купил дом, приносил наряды и продукты, самые дикие капризы исполнял. Припомнил, как погорел на краже бензина: работал на бензоколонке, имел левые доходы. Все вспомнил – свое преступление, свой крах, штраф, увольнение с работы, позор. Теперь пошел в механики. Прежней работе и в подметки не годится. Надо гореть на работе, каждый день от рук воняет машинным маслом, под ногтями траур, на спецовку смотреть страшно. А жена, бедолага, исхитряется на кухне: в магазинах ничего не достать, ни тебе мыла, ни маргарина, ни кетчупа, ни специй. А он ей говорит понуро: «Что я теперь могу? Ничего, все еще наладится». Вспомнил. Увидел себя со стороны: хороший семьянин, благородное сердце. Снова злобно вспомнил любовника – зад черный, копченый, колотится яйцами об его жену, покряхтывает – и решил: отделает этого типа дубинкой, морду ему изуродует, самого изувечит, а ее потащит за волосы, ногами испинает – блядь ведь, никакой благодарности, блядь, тысячу раз блядь, я вам не спущу, тебе и хахалю твоему. Размышляя обо всем этом, Гойо устроился в середине салона. И там простоял всю дорогу, а теперь начинает пробираться к двери и откликается: «Ага», когда Октавио спрашивает: «Вы сходите на следующей?»
В голосе Октавио чувствуется отчаяние. Илке – девушке, чьи руки прикасаются к его спине, – семнадцать лет, каждый день в пять вечера она садится на автобус после занятий в кулинарном училище. Однокурсники признают ее красоту, высоко оценивают фигуру, вылепленную диетой и аэробикой, крепкие руки и ноги; высоко оценивают прямые каштановые волосы, огромные карие глаза, длинные ресницы, и аромат духов, который смутит покой любого, и мини-юбку, что с каждым вдохом ползет по торсу все выше. Высоко оценивают эту деревенскую девчонку, которая приехала из Сан-Хуан-и-Мартинеса сводить с ума столицу. Однако, по всеобщему мнению, Илка – динамистка: подходит к тебе спросить, в чем разница между прилагательным и глаголом, и в ее голосе прорезается нежность, и вот она уже гладит твою руку, которая пытается вывести на доске, что прилагательное обозначает признак существительного, а Илка, ластясь к твоей коленке: «А я не знаю, что такое существительное», а когда теряешь самообладание – к черту грамматику, – когда уже собираешься выпалить: «Я по тебе с ума схожу, по твоему рту, губам, по всему, что у тебя есть, – мне это только снится, а в руки не дается», – тогда она надменно хохочет и ускользает от того, кто признался ей в любви. Мол, все вы козлы. Илка так навострилась кокетничать, что теперь очаровывает всех бессознательно и каждый день производит фурор в автобусе; каждый день выслушивает комплименты, ловит на себе изумленные взгляды. В принципе, ей только приятно, что все вокруг козлы, даже дряхлые старики – и те туда же; когда женщина знает себе цену, ее этими дешевыми штучками не проймешь. Вот и на Октавио Илка опирается, точно это и не мужская спина, а стена бездушная, бесчувственная. Упирается ладошками в спину, смеясь над шуткой подруги, и ее груди толкаются о спину Октавио, который больше не может вынести нахального голоса Илки, и давления ее пальцев, и образа Илки в своем воображении. Умоляет судьбу: скорее бы остановка, скорее бы открылись двери.
Но автобус ползет, как черепаха, ожидающие на остановке тоже теряют надежду.
Гном бросает наблюдать за автобусом, направляется к людям. Он – не овчарка, не дог, не кокер-спаниель, в его жилах вообще нет ни капли крови, которая придала бы ему характерную внешность. Это уродливый пес с большими обвислыми – одно свешивается ниже другого – ушами. Лапы короткие и хилые. Шерсть у него когда-то была белая с желтоватым подшерстком. Гномом его назвал мальчик. В щенячестве Гном спал в углу гостиной и сторожил оттуда детскую. Бывало, его ласково гладили, а сам он даже лизал руки хозяину, который по выходным приносил ему куриные кости. Но, невесть почему, псу пришлось неоднократно привыкать к новому рациону. Он приучился питаться моченым хлебом, рисом с бобами, вареными овощами, супом. Затем, хотя он и на этой диете был готов существовать, с продуктами стало совсем туго. Пес исхудал, шерсть у него вылезла, люди с ним больше не играли. Шли годы. Мальчик вырос, пошел в школу. Начал кататься на роликах, играть в бейсбол, а Гнома больше не замечал. Однажды утром хозяин вывел его на двор и там оставил, среди гнилых досок и ржавых железок. Там он прожил год, охотясь на крыс и лягушек, утоляя жажду затхлой водой из заплесневелого котелка, пока однажды вечером ему не дали снотворное. Пса засунули в корзину, увезли и бросили неподалеку от главного проспекта. Несколько месяцев он пытался найти путь домой: каждое утро долго бродил, отыскивая знакомое лицо, хоть что-нибудь знакомое. Научился ночевать в закоулках, копаться на помойках, выпрашивать объедки, облизывать оберточную бумагу. Голод подкосил силы, и он поневоле приостановил поиски дома, но воля у пса была железная: он упорно держался за жизнь и искал себе нового хозяина. И теперь, пока автобус не подошел и остановка не превратилась в людской водоворот, Гному надо не мешкать, энергично и грациозно вилять хвостом.
Уэви, однако, не торопится. Две остановки он промчался с ветерком, выгадав пять минут. Он расслаблен и доволен жизнью. С тех пор как он завязал с темными делами и пошел в водители, он прилюдно объявил себя однолюбом, перестал изменять жене – словно честная жизнь предполагала и честность в браке. Перестал-то перестал, но недавно взялся за старое. Он изменяет своей рыженькой, а ведь она его ждет на следующей остановке: в руках термос, в термосе кофе. Жена водителя стоит в нескольких метрах от Гнома. Когда Уэви остановит автобус у бровки, жена передаст ему кофе и, поцеловав, скажет: «Пока, милый. Береги себя», а потом, уже спустившись на нижнюю ступеньку: «Я крепкий сварила, твой любимый», – чмок-чмок-чмок. Рыженькая у него красавица; но русая – огонь-баба, чокнутая, ураган, Уэви наобещал ей с три короба: женюсь, детей нарожаем, заживем широко, на руках тебя буду носить. Но о рыженькой, преданно сжимающей термос, он не забывает: кроткая, как чистая простыня, как завтрак в постели, как горячая ванна после долгого дня за баранкой. Русая – ураган, тайфун, адское пекло, но она замужем за механиком – вот ведь бедолага, ишачит в частной мастерской до девяти вечера, затягивает гайки, чистит карбюраторы, и она его обязательно бросит: полудурок, двух слов связать не может, ничего красивого от него не услышишь, не умеет выразить свои чувства, чтобы дыхание перехватило. Рыженькая – высокая, как пальма, пальцы длинные, веселая, плотненькая и ждет его, всегда будет его ждать. Уэви не знает, что ему теперь делать, совсем в личной жизни запутался.
Между тем Октавио подозревает, что его проблема вызвана повышенной секрецией гормонов. Он не может воздерживаться ни дня – в том-то и загвоздка. Его всё возбуждает: фигуры, соприкосновение, голоса. Раньше он думал, что всему виной переходный возраст, потом – что попросту надо жениться, а теперь пришел к другому выводу: виноваты гормоны. И эта пытка навсегда. Позавчера смотрит – а прямо под носом чье-то бедро, чуть ли к щеке не жмется. Позавчера он ехал сидя. Смотрит – темнокожая мулатка, широкая в кости, с широкой попой. Пышные фигуры – моя погибель. Знаешь, что главное изобилие скрыто одеждой: горячие дебри лобка и настоящая пещера; воображаешь ее губы, воображаешь ее в позе сверху или на четырех костях, а она вообще с тобой не знакома, она выходит на своей остановке. А вот идет другая, у нее прекрасное лицо, и ее рот вновь и вновь заглатывает мой член; а у третьей – груди, прижимаю к ним свой отвердевший конец, вот так, пусть трется, а потом чувствую ее язык на головке и выше; а у четвертой попа огромная – ну прямо валун, и в ее замочную скважину я тоже вставлю свой бешеный, раскаленный ключик. Моя погибель и в том, что все они разные. В одной мне нравится одно, в другой – что-то второе, в третьей – еще что-то, многообразие форм, так сказать, вчера меня распаляли густые кудри, а сегодня – прямые золотистые волосы и нежный пушок на благоухающем затылке; мне нравится уже не пышная плоть – разонравилась, – а накачанные мускулы, туго натянутая кожа. Его жена второй день болеет, грипп. Сегодня Октавио и вовсе не повезло: руки Илки щупают его, обыскивают. Дыхание Илки овевает его спину. Запах Илки, растолкав легионы других, проникает в его легкие. Гони эти мысли – но разве прогонишь, не могу вывести себя из состояния, когда я не способен прогнать ненужные мысли. Анус сопротивляется его члену, но член не сдается, ни на что не отвлекается, не знает отдыха. Сегодня Октавио пришлось тяжко. Он был вынужден заниматься самоудовлетворением в туалете, манипулировать своим фаллосом, хотя сегодня он спал с женой, а жена у него сексапильная, этого он не отрицает, светленькая мулатка, несомненная сексапильность, великолепные волосы, между ног – вулкан, как не признать, но ею одной он обойтись не может, все восемь лет брака, со дня свадьбы; Октавио вынужден воображать себе то блондинку, то негритянку, то худышку, то толстуху, то деревенскую бабенку; формы нужно варьировать. Однажды что-нибудь стрясется, в один прекрасный день, один шанс на тысячу. Что-нибудь стрясется, к его несчастью.
Октавио и не подозревает, как вскоре повлияет на его судьбу Гном. А пес тем временем пытается завоевать симпатию тех, кто стоит на остановке в ожидании автобуса. По натуре Гном – домашнее животное, потому и пытается набиваться на ласки, «а ну, иди сюда», «дай лапу», «эй, Гномик» и свист, «Гно-о-ом» и торопливое пощелкивание пальцами, «Гно-о-ом» – зовут есть. Кандидата он выбирает неспешно. Пес знает, что вряд ли кому-то понравится, и потому каждый раз все дольше медлит, прежде чем подбежать к какому-нибудь человеку. Каждая попытка завоевать чье-то сердце – это риск. Пес ничего не умеет анализировать, кроме запаха: первое время он выискивал запах, напоминающий о его прежнем хозяине, ходил кругами вокруг человека, пока тот не обратит внимание, и приближался, виляя хвостом, опустив морду, подчеркивая почтительность, смирение, свою собачью преданность. После нескольких неудач стал отдавать предпочтение менее агрессивным запахам – женским. На сей раз он подбирается к рыжей, которая держит в руках термос с кофе. Обнюхивает голые икры, дотрагивается до теплого тела. Женщина рассеянно отстраняется от влажного собачьего носа. Гном лижет пальцы, торчащие из открытых босоножек, и только теперь женщина замечает пса. И пинает его в зад: «Сгинь, псина, сгинь». Гном чувствует, что его колотят и другие, из солидарности с женщиной: «Сгинь, псина, сгинь». Гном скулит, юркнув между ног старухи, «Сгинь, псина, сгинь», и кто-то швыряет в него камнем, попадает в ребро: «Сгинь, псина», и Гном удирает, перепуганный, сначала по тротуару, навстречу машинам, но рядом падает еще один камень, отрезая ему левый фланг, и пес незаметно для себя выскакивает на мостовую, под лапами асфальт, навстречу летит автобус Уэви.








