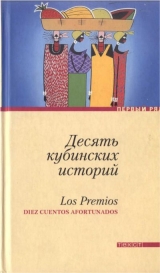
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Единственный раз, когда Мора вошел в ее спальню, он был поражен двумя вещами: широкой, одиноко стоящей кроватью и ароматом духов, наполнявшим комнату. Однако этот запах отличался от аромата ее женского тела. Она никогда не пользовалась ничем искусственным, и я не думаю, что делает это сейчас. То, что гость почувствовал, когда они танцевали, был ее естественный, поразительный аромат. Невероятный запах: плоть на небесах. Или, если угодно, будоражащее истечение самки, вечно перекрывающей выход этой жизненной силе. Эта чувственная эманация подпитывается неудовлетворенным желанием, которое кусает свой собственный хвост и вынуждено удовлетворяться самим собой. Отсюда рождается этот постоянный, волнующий запах ее тела.
Один вопрос показался ему неизбежным. Этим вопросом, а вернее, ответом писателя на него он собирался закончить главу об их с поэтессой взаимоотношениях. Эта часть книги уже почти созрела в его голове, пока Ипполит Мора вел рассказ. Очень точно туда вписывалось все, что ему рассказала Анна Моралес, это было подобие контрастного диалога, некоторые части которого он уже переделал, что-то опуская или описывая подробнее. Пока он решал, каким образом задать вопрос, чтобы Мора не воспринял его как интервью, от которого писатель отказался с самого начала, он вспомнил изречение, вычитанное у Гегеля, примерно следующего содержания: суть трагизма заключается в том, что каждый персонаж прав. Поскольку Анна Моралес отозвалась о последнем романе Ипполита Моры с некоторым презрением, противопоставить этому суждению мнение писателя о ее поэзии явилось бы блестящим завершением главы.
Отвечая на его вопрос, Мора был категоричен:
– Она скорее личность, чем поэт.
Блестящая лысая голова погрузилась в полумрак. Но от этого он не перестал чувствовать себя неуютно, зная, что за ним все равно наблюдают. И ему с трудом удавалось держаться непринужденно. Как бы ему хотелось поменяться с писателем местами. Ему нечем было защититься, он даже не мог затянуться сигаретой, поскольку не курил. Я выдержал его пристальный взгляд и отвел глаза, чтобы хоть как-то расслабиться. Он обратил внимание на такой же, как и сиденье, лакированный круглый столик, заваленный письмами, книгами и газетами. И среди них с радостью заметил уголок своего конверта. Мне тут же захотелось вскочить с места пытки и, вытащив конверт, спросить наконец писателя, прочитал ли он мою работу, но он остался сидеть, надеясь, что в процессе беседы ему представится более подходящий момент.
Когда он поднял взгляд, Мора сидел, наклонившись к нему: на этот раз я заметил, что он очень бледен, под глазами глубокие синеватые круги, а на лице странная грусть. Я содрогнулся. Если его слова о писательском одиночестве показались мне чем-то вроде заученного введения, предлагаемого любому посетителю в качестве некоей защиты от вторжения незнакомца, то когда он произнес слово «смерть», на короткое время, напротив, возникло ощущение исповедальности, особенно после того, как он упомянул об идеальном образе автора, создаваемом другими. И уже без двусмысленности, с поразительной ясностью я осознал: смерть уже совсем близко. Он вспомнил, что его приятель-редактор что-то говорил ему об этом. Испугавшись, он спросил, был ли писатель все еще болен. Ипполит Мора придвигался все ближе, пока не достал до подноса, и принялся разливать чай.
– Добавьте сахара по вкусу. Я пью без сахара. Это зеленый чай, довольно хороший, насыщенный и крепкий.
Он отпил, сделав медленный глоток.
– Это подарок, который мне через Ли периодически передает японский атташе по культуре.
Гость положил себе две ложечки сахара и тоже сделал медленный глоток.
– Да, я болен.
Время от времени, в последние дни все чаще, его дряхлеющее тело подавало ему знаки о приближающемся конце. Пусть она меня поторопит и завершит все не законченное мною. Моя жизнь подходит к концу, вернее, завершает свой цикл. Поскольку временные квоты оказались короче, я гуляю только на балконе, хожу по дому и никого не принимаю. За долгие месяцы вы – единственный человек, которого я принял. Он снова отпил из чашки и поставил ее на поднос. За все оставшееся время нашего разговора он так ее больше и не взял.
– Как жаль вина. Его уже теперь никогда не будет, – воскликнул он без эмоций.
Гость вспомнил слова Анны Моралес относительно склонности писателя к классицизму и ясности. Жертва какой-то особой привычки к подражанию, являющейся одной из скрытых пружин, свойственных его природе, он тоже больше не прикоснулся к ароматному, с насыщенным вкусом чаю. Оба погрузились в молчание, ничего не предпринимая.
– Вы сейчас что-то пишете? – спросил я спустя какое-то время, хватаясь за последнюю ниточку.
Я не очень воодушевил его вопросом. Присутствие писателя, которым я так восхищался, точнее, его отсутствие, незаметные движения его тела, скрип пружин, нога, трущаяся об обивку дивана, – эти мелкие движения и звуки из темного места, в котором он отдыхал, его загадочная манера присутствовать, не присутствуя, препятствовали любому проявлению горячности в рассуждениях. Я произнес несколько банальных фраз. Хотя я не настаивал на развитии темы его болезни, мысленно, с постыдной беспринципностью, я развернул и начал составлять другую, возможно последнюю, главу моего исследования. Он подумал, что существовала разница между восхищением и любовью. Если бы смерть Моры наступила раньше, чем он предполагал, для него это было бы невосполнимой потерей. И невыносимым страданием?
После обнаружения конверта возникло еще кое-что, что мешало ему говорить, – он не знал, прочел ли писатель его критику и каково было его мнение относительно мыслей, высказанных в статье. Может, уже пришло время спросить его об этом? И тут случилось непредвиденное для обоих: сам Мора заговорил на эту тему.
– Как вам мой последний роман? – спросил он спокойным, ровным голосом, даже с легкой холодностью, или, вероятно, ожидая, что ничего нового он не услышит.
Гость поднялся и сделал несколько шагов по комнате в необычайном волнении. Вот и настал долгожданный момент, и сам Мора начал этот разговор. Он был ему за это благодарен. Наконец-то писатель услышит его оценку. Он сделал за меня то – возможно, и не подозревая об этом, – на что я сам не отваживался. Я почувствовал удовлетворение и был готов рассказать ему о моей статье, описать ее, изложить мысли шаг за шагом, даже упомянуть о том, что стал предметом насмешек, вознося ему обильные похвалы… Но я остановил себя: я не был силен в импровизации и красиво выражал свои мысли только на бумаге. Он ограничился тем, что сказал писателю, что интересующее его суждение уже написано. И текст находится совсем рядом. Я подошел к столику и вытащил конверт из-под кучи писем. Он еще не был вскрыт. Растерявшись, я спросил его, читал ли он мою статью. Мора медленно откинулся на спинку дивана. Его лысая голова и часть туловища оказались в полосе света. Гость услышал подтверждение: да, Мора читал статью. Срывающимся голосом, совершенно по-идиотски я переспросил: «Как вы сказали?» Мора пояснил, что прочел ее в самом журнале. Я не понял его игры. Он же спросил мое мнение, а сейчас, снова погрузившись в темноту, неожиданно признался, утверждал, что уже ознакомился с моей критикой. Значит, попытавшись скрыть от меня, что знает содержание статьи, он не хотел обсуждать ее? Зачем же он спрашивал мое мнение? Или мы разыгрывали итальянскую комедию положений? Мора смеялся надо мной? Он застыл с запечатанным конвертом, который был уже ни к чему, и положил его обратно на стол. Побуждаемый внезапным импульсом, которому он мгновенно подчинился, он спрятал конверт под кучей писем. Я почувствовал себя глупцом, полным дураком. Было бы лучше не настаивать, отказаться от своего страстного любопытства. Какой бы чудесный подарок преподнесли ему его души-хранительницы, если бы этот конверт со статьей и его личной подписью испарился… Но эти домашние божки знали его лучше: они видели его тайное желание, чтобы статья дошла до Моры, и исполнили его. Ни за что не надо было отправлять ее почтой, зло сказал я себе, конверт не потерялся, наоборот, прекрасно дошел по назначению.
Голос Ипполита Моры донесся из полумрака. Прочитав статью в одном из номеров журнала, который ему прислали, он попросил Ли выяснить, кто ее автор, прежде ему не известный. То же самое сделала и поэтесса, проговорил про себя гость с пренебрежительным видом. Ли получил довольно полную информацию о нем: множество критических публикаций, умный, очень молодой… Ипполиту Море было совершенно все равно, умный он или нет, это его ничуть не привлекало. За свою жизнь, занимаясь писательством, он научился придавать мало значения уму. То, что это качество так высоко ценилось, являлось одним из предрассудков цивилизованного общества.
Настоящему художнику, сказал он с легким презрением, этот тщеславный и высокомерный господин служит плохую службу. Ум, интеллект не осознавал скрытой жизнеспособности прошлого, далекого или близкого, равно как и того момента, в котором они находились. То, что художнику приходится восстанавливать своими средствами, для интеллекта является лишь мертвым прошлым. Интеллект – этот чрезвычайно логичный, а потому недоверчивый господин – не признает воскресения, а для творческого человека все зависит от возможности воскресения. Мора отдавал предпочтение воспитанной чувствительности. Часто, когда речь идет об уме, под ним подразумевается что-то иное – скорее, сочетание обоих качеств. И поэтому, а также из-за его хорошего стиля и его молодости и еще потому, что Анна Моралес сделала вид, будто посылает его как собственный подарок, писатель решил принять его.
– Ничто из того, что вы сказали, даже если эта речь и была блестящей, не объясняет, почему вы решили скрыть, что знакомы с моей работой, – выпалил гость, все еще недовольный и изумленный.
Осторожно и медленно Мора пояснил, что он наткнулся в тексте на одно совершенно случайное замечание, которое, однако, натолкнуло его на кое-какие мысли.
– Вы говорите о некоей цельности, заложенной в основе всего, что я написал.
– Да, таково мое мнение, – подтвердил гость.
– Я решил, что, если мы встретимся, это может стать темой нашего разговора. Когда писатель молод, у него есть разные предчувствия, – для Моры это представляло дополнительную ценность, – и бывает, когда он пишет, ему не удается выразить их полностью. Но зачастую старому писателю это оказывается тоже не под силу.
Он откровенно, немного иронично рассмеялся над самим собой. Этот взрыв смеха меня порадовал. Он произвел свой первый эффект – немного исправил мое плохое настроение. Его спонтанный хохот, да к тому же направленный в свой адрес, сократил огромную дистанцию, существовавшую между ними, – таков был его дальнейший эффект. Смех нас сблизил, он как будто протянул мостик, по которому я начал переходить на сторону Ипполита Моры. Как случается в таких исключительных случаях, мне захотелось что-то сделать, предпринять что-нибудь, совершить действие, которое бы нас связало… Он осмотрелся: его окружала чуждая обстановка в восточном стиле, слишком большая комната для двоих. Почему бы не потанцевать с Морой, как это сделала бы поэтесса? Он мог бы пригласить его, зажать его бедром, или писатель бы его зажал… Он поискал взглядом, но не нашел ничего похожего на проигрыватель. Его желание стало отчетливее: покинуть заточение этой комнаты, экран оконного проема, в котором постепенно гасли лучи солнца, пройтись по городу освобожденным, пуститься гулять по улицам…
Но это было всего лишь желание, фантасмагорическое желание, он остался сидеть на своем месте, Мора на своем, но он почувствовал себя свободнее и спросил Мору, как тот оценивает его статью. Минуту романист молчал.
– Буду с вами откровенен: она такая же, как и все прочие, за исключением той мысли, о которой я уже упомянул. В вашей оценке нет ничего нового, за исключением поистине прекрасного языка.
– То есть я красиво повторяю все то, что уже было сказано другими.
– Я имею в виду, – подчеркнул писатель, продолжая мысль, – нейтральный голос, такой же, как предыдущие, по причине непонимания.
Мне не удалось скрыть свое неудовольствие. Когда я возразил, интонации моего голоса были гораздо экспрессивнее, чем подобает хорошо воспитанному или хотя бы вежливому человеку. Что это за непонимание? Это правда, что его новый роман, равно как и все прочие, оказывал довольно любопытное сопротивление критическому анализу, но он приложил максимум усилий, чтобы понять этот текст, исследуя его и размышляя над его возможным смыслом. Неужели Ипполит Мора был таким же неисправимым честолюбцем, как и многие другие авторы? Тем не менее, несмотря на свое возмущение, он чувствовал, что его статье не хватало свежести мысли, некоего ключа, которого ему не удалось отыскать, и только сам писатель мог подсказать, где этот ключ. Его слова, которые для меня прозвучали слегка презрительно, вызвали во мне ощущение зависимости, которое я всегда отторгал, как будто критика была лишь суррогатом, создавалась после завершения творения и находилась у него на службе. Создатель этого творения, бог земной, но не менее всезнающий, чем Бог небесный, находился передо мной в полноте всей своей власти, владелец эзотерического знания о своем творчестве, более точного и глубокого, чем мое знание.
Мысль о том, что до сих пор его творчество никем не было понято, не представляла никакой ценности и совсем не утешала его. Он хотел понять и не собирался отказываться от своего страстного намерения. Разве не для этого он жил? Ипполит Мора вдруг начал заверять, что не хотел его задеть или обидеть. С горделивым видом я покачал головой. Его рука показалась из полутьмы и повисла, не дотянувшись до него, в знак примирения или просьбы. За этой рукой, написавшей столько драгоценных страниц, я наблюдал весь вечер. Металлический тон его голоса, изменив интонацию, стал глуше.
– Я хотел сказать вам, что многие критические статьи оставляли меня безразличным, некоторые из них я едва просматривал, другие внимательно изучал.
Ни разу ни одна из них не затронула его, а это значило, что он был уже стар и болен. И прежде чем умереть, ему бы хотелось, чтобы гость выслушал его.
– Возможно, у меня не получится ясно об этом сказать. Я написал сотни страниц, чтобы объяснить это или, по крайней мере, постараться выразить эту мысль. Я хочу подсказать вам дорожку, чтобы вы нашли путь к сокровищу. Разве не существует в каждом крупном писателе какая-то недосказанность, которую он пытался выразить, недосказанность, погребенная на страницах его произведений? Я не хотел ничего зарывать, но тем не менее есть что-то скрытое.
– Думаю, да, – ответил я наугад.
Я слушал его в состоянии чрезвычайного напряжения, внимательно, слегка недоверчиво и восхищенно. Никогда ни один писатель не говорил с ним таким образом, предлагая ему быть соучастником.
– Без этой явной тайны, – продолжал романист, – невозможно писать. По крайней мере, я бы не смог.
Он заметил в нем одно необычное проявление чувства, схожее с тем, которое, как казалось гостю, он тоже испытывал, оно держало их в непонятном состоянии, и они внимательно наблюдали друг за другом. Писатель выдвинулся из полутени, из уютного полумрака, и оба они были готовы поймать момент, схватить его дрожащими пальцами. Казалось, мы, скорее даже он, чем я, вот-вот прикоснемся к чему-то неизъяснимому.
– К оборотной стороне сюжета.
Его ответ показался мне превосходным. Я выдержал почти священную паузу. Однако через некоторое время его логические механизмы начали давать сбой. Та, вроде бы окончательная фраза требовала разъяснений. Если слово «оборот», а точнее, «изнанка», сказал он, придавая ему более современное звучание, тут же разрешало проблему, о какой изнанке шла речь? Слово «сюжет» он мог понять, этот термин был менее загадочным. Русские формалисты называли сюжетом то, о чем рассказывается, то, что потом другие стали именовать фабулой, структурой повествования. Мора подразумевал под этим словом течение, развитие всего романа.
Но эта фраза требовала, и именно у меня, другого: чтобы я перевернул то, что было написано им, поставив все наоборот, и, сделав это, присмотрелся. Сам того не желая, он вспомнил строку, восхищавшую его с тех пор, как он впервые ее прочитал: «Его великолепная линия жизни, прекрасная нить». Возможно, они как раз разглядывали эту великолепную жизненную линию, прекрасную нить, которая казалась основой линии жизни или тем, из чего был сплетен жизненный путь. И в таком случае нить являлась изнанкой. После переворачивания сюжета что оставалось? Об этом он спросил его после продолжительного молчания.
– А это уже должен найти критик, – ответил он с поразительной уверенностью.
В этот момент вошел Ли и зажег одну из больших свечей.
– Уже стемнело, – произнес он, словно встреча была завершена.
Он подошел к дивану, и гость едва смог различить, как оба направились в глубину комнаты. Дверь открылась, и они исчезли за ней. На несколько секунд я остался один, затем Ли появился снова. Он проводил меня до дверей. Прежде чем закрыть за мной дверь, он протянул мне крошечный, чистый белый конверт.
– Это от него, – сказал он и мягко прикрыл дверь.
Эта сцена была очень похожа на мой уход от Анны Моралес. Но поскольку на этот раз не было поэтов, с которыми надо было церемонно прощаться, он тут же вскрыл конверт. В нем лежала визитка с позолоченными уголками. Среди китайских узоров он прочитал слова, написанные рукой романиста: «Оборотной стороной могут быть два или три слова». Вместо подписи стояла лишь первая буква его фамилии.
Больше я его не видел. Он умер несколько дней спустя после нашей встречи.
Педро Де Хесус
Праздник в доме мэтра
© Перевод С. Силакова
Есть способ побега, похожий скорее на поиск.
Виктор Гюго
Сегодня мне представится удовольствие и счастье разнообразить твой вечер. Мэтр. Как мне не знать, что иногда ты вообще отказываешься готовить, а голод кое-как утоляешь остатками вчерашнего ужина. Как мне не знать, что приготовление пищи для тебя – праздник; в противном случае ты опускаешь руки. А праздник, Мэтр, требует, чтобы другие чувствовали взаимное влечение, или думали, будто чувствуют, или притворялись, – кто, как не ты, искушен в подобных градациях влечения.
Праздник требует, чтобы гости нервно расселись на табуретах и, соприкасаясь бедрами, запуская пальцы ниже спины, угощались жареной картошкой с огромного блюда – в твоем меню это легкая закуска, только червячка заморить.
Праздник диктует, чтобы ты неусыпно следил за соусом, который готовишь для цыпленка à la ville roi,но все-таки поглядывал, как Зараза расстегивает ширинку тому, кто утверждает, что зовется Мускулом и вырос в Камагуэе. Ты кладешь в рот ложку риса, удостоверяешься: рис готов, а Зараза в этот самый миг, преклонив колени, чуть ли не давится. У тебя дивный праздник, праздник, Мэтр: нарезать спелые помидоры почти одинаковыми кружочками, упиваться колоритом тщательно нашинкованной капусты, зеленых полосок перца и оранжевой, как пыль пустынь, моркови, которую ты блаженно натираешь на терке, благословляя изысканную радость посыпать ею всю пеструю композицию.
Воображать стол – рог изобилия, стол, где сервирована манна небесная, – уже праздник. Волшебно светятся чаши и тарелки, превращенные в чаши твоим талантом, твоей самоотверженностью. И всем праздникам праздник, Мэтр, – момент, когда вечер начинает приобретать свой главный смысл. Час сливочного масла.
Ты достаешь из холодильника миску с морожеными сливками, которые снял с молока только сегодня. Это сигнал. Сливки чистые, от голштинской коровы, говоришь ты; а гости перебираются с табуретов на большую кровать; маленькая кровать ближе к двери – для тебя. На свою кровать ты садишься, вооружившись ложкой и кувшином, чтобы сбивать сливки.
О Мэтр, нет на свете ничего сладостнее и таинственнее, чем самому делать сливочное масло.
Размягчить белую строптивую массу. Сделать так, чтобы присмиревшее, комковатое вещество вновь затвердело и отбросило конформизм. Не щадить, подавлять сопротивление; давить, пока из нутра массы не брызнет жидкость, которая поступится первозданной белизной, начнет приобретать кремовый, желтый оттенок. Добавить воды, омыть массу, словно исторгнутая белизна не удовлетворяет твоей жажде очищения, требовать еще, еще, еще, пока не выжмешь все до дна.
Твое дело – сбивать масло, Мэтр. Нет на свете ничего сладостнее и таинственнее, чем самому делать сливочное масло.
Итак, садись и взбивай. Переводи масло из одного состояния в другое, ритмично, вторя ритму Заразы и Мускула.
У кровати Зараза нагибается. Правой рукой опирается о край, левой раздвигает ягодицы. Смысл Жизни Мускула, наполовину вставший, вдруг, точно по волшебству, ныряет в отверстие. Зараза с непроницаемым лицом терпит таран за тараном. Декламирует, опустив голову, сощурив глаза, извечный ассортимент сладостей: «У тебя самый большой», «У тебя самый лучший», «Ах ты мой самец», «Миленький, я твоя навеки».
Мускулу нравится смотреть, как движется его Смысл Жизни.
Никто, даже ты, о Мэтр, не зрит тайны мистического претворения сливок в масло. Ты, как автомат, работаешь ложкой, уверенный в закономерностях процесса взбивания, игнорируя частные особенности этих конкретных и уникальных сливок, которым не даешь покоя неустанно.
Зараза выводит Мускула из нарциссической задумчивости, предложив другую позу. Он покоряется, вытаскивает Смысл наружу. Сидя на углу кровати, откидывается назад, чтобы Зараза языком очистила Смысл от своих испражнений, а потом пососала, пусть то появляется, то исчезает; сам же Мускул наслаждается зрелищем, подложив под голову подушку, которую случайно нашел и по наитию свернул вдвое.
Но Мускулу становится скучно: Зараза заглотала Смысл целиком, видно только, как пышные волосы этой обжоры монотонно трясутся, точно от болезни Паркинсона. Лучше уж приказать, чтобы Зараза не брала глубоко в рот, пусть только вид делает. Тогда взор Мускула усладится чудом: его Смысл близок то к гибели, то к воскресению; смерть, оживление, вновь смерть, вновь оживление – через эту череду событий открывается Бог.
Нет на свете ничего таинственнее и сладостнее, чем делать масло самому, Мэтр. Ничто не сравнится с мигом, когда не глядя (ты можешь и не глядеть), когда своей опытной, чувствительной рукой ты ощущаешь: трансмутация вот-вот свершится, еще одно движение – и сок, благословенная живица, польется в миску.
А значит, замри, Мэтр. Мускул требует, чтобы Зараза села на него; она снова поворачивается и, напяливая себя на Смысл, притворяясь, что никак не получается оттого, что он ей якобы велик, внушает Мускулу: она накручивается на него гайкой, и он, болт, ее имеет, пусть ни в чем не сомневается. В отличие от тебя, Мэтр, Зараза не может остановиться. Зажмуривается, голова запрокидывается, руки напрягаются. Отстраняется, сгибается, корчится. Из ее обмякшего органа льются, пачкая пол, густые бели.
Ей не остановиться, Мэтр. Ей надо продолжать, хотя она вся обмякла, с каждым тараном чувствует себя все более обмякшей и отстраненной, и непонятное раздражение, то ли раздражение, то ли пыл, порой нашептывает ей: «Перестань, хватит».
Но теперь-то она ни за что не остановится. Начинается ее апофеоз: она изображает плач, с новым пафосом декламирует ассортимент сладостей; умоляет Мускула: «Побей меня. Убей меня». Он притворяется, будто ничего не понимает, – знает, что мольбами она хитроумно побуждает его кончить. Зараза вся трясется, искусно, изощренно; настаивает: «Не давай мне спуску, лупи меня, что есть мочи, ты мой самец, ах, вставь мне, чтоб я умерла, миленький, убей меня, одного хочу – умереть с тобой внутри».
У болта помрачается рассудок. Приподнявшись на локте, он бьет ее кулаком под ребра – «Прекрати, сука, балаган», – чтобы умолкла. Но гайка – «Ой, мама дорогая, видела бы ты, дорогая мамочка, как мой муженек меня лупит» – с мученическим видом сгибается пополам – «Ой, мамочка», – упираясь ладонями в пол, извивается, как акробатка, замирает, вынуждает его замереть. «Еще, еще, мало, еще побей меня, Мускул, пусть мамочка посмотрит, как муж меня дерет, ай, дерет и хлещет».
Мускул откидывается на спину, достает из кармана сигарету, закуривает, приподнимается. Озлобленный и беспощадный – ему больше не до самолюбования, настроение пропало, – он повинуется: остервенело входит в Заразу, при каждом движении обжигая ей спину.
Ничто на свете, Мэтр, не может сравниться с тем, о чем ты мечтаешь: твоя рука с ложкой надавливает на массу в последний раз; и вот оскал на лице, лучащийся усталостью и ликованием; гримаса торжества, которой Зараза – слезы на ресницах, тело вспотело, расслабилось, настроена вот-вот затеять свару – добивается от Мускула, требуя загробным голосом: «Сделай мне ребеночка, ребеночка».
Мускул отстраняется и пихает Заразу; измочаленная, точно налитая свинцом, она падает на пол. Подталкивая босой ногой, он размещает ее на полу по своему капризу: хочет видеть целиком спину, которую подпалил, сжимать Смысл, доить его, созерцать то, что брызжет на ожоги: это его собственная жидкость, его и только его Эманация.
Твое дело, Мэтр, сбивать масло; рассматривать жидкость в миске, в сотый раз удостоверяться, что белизна пожелтела, а комки растворились. Ты молча указываешь рукой на дверь ванной – мол, идите мойтесь, а сам – в гостиной-столовой-кухне – подливаешь воды, и выплескиваешь, и снова подливаешь воды в масло, точно исторгнутая белизна не удовлетворила твоей тяги к очищению.
Когда сотрапезники вымоются, ты накроешь на стол, расставишь все тарелки и чаши, разложишь столовые приборы. Мне ли не знать, что готовить пишу для тебя – праздник; иначе ты бы этим не занимался. А праздник, Мэтр, требует, чтобы другие – Зараза и Мускул – испытывали взаимное влечение, или думали, что испытывают, или притворялись.
Приятного аппетита!








