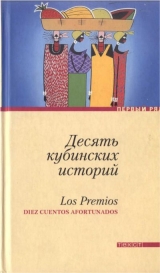
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
– Раз мне не удалось удержать вас, вы мне ничего не должны, – сказала поэтесса и протянула ему листочек.
Наконец-то он был в его руках. Бумага была тонкой, и сквозь нее просвечивало какое-то темное пятно, в тот момент он не мог определить, что это было.
– Вы можете идти, – добавила Анна Моралес с долей высокомерия.
Он хотел развернуть листочек, но она резко оборвала его движение:
– Сделайте это в другом месте.
Она повернулась к нему спиной и пересекла зал, исчезнув за дверью в глубине комнаты. Он едва различил сиамского кота, который проследовал за хозяйкой с кошачьим проворством.
Не важно, показалось ли все это или произошло в действительности: листочек бумаги пульсировал в кармане моей рубашки, напоминая о своем явном присутствии. Это биение требовало, чтобы я развернул его немедленно. Чего я ждал? Поэтесса удалилась, а никто из ее гостей не стал бы настаивать, чтобы я исполнял ее приказания. Но, сообразно со свойственными ему реакциями, чем скорее ему хотелось что-то сделать, тем спокойнее он становился: такому спокойствию позавидовал бы сам Ипполит Мора, если бы знал о нем. И что же он предпринял? Он не стал тут же уходить. Спокойно и церемонно он простился с гостями с выражением нескрываемой насмешки на лице, чувствуя в кармане беспокойную пульсацию листка. Как настоящий английский лорд, он выразил благодарность за то, что они согласились на его присутствие на поэтическом состязании. Я пожал руку нескольким участникам вечера с такой элегантностью, которую они, впрочем, возможно, и не заметили – выпитый ром начал оказывать на них свое летальное действие. Я взял пакет, спрятанный под стулом, и ушел с вечеринки, на которой никто так и не догадался о его содержимом.
За ним закрыли дверь на два оборота ключа. Этот презрительный звук за его спиной обострил чувство страха, что его обманули, что на листочке нет номера телефона и он не сможет вернуться, чтобы узнать его, что все это было заранее спланированной хитростью поэтессы и темное пятно было просто пятном, насмешкой, словом, непристойным изображением. Внезапно остановившись, он вынул листок и развернул его. Счастье обуяло меня, как только я убедился, что не был обманут. На листке был написан номер телефона. Пятно оказалось ложным: номер был написан толстым черным косметическим карандашом, который Анна Моралес, возможно, использовала для подводки глаз. Я положил листок, как предмет культа, обратно в карман своей индийской рубашки. Расстегнув брюки, он поудобней расположил в трусах свой орган, тщательно заправил рубашку и застегнул брюки. Из-за двери снова зазвучало то же болеро. Возможно, поэтесса, исчезнувшая, как свергнутая с престола королева, вернулась из ссылки, чтобы запереть за ним дверь и начать танцевать с гостями своего привычного круга. Прыгая от радости, он спустился по лестнице. На улице встретил своего редакционного коллегу. Накинувшись на него, он начал кричать:
– С чего ты взял, что Мора придет в этот притон? Он уже много лет там не появляется, ты, кидала.
– Как, разве Мора не был там главным? – улыбаясь, поинтересовался приятель. – Кончай со своими глупыми шутками.
И редактор, пытаясь выкрутиться из неприятной для него ситуации, спросил с намеком:
– А как тебе поэтесса?
– Старая эротоманка. Довела меня до эрекции, прижимаясь ногой.
Редактор расхохотался:
– Как ногой? У нее же протез, и рука ненастоящая, и глаза стеклянные… Какой же ты рассеянный! Ты возбудился от реквизита, недостойного старой дамы Клары Цаханасян [12]12
Клара Цаханасян – героиня пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».
[Закрыть]в городе Обжорства… Тебе вредно встречаться с этой малышкой актрисой.
– Тебе во всем видится театр. – И он победоносно извлек из кармана листок. – Отгадай, что это?
– Счет из китайской прачечной?
– Представь себе – это телефон Моры.
Приятель воспользовался ситуацией, чтобы замазать свою оплошность:
– Вот видишь! Я направил тебя туда, где ты смог получить нечто нужное. – Казалось, он хвастался, довольный собой. – А потом, посмотри на меня, я весь взмок, пока бежал сюда, чтобы сообщить тебе грандиозную новость. Мора болен.
– Тебе сообщили об этом те же, кто меня подставил?
– Нет, на этот раз источник достоверный. Раз у тебя есть его телефон, ты сам сможешь в этом убедиться.
Остаток ночи он провел без сна. Он бродил из угла в угол, не гася свет, нетерпеливыми шагами человека, который жаждет, чтобы ночь поскорее кончилась и наступил рассвет. Он взбивал подушки и поправлял простыни на кровати, на которую даже не присел. Пару раз он зашел в туалет, чтобы опорожниться слабой струйкой. Взглянув на себя, он проговорил:
– Ты возбудился от протеза священного монстра. – И спрятал бесстыдное животное.
Он вышел на балкон, стояла уже глубокая ночь. Он облокотился на перила и, как бы играя, перекладывал священный листок из одной руки в другую, разворачивал его, притворяясь, что пытается заучить номер телефона, который на самом деле давно уже повторял наизусть по нескольку раз, чуть ли не напевая его. Затем он отрывал глаза и глядел в неподкупную, непокорную ночь. Он ничего не мог сделать, чтобы ее абсолютное господство наконец закончилось.
Над крышами обветшавших, выцветших, грязных, полуразрушенных зданий в привычное время наступит утро. Сидящие на крыльце полуночники, осипшие от выпитого или от бессонницы, переговаривались и время от времени гоготали. В пиццерии напротив желтоватым светом горела лампочка, оповещая, что заведение еще открыто. У двери стояло припаркованное велотакси, «паланкин», так его называл персонаж одного из романов Моры. Он произнес это название, чтобы доставить себе удовольствие воспоминанием о любимом герое.
Вернувшись в комнату, на этот раз он лег на спину, растянувшись на кровати. Выстроенное в одну линию, на полке вдоль противоположной стены расположилось все собрание сочинений Ипполита Моры. Он перечислял названия, указывая пальцем на каждый том. Его не столько волновало, что он провел бессонную ночь, сколько то, что днем он будет чувствовать себя уставшим. Когда рассвело, он принял холодный душ. Сняв одежду, он взглянул в зеркало на тело, которое так восхваляла поэтесса. Он не станет надевать ничего особенного: ни индийской рубашки, ни льняных брюк.
– Они принесли мне неудачу, – сказал он, подмигнув.
Он оделся, как будто начинающийся день был одним из самых обычных. Выпил апельсинового сока и очень рано пришел в издательство. Дождавшись часа, который он счел удобным для звонка, он набрал номер. Никогда в жизни он так сильно не волновался, прислушиваясь к гудкам в трубке.
– Как только ему станет лучше, он вас примет, – пообещал мужской голос на том конце провода.
Я предположил, что это секретарь Моры или его помощник. Мысленно он возблагодарил своих духов-хранителей: впервые информация, которую сообщил ему редактор, оказалась правдивой.
Это обещание он получил после своей долгой, сбивчивой речи, во время которой он боролся с собственной застенчивостью и неумением говорить. Он хорошо писал, но абсолютно не умел произносить речей.
Я выразил тому незнакомому голосу свое восхищение талантом Ипполита Моры и огромное желание познакомиться с писателем лично.
В своей торопливой речи он упомянул, что написал панегирическую статью – на этом напыщенном слове он пару раз запнулся – и опубликовал ее в лучшем журнале Гаваны.
Тому голосу удалось вставить несколько односложных междометий, но, когда скорость его речи достигла апогея, на другом конце провода наступила полная тишина. Она была настолько глубокой, что по временам я спрашивал, слышит ли он меня, боясь, что связь прервалась или что повесили трубку. Мне удалось справиться с волнением. На том конце повторили, чтобы я дождался, пока писатель поправится.
Тот голос снова предлагал мне подождать, но на этот раз – после всех моих прежних ожиданий – у меня было, по крайней мере, обещание о встрече. Темное пространство, отделявшее его от писателя, начало понемногу сокращаться и светлеть. Он почувствовал себя спокойнее, зная по опыту, что дни пройдут. В этом очередном ожидании я ограничился наблюдением за проходящими днями. «Пока Мора не поправится». Пока писатель выздоравливал от болезни, о которой ни он, ни большинство людей не знали, равно как и о многих событиях жизни Моры, он занялся изучением его романа, делая кое-какие записи.
Если бы наша встреча все-таки состоялась, после нее я планировал написать обширный критический очерк, развивая идеи и понятия, намеченные в статье. Через некоторое время его амбиции возросли. Мучившие его неисследованные загадки в произведениях Ипполита Моры и в его личной жизни требовали создания исчерпывающего труда. Обе эти тайны заслуживали книги и, казалось, требовали ее написания, и он был готов взяться за это. И статья, и очерк становились тем самым предварительными исследованиями для его будущей большой книги. У него уже было несколько документов, размытые фотографии…
Он решил, что книга будет в некотором роде анахроничной, как чистая рубаха-гуайавера писателя. В ней он соединит биографическое повествование с литературным анализом – этот метод, сейчас почти забытый, использовал в свое время критик Сент-Бёв. Ему предстояла серьезная, воодушевляющая работа, которая к тому же требовала изменения стиля письма, а следовательно, и изменения его личности. В своей будущей книге в одной из объемных глав он затронет тайную связь писателя с Анной Моралес. Что из ее слов окажется правдой? Правдой или оправдательной фантастической выдумкой?
Тяжелая работа, которая ему предстояла, привела бы к публичному раскрытию творчества и личной жизни Ипполита Моры, до того момента никому не известных.
– Каждый уважающий себя критик, – сказал он, подбадривая себя, – обязан излагать все своему читателю ясно и достоверно.
Когда он рассказал об этом проекте, его коллега-прорицатель был поражен.
– Тебя опубликуют за рубежом, переведут твою книгу, а после смерти романиста ты заработаешь кучу денег.
Возможно, втайне он лелеял эту мысль, однако она не была для него единственным стимулом, в этом он ясно отдавал себе отчет. Зарабатывание денег на результатах исследования любимого произведения не было оскорблением или позором в том случае, если бы явилось простым следствием работы, а не основной целью. Меня не терзали моральные страдания или мучения, вызванные подобными мыслями.
Двадцать один день спустя, отсчитанный один за другим, тот же голос по телефону назначил ему встречу на следующий вечер.
Ипполит Мора расположился на некоем подобии дивана бледно-лилового цвета, напомнившего ему цвет губ поэтессы. Он сидел, вытянув ноги, с высоко поднятой лысой головой, посаженной на широкую шею, словно древнеримский бюст, с резко очерченным в полутьме профилем.
Когда я вошел, он протянул мне руку для приветствия, которая так и замерла в воздухе, не пожав моей. Это была маленькая рука с короткими, очень аккуратными пальцами и легким пушком и, как я заметил, слегка нерешительная. В часы, проведенные в жажде встречи, он представлял себе его руки с длинными властными пальцами, эдакими ловкими щипцами, которыми он сражался с упрямыми словами.
Он пригласил меня сесть на восточного вида пуфик, низкий, без спинки. Его диван стоял у окна, через которое в комнату проникали последние вечерние лучи, и против света едва ли можно было различить движения писателя. На меня же, напротив, падал весь скудный свет комнаты. Я предположил, что так было задумано: вместо того чтобы за ним наблюдал я – что я и собирался сделать, входя в комнату, – получалось, что наблюдать за мной будет он. Его слова это подтвердили.
– Вы очень молоды, – услышал я его голос с явными металлическими, слегка высокомерными нотками: видимо, таким образом Мора пытался создать впечатление, что держит себя в руках.
И опять, как на вечере у Анны Моралес, проявлялось это досадное повышенное внимание к моей молодости, как будто бы никакими другими достоинствами я не обладал. Но писатель, по крайней мере, не стал упоминать о его так называемой красоте, которую восхваляла поэтесса. Он думал, мечтал, что Ипполит Мора примет его в своей чистенькой гуайавере, но снова ошибся: Мора был одет в старую выцветшую рубаху и черные брюки, и то, и другое широкого покроя.
Его одежда, в особенности брюки, перекликалась с обстановкой комнаты, где стояла китайская мебель, покрытая блестящим черным лаком с инкрустацией из слоновой кости. Он с удивлением разглядывал абажуры из красной ткани, высокие синие вазы, кинжалы и бумажные веера на стенах, расставленные по полу и столам канделябры и большие свечи, пахнувшие ладаном, сандалом и цикломеном. По правде сказать, ни одно из произведений писателя не выявляло его глубокого интереса к предметам восточного интерьера. Кажется, мои ожидания от только что сделанного открытия с намерением произвести новые исследования, которые пригодятся для будущей работы, были раскрыты Ипполитом Морой. Он проговорил, как бы объясняя:
– Мой любовник страстный любитель всего китайского.
Он не понял, что его удивило больше: неожиданное увлечение китайскими вещицами или то, что разговаривавший с ним по телефону мужчина оказался не секретарем или помощником, а любовником. Когда на меня сваливается сразу несколько удивительных открытий, мне иногда очень сложно определить важность и значение каждого из них в отдельности, удельный вес, как сказал бы химик.
И в этот момент, словно для того, чтобы рассеять его оцепенение, вошел любовник, поздоровался и поставил на столик поднос с чайником и двумя чашками, разумеется китайскими, и удалился, сделав неопределенный жест, наподобие гейши, так, по крайней мере, расценил его гость.
– Чай заварится через пять минут, – предупредил он.
Я заметил, как Ипполит Мора улыбнулся. У него были красивые, крупные зубы. В его улыбке была особая нежность, как подтверждение некоего семейного ритуала, существовавшего между ними.
Выходя, любовник на секунду задержал на мне взгляд, между ног, я машинально опустил глаза и обнаружил бутылку вина, которую я поставил туда, когда садился, и о которой я напрочь забыл. Я заточил мою посланницу между ног, сказал я про себя, подтрунивая над тем, что забыл совет приятеля-редактора.
– Это подарок, – признался он спешно, поднимая бутылку вверх до уровня лица Моры.
Он захотел рассмотреть подарок, и его рука появилась из скрывавшей его полутьмы.
– Передай-ка его мне.
Любовник протянул бутылку Море. Не дожидаясь, пока Мора ее развернет, и не проявляя ни малейшего любопытства к подарку, который получил его партнер, он удалился, оставив нас одних. Из полутьмы послышался тихий шелест бумаги, и следом возглас радости.
– Мое любимое, – услышал он затем и заметил отблеск бутылки: писатель выставил ее в полоску света. – Рубиновый цвет с отливом охры. Я слышу аромат диких трав, чувствую вкус красной смородины и черники. Как его старательно выдержали: шесть месяцев в дубовой бочке.
Он протянул ему бутылку с просьбой поставить ее на столик рядом с чаем.
– Открыть ее? – предложил я с намерением поднять тост.
Писатель совсем не хотел принижать ценность его подарка, достать который наверняка стоило ему неимоверных усилий, но красное вино стояло на первом месте в длинном списке запретных для него удовольствий. В голове гостя пронеслось воспоминание о потраченных сбережениях, очереди в обменный пункт, о том, как он скрывал бутылку, находясь в доме поэтессы… Все это осело за стенками безразличного зеленого стекла бутылки, которую Море запретили вскрывать. Он попытался успокоиться. «Разве оно не было дорогим подарком, прекрасным посланником, выращенным в старинных виноградниках? Тем оно и осталось: напоминанием о прошлых удовольствиях. Возвышаясь на столике, оно было немым участником нашего разговора», – воскликнул писатель своим ясным звучным голосом. На секунду, по его небрежности, мне удалось увидеть его лицо, возникшее из полумрака и наклоненное ко мне. То было лицо старика, но что-то несокрушимое и, возможно, бессмертное отражалось в нем.
– Вам наверняка говорили, – вернулся он к разговору, снова погрузившись в тень, – что я веду жизнь затворника, редкий экземпляр в центре суетного, бурного города.
Казалось, он снова угадал. Гость признался, что именно так образованная часть города представляла себе его жизнь.
– Отчасти это сплетни, как и многое другое, что болтают о моей жизни и моем творчестве.
Он чувствовал себя окруженным пересудами, являясь скорее выдуманным образом, нежели реальным человеком.
– Я знаю, что в конце концов имя писателя становится тайной. Когда придет час смерти, который уже осторожно подбирается ко мне, я не смогу защититься, и будет бесполезно пытаться сделать это: вокруг моего имени будут царить сплетни. И тогда я стану притчей.
Из-за двусмысленности в его интонациях мне не удалось определить, говорил ли он серьезно или шутил. Неожиданным движением, словно предчувствуя близость исповеди, я вытащил свой маленький диктофон и, поставив его на стол, нажал на старт. Красная лампочка дерзко ворвалась в сумрак комнаты. Аппарат был японского производства, и, усмехнувшись, он подумал, что тот вполне вписывался в обстановку комнаты.
– Можно? – спросил он.
Писатель поинтересовался, не рядом ли с бутылкой вина он поставил диктофон, гость кивнул, полагая, что романист готов разрешить запись.
– Выключите его, – приказал он внезапно. – Наш разговор – не интервью, а встреча. После этого вечера будет еще много возможностей записать все, что вам угодно. Дождитесь этого момента.
Гость удовлетворил его просьбу, выключив диктофон.
– Я отстаиваю свое право на одиночество, хотя уже давно знаю, что это иллюзия и даже больше, чем иллюзия.
Он был уверен, что это желание одиночества являлось несбыточным, невыполнимым ни для мужчины, ни для женщины – в интонации его голоса появился оттенок иронии, – эта невозможность, которая определяет человеческую жизнь, такая же, как стремление к бессмертию или вера в постоянство любви. Постоянство или долговечность? – рассуждая, проговорил он. В его жизни, равно как и в творчестве, был переломный этап – тут гость вспомнил, что Анна Моралес определила этот этап как драматический период, когда писатель почувствовал необходимость отдалиться от многого, точнее, порвать с очень многими вещами и привычками окружающего его тогда мира.
– С комнатой со стенами из пробкового дерева, например, – снова намекнул гость, с тем чтобы Мора понял, что он тоже в курсе.
Да, но Марсель иногда оставлял его одного на ночь и возвращался утром.
– Я не пытаюсь, – прояснил он вдруг, – предложить самый верный метод. Каждому писателю придется изобрести или найти свой. Моим было бегство.
Он сбежал, унося с собой все, и бегство помогло ему разглядеть в каждой вещи, которую он взял с собой, новое богатство. Возможно, это ощущение ценности родилось благодаря дистанции.
– Пять лет я провел в странных скитаниях по комнате, забывая то, чему я научился, чтобы потом, в одиноком возвращении, вспомнить все снова, но в другом измерении. Это был медленный и сложный процесс забывания, который тем не менее оказался очень плодотворным.
Ежедневно он учился всматриваться в свои сокровища. Темные операции, медленный труд, зарождение неизвестного, инертность, муки ожидания… Он спал, как в коконе, как подросток. Он позволял формироваться чему-то отличному от прежнего, тому, на что он уже не будет похож… Он научился пить много вина, не пьянея… Это была прекрасная компания с цветом и ароматом неизведанных лесов… Чего я ожидал? Я надеялся возродиться и возродился. Он начал писать романы. Он спал на земле и расцветал, как расцветает возрожденная природа. Больше никогда он не появлялся на вечерах у Анны Моралес. Она тоже принадлежала к его прошлому, заметил гость, позаимствовав эту фразу у поэтессы. Она ему что-то рассказала об этом? Без сомнения, Ипполит Мора был в курсе, что он присутствовал на вечере.
– Кое-что она мне рассказала, – признался он, несколько озабоченный.
Причина его беспокойства заключалась не в том, что тот ходил на поэтические чтения, его заботила пресловутая всемогущая молва Гаваны. Каким образом Ипполит Мора, ведущий отшельнический образ жизни, мог узнать об этом? Его волновало не то, что он присутствовал на вечере, а тот факт, что писатель был в курсе. Анна Моралес никогда не звонила ему по телефону, и ни один из приглашенных ею поэтов не осмелился бы сообщить писателю эту новость.
– Как я об этом узнал? У меня для вас сюрприз, – предупредил он его вдруг. – Мне позвонила Анна, спустя пятьдесят лет.
Казалось, он догадался о причине моего беспокойства.
– Она сообщила, что вы придете ко мне как-нибудь, после того как я поправлюсь. Он безумно жаждет познакомиться с тобой. По телефону ее голос звучал язвительно. Я никогда не отвечаю на звонки и не подхожу к телефону, но когда Ли сказал мне, что это Анна, я не смог удержаться.
Пятьдесят лет, прожитых без общения и встреч, не слыша голоса друг друга, превратились и слились в душе Ипполита Моры в комок энергии под названием Анна. Он встал и подошел к телефону. Из трубки до него донесся ее голос, хрипловатый от волнения. Как в прежние времена, словно он стоял перед ней, в ее голосе появилась хрипотца. Анна попросила, чтобы он нарушил свое уединение и принял его, и представила все таким образом, будто это она направляла его к нему, как драгоценный подарок, отказываясь от него, тогда как Мора знал – ведь Анна сама только что ему об этом сказала, – что будущий гость страстно желает с ним познакомиться.
– Я пропустил мимо ушей это скрытое высокомерие, не столь важное после нашего длительного разрыва; мы говорили недолго. Мы слышали дыхание друг друга: телефонный аппарат снова сблизил нас.
Прервав молчание, оба поспешно извинились.
– Мы попросили друг у друга прощения, не осознавая, что прошлое являлось именно прошлым – несокрушимым камнем или железом, и у нас не было возможности проникнуть в него. Наши желания склонны приписывать себе огромные, бесчисленные полномочия.
Им удалось простить друг друга, и, взволнованные, они пообещали никогда больше не встречаться. Прежде чем рыдания заглушили бы их голоса, они закончили разговор.
– Не говорил ли я вам пару минут назад, что одиночество является одним из наших несбыточных желаний? Вот вам результат. Жизнь так прилипчива.
Казалось, что и их беседа завершена: в течение неопределенного времени они молчали. Гость чувствовал, что старик писатель наблюдает за ним из своей полутьмы, ожидая, что что-то произойдет. Он заметил неожиданное движение: Мора взял один из своих миниатюрных кинжалов и, обхватив его за рукоятку, начал тыкать острием в ладонь. Вскоре он прекратил эту странную игру. Клинок кинжала, запущенного писателем, пролетел над чайным сервизом и завис в воздухе, совсем рядом с гостем. Их беседа возобновилась вопросом, как бы подчеркнутым лезвием кинжала и который гость услышал с ошеломлением:
– Она зажимала вас ногой?
Было очевидно, что в свое время они находились в близких отношениях. Вполне вероятно, что поэтесса не преувеличивала и они даже были любовниками, но гость решил ответить так, как будто бы бедро Анны Моралес все еще сжимало его между ног. Он не хотел врать ни писателю, ни себе. Он ответил, что да, и это прозвучало даже с долей бесстыдства. Это утверждение означало, что и он тоже обнимал ее, сжимал ее талию. Кинжал стукнулся о стекло бутылки, когда Мора положил оружие на столик. Рука и часть его лица скрылись в тени, в пещере, в материнской утробе…
– Когда ей нравится или интересен мужчина, – сказал он угрюмо и слегка отстраненно, – она всегда использует одну ту же тактику. Я думал, что время сможет… Но сейчас вижу, что нет. Ничего в ней не изменилось, и даже страсть к танцам не угасла. Танец был ее особой манерой общения с телом мужчины.
В то время, когда они познакомились, они устраивали вечера для двоих, никого больше не приглашая.
– Мы читали друг другу свои стихи, правили их и снова зачитывали вслух. В какой-то момент Анна Моралес, казалось, начинала задыхаться, охваченная непонятным жаром. Вытирала платком жаркий лоб, проводила им по пылающей, как огонь, груди. Усталая, в лихорадочном состоянии, с внезапно возникавшими темными кругами под глазами, она поднималась с дивана, на котором они работали, ее тело требовало не стихов, чего-то другого. Она подходила к проигрывателю и включала музыку, чаще всего болеро. Они начинали «болеровать», как говорила она, под ритм заранее выбранных мелодий. Постепенно, пока ее тело изгибалось в танце, ее буря затихала, исчезали круги под глазами и платочек…
– Каждый раз, когда мы танцевали, она выбирала момент и решительно прижимала свою ногу к моему органу, или «конечности», как она стыдливо его называла.
Сперва Ипполит Мора согласился на то, чтобы поэтесса этим ограничивалась, и, возможно, в этом принятии ее правил и состояла его ошибка. Как-то раз он отважился поднести ее руку к своей промежности, чтобы она потрогала. Анна Моралес согласилась на это, но ее согласие длилось всего секунду. Затем она с улыбкой отстранялась, принималась скакать и бегать, как будто ей было стыдно от того, что она только что сделала. Преследуя ее по комнате, я заставлял ее трогать себя. Поэтесса облизывала палец и прижимала его к моим брюкам, к тому месту, которое она называла «животным» – для контраста, намекая на существование духа. Влагой слюны она хотела погасить жар.
– Прямо жжет, – говорила она, снова смачивая палец и повторяя то же действие. Когда однажды Ипполиту Море удалось повалить ее на кровать силой, почти рискуя, что пропадет желание и эрекция, Анна Моралес расплакалась, умоляя и обещая удовлетворить его желание на следующий день. Она понимала, что плакать в ее возрасте было недостойно ни поэта, ни свободной женщины, и примешивала к слезам смех. И поскольку она мне отказывала, мне не удавалось ее забыть. Действия, которые нам не удалось осуществить, несмотря на все приложенные усилия, особенно когда они связаны с подавлением сексуальности, нас мучают и порабощают. Ему никогда не удалось пойти дальше. Поэтесса была несгибаемой и, как ему подтвердил один из друзей, каменной розой.
Понадобились бы долото и клетка, чтобы лишить девственности эту беглянку. Такая безрезультатная настойчивость меня истощала, и это истощение вызывало постоянное состояние чудовищной усталости, от которой невозможно было освободиться, которую в Средние века называли апатией. Если бы она стала моей, а потом я бы ее потерял, это не было бы столь жестоко. Ощущение от потери несравнимо слабее ощущения от обладания. Даже более того, сказал вдруг писатель, потеря – это второе приобретение, в котором начинают взаимодействовать воспоминания и внутренний мир. Потеря подтверждает в душе человека факт обладания.
С Анной все было пустым, полным отсутствием, обнимание теней и привкус горечи во рту… Осознав грозящую опасность, она впадала в истерику или ревновала, становилась меланхоличной, неистово преследовала его и предъявляла ему бредовые обвинения.
На одном из их одиноких вечеров он предупредил ее. Я больше не мог жить, мастурбируя, и думал, что Анна тоже, но я ошибся. Она снова отступила и умоляла, чтобы он не настаивал, опять смеялась сквозь слезы. Я проводил ее до дверей и сказал, что между нами все кончено. Впервые за все это время она попросила, чтобы я ее поцеловал. Мора исполнил ее просьбу, но уже решив расстаться с ней и не возвращаться. Он чувствовал то, что потом больше ни к кому не испытывал, – огромную, безумную досаду. Поэтесса сжала его плечи и, когда он уходил, попыталась задержать его. В последний раз она взяла в руки мой член. Она была в отчаянии. Мора не мог вынести ее отчаяния: оно было запоздалым, все уже прошло.
В молодости Анна Моралес любила слабых, нуждающихся в ее покровительстве мужчин, которых могла защищать. Ипполит Мора не входил в этот многочисленный легион и, возможно, не пробуждал в ней сострадания и жалости. Поэтому, решил он уже потом, он ее не возбуждал. Мы были одного поля ягоды и в чем-то похожи, в чем-то, что сложно выразить словами, как схожесть между уже осуществленным и тем, что вот-вот произойдет. Затем она стала устраивать свои вечера с этой армией евнухов, которые восхваляют ее поэзию и с которыми она ничем не рискует. Спустя какое-то время после расставания Анна Моралес получила большой конверт с любовными и эротическими стихами, которые она ему посвятила и которые Ипполит Мора ей возвращал. Вместе с ними он прислал и свои собственные: обгоревшие страницы и пепел. Не сохранилось ни одного из тех, что он написал.
– Мы больше никогда не встречались и не слышали голоса друг друга.
Внимая повествованию, гость хотел бы что-то набросать на бумаге, записать, запечатлеть этот единственный миг, боясь, что он больше не повторится… Это был зачаток его главы о таинственных отношениях между этими двумя необыкновенными людьми, и, кроме диктофона, который писатель запретил ему использовать, он больше ничего с собой не принес. Ему на память пришли «Разговоры с Гёте», просто как сравнительная метафора: к счастью для обоих, он не был Эккерманом [13]13
Иоганн Петер Эккерман (1792–1854) – немецкий писатель, автор книги «Разговоры с Гёте».
[Закрыть], а Мора не был Гёте. В этом и состояло отличие: воодушевленный Эккерман, беседуя и слушая, упражнялся в проницательности и усердии, благодарный судьбе за то, что она свела его с великим писателем. Однако, с большим вниманием слушая своего героя, Эккерман, в отсутствие диктофона, довольно редко делал записи. У него была живая память, память, ставшая бесполезной с появлением записывающей аппаратуры. Вернувшись домой, он мог воспроизвести на бумаге все, что услышал. Гость попытался ему подражать и прислушался. Он вслушивался с неожиданным для его эпохи напряжением, неподвижно сидя на неудобном лакированном сиденье, с прямой, как кол, спиной, охваченный нездоровым любопытством. Пока он слушал с таким вниманием, у него возник вопрос: был ли он одним из тех слабых молодых людей, о которых упоминал Мора? Но ведь поэтесса назвала его ангел ом-хранителем, так что слабой здесь, скорее, оказывалась она. Может, писатель ошибался относительно нее?
– Скажите мне, молодой человек, – появившись вновь из темноты, наклонился писатель к нему, – вы ведь совсем недавно видели ее, от нее все еще исходит тот аромат?
Тогда гость упомянул о начале танца, о том, как впервые он держал ее в своих объятиях.
– Я оказался во власти жаркого аромата ее тела, смешанного с какими-то искусственными духами, подобранными с большим вкусом.
– Когда мы встречались, – возразил писатель раздраженно, – она никогда не пользовалась парфюмерией. Она делала настойки из цветов в своей комнате.








