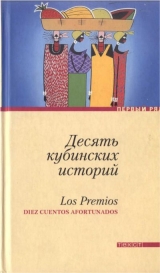
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Автобус резко тормозит, не доехав до остановки. Октавио отчаянно хватается за поручень. Девушка налегает на него всем телом, и он капитулирует, дает слабину. Нарастающая в геометрической прогрессии волна прокатывается по салону: после торможения инерция бросает пассажиров вперед. Лобки напирают на ягодицы, лбы наталкиваются на локти, уши – на уши, рты целуют затылки, глаза прижимаются к пальцам, а в данном частном случае – член Октавио встречается с крупной задницей пассажира по имени Гойо. Когда автобус затормозил, никто не понял, что водитель пытался объехать собаку. Будь у Уэви время подумать, он расплющил бы пса в лепешку и покатил бы дальше, в ус не дуя, пусть валяется на асфальте, как пицца, но времени не оказалось: водитель не успел пренебречь собакой, рассудить, что ее жизнь не так важна, как все человеческие жизни, которых в его машине – точно сельдей в бочке. Октавио почувствовал, что его пенис вошел в щель между ягодицами мужчины, понял: произошла роковая, непростительная случайность.
Гойо восстанавливает равновесие, разворачивается и совершает неожиданный поступок – ощупывает ширинку Октавио и чувствует под рукой этакий валёк.
Илке пора сходить, и она говорит: «Пропустите, пожалуйста», сладким голоском, сквозь еще не отзвеневший смех: «Разрешите», – но когда автобус резко затормозил, Илка всем телом повалилась на Октавио, и подружки весело захихикали, и обе прижались к мужчине, а у того, естественно, все прочие мысли вылетели из головы.
Гойо хочет удостовериться, что между ягодиц ему засунули именно стоячий член. На ощупь ему показалось, что член был громадный и противный, громадный, уродский, он почувствовал его твердость и теперь комплексует, обижается. Он всегда переживал из-за своей оттопыренной задницы, а если случайно задевал за что-то ягодицами, страшно бесился. Вообще-то у него нормальная мужская фигура, фигура что надо, но грациозные ягодицы оттягивают на себя все внимание, кокетливо оттопыриваются перед зеркалом, и ничего им не делается, хотя он упорно учился их втягивать. Пышные крутобокие ягодицы, не позволяющие продемонстрировать голое тело – а ведь торс у него достоин Геркулеса. Ягодицы всегда были его больным местом. Достаточно было упомянуть о них, чтобы Гойо смолчал, окончательно разгромленный, не ответил обидчику ни словом. И все же, вопреки всему, Гойо заставил людей себя уважать. Кое в чем природа была к нему милосердна: наделила сильными руками и завидным ростом. Уже много лет только зеркало осмеливалось ставить ему на вид, что вместо зада у него форменный аэродром. Но Гойо продолжал скрывать ягодицы, приговорил себя к ношению широких рубашек навыпуск. В переполненном автобусе он всегда старался пристроиться у поручня и агрессивно выставлял локоть, чтобы никто не приближался. Он рисковал, лишь пока продвигался к выходу, – рисковал, конечно, минимально, ведь только резкое торможение могло воплотить опасения в жизнь. И теперь необходимость выяснять отношения с Октавио, который испуганно уставился на него, необходимость наброситься на этого типа срывает ему все планы: он-то собирался взять реванш над женой…
Уэви слышит, что пассажиры его ругают – везет, мол, как дрова. Ничего, завтра все это отступит в далекое прошлое: подвернулось выгодное дельце, пиццерия, можно снять хороший навар и отодрать всех бабенок, которые раздвинут перед ним ноги. Благодаря русой он расхрабрился и снова вышел на охоту, как-никак секс – хобби на всю жизнь. Пассажиры негодуют. Гойо вслух поминает мать и прочих родственниц парня со стоячим членом, говорит:
– Пойдем выйдем, я тебе морду набок сверну. Валяй, гаденыш, пидорас, выходим.
Негодующие пассажиры переводят взгляд на предполагаемого извращенца. Октавио отпирается:
– Да что вы, что вы, я женат, просто эти девочки… Вы просто не в курсе. Это ошибка. Вы ошиблись. Я лично никогда, в смысле, они стояли позади меня и все руками, руками, я же не железный. Я нечаянно наткнулся. Я бы никогда, у меня и в мыслях нет, я же…
Гойо настаивает:
– Выходи. Чего-то лопочешь, даже не пойму.
Уэви выходит из кабины – посмотреть, что происходит.
– Разбирайтесь на остановке, здесь мне проблемы не нужны, – говорит он, не приближаясь к конфликтующим, и его басовитый, уверенный, властный голос оказывает на них воздействие. Гойо не видно водителя. Входя в автобус, Гойо тоже не обратил внимания налицо шофера: поднялся по ступенькам, оплатил проезд и стал пробиваться вглубь. Октавио сбежал бы отсюда во всю прыть, но разве удерешь? Он оглядывается через плечо, замечает Илку, понимает: это и есть виновница. Неохота смотреть на нее, вспоминать ее ласки, но Октавио не может оторвать взгляд, и улика его преступления не опускается, и Октавио мало-помалу загораживает ширинку портфелем, потому что Илка раздевается, падает на траву на зеленом лугу. Вне всякого сомнения, она прекрасна – эта женщина, распростертая на спине, обещающая бесподобные холмы, которые сеньор Октавио с превеликим удовольствием раздвинул бы, проучил бы ее вволю. О, нет, нет, надо умерить воображение: Октавио старается избегать насилия и унижений. Гойо снова принимается ругаться. Октавио – лингвист, лингвисты с незнакомцами не ссорятся – только с сослуживцами, с каким-нибудь коллегой, с начальником, да и то битва происходит в сугубо теоретических сферах, бранные слова и обещания оскорбить действием выступают в качестве лексических единиц – допустимы лишь самые выразительные. В кругу лингвистов обсуждают не сами оплошности и недостатки, а конкретные фразы. Интуиция подсказывает Октавио, что этого противника красноречием не возьмешь, и он закрывает глаза, готовится безропотно принять наказание.
Сегодня спозаранку Уэви взял расчет в автобусном парке: хватит с него толкучки, пота, проклятий. Заявил начальнику: «Бросаю шоферить. Открываю пиццерию. Не поминай лихом, и до новых встреч!» Но начальник взмолился: «Поработай еще денек. Сделай мне одолжение, брат, завтра найдем тебе замену», и Уэви уступил: «Ну ладно, но завтра я не выйду», – и, честно говоря, теперь с тоской дожидался конца смены. Жара, народу полно, настроение у всех плохое, в двери лезут целой толпой, хотя в автобусе и так не протолкнуться. Кто с кондуктором ругается, кто с попутчиками, кто с водителем. Этот летний день могли скрасить только воспоминания о русой.
– Все, сваливаю, – сказал он и повернулся к начальнику спиной.
Спокойно доработать последний день помешала какая-то шелудивая собака. Гном, услышав визг тормозов, испуганно заскулил, попятился, потом перебежал на другую сторону улицы, сердце бешено забилось. На той стороне тоже остановка, и к нему приближается ребенок.
Гном устал, он поджимает хвост, а ребенок гладит его по голове, и пес, все еще испуганный, лижет добрую ручонку.
– Отойди от этой противной собаки, – истерично кричит мать малыша. – Немедленно отойди. – И оттаскивает сына за руку, и силком уводит, отчитывая.
Гном, немного успокоившись, устраивается под скамейкой. Страх отступает. Гном нюхает воздух и чует с остановки на той стороне улицы знакомый запах. Вскакивает, делает несколько шагов к бровке, сосредоточенно внюхивается и узнает запах своего бывшего хозяина, а хозяин, зажмурившись, говорит:
– Вы ко мне чрезвычайно несправедливы.
Зрители перешептываются, смеются. Гном поворачивает морду влево, ощущает агрессивный запах Гойо. Чует, что его бывшего хозяина вот-вот ударят по лицу, и снова перебегает улицу.
Уэви вернулся в кабину и уже собирается тронуться с места, но ему любопытно взглянуть на ссору, хочется взглянуть, как этот толстозадый мулат разобьет морду Октавио. Уэви ставит сцепление в нейтральное положение и высовывается в окошко. Он не знает Гойо в лицо – и не подозревает, что это муж русоволосой ураган-бабы.
– Врежь ему, – подзуживают люди. – Дай толстому в морду.
Кулак Гойо еще не ударился о скулы Октавио – пока только грозится. Гойо медлит, безропотность Октавио его пока останавливает. Уэви ничего не видит за толпой зевак, выходит из автобуса. Его жена срывается с места. Испугалась за своего любимого, за своего кормильца: ведь явно что-то стряслось. Термос выскальзывает из ее дрожащих рук. Похоже, Октавио не избежать кары. Рыжая, подняв с тротуара разбитый термос, обнимает Уэви: «Кофе пропал, миленький, но, слава тебе Господи, с тобой ничего не случилось», чмок-чмок-чмок. Илка вымоется с головы до ног, как только придет домой, ее трогал извращенец, маньяк, прямо на ней помешался, у него встало прямо в переполненном автобусе, фу! Да, в ванну, мыла не жалеть, никогда не знаешь, во что в этих автобусах влипнешь. А подружка Илки со своей вечной жизнерадостностью расскажет маме: «Он меня сзади лапал, вот ведь наглый».
Похоже, никто не вмешается, ничто не воспрепятствует увесистому кулаку Гойо обрушиться на лицо лингвиста, а лингвист загораживает руками ширинку, чтобы скрыть эрекцию. Лица не заслоняет. Покорно ожидая атаки, стоит с закрытыми глазами.
Из-под ног зевак сперва раздается лай, а затем выскакивает Гном, тощий, как скелет. Выскакивает, взъерошенный, угрожающе скаля зубы. Выскакивает, хотя ему страшно, без фанфаронства, свойственного откормленным собакам. Наскакивает на правую ногу, ногу в матерчатой сандалии. С лютой ненавистью прокусывает и ткань, и тело. Гойо подскакивает на месте. Никто ничего не понимает, не понимает даже Октавио, не узнавший своего бывшего любимца в этом измученном псе. Гойо трясет ступней, но собака не раскрывает пасть, не отцепляется.
– Ой бля, ой бля, – вопит он, точно по нему бегает скорпион, – ой бля, – но все застыли.
На помощь бросается только Уэви – одним пинком отпихивает пса. Гном вертится на месте, скулит, вспоминает, что он вовсе не благородный породистый пес, а жалкая дворняга. И пускается наутек. У Гойо из ноги течет кровь.
Октавио под шумок сбегает. С Гномом ему больше не встретиться: они удирают с одинаковой прытью, но в совершенно разные стороны. Уэви подходит к раненому:
– Пойдем, тебе в больницу надо.
Гойо смотрит на него, узнает типа, которого видел в окно: это он нагишом кувыркался в койке с чужой женой. Тот самый, это уж точно, такую харю не забудешь; ох, так ее бы и начистил.
– Пойдем, друг, таких собак не прививают, – снова говорит шофер, любезно, свысока, и Гойо хочется отлупить его тут же, на месте, – памятная морда, памятный голос, шептавший: «Что, крошка, тебе хорошо, хорошо?»
Но из его ноги течет кровь, из четырех крохотных дырочек, и тут он снова вспоминает с дрожью, какой грязный и жалкий пес его покусал; Гойо молча идет к автобусу, поднимается в салон, ему уступают место. Автобус трогается, и Гойо подставляет лицо прохладному ветерку из окна.
Лайди Фернандес
Дочь Дарио
© Перевод Ю. Грейдинг
Матерям более ста детей, умерших во время эпидемии лихорадки денге 1981 года, и всем работникам здравоохранения.
Мария Эухения была на ночном дежурстве в больнице, когда зазвонил телефон в палате интенсивной терапии и она со свойственной ей уравновешенностью ответила на вызов. Она привыкла к важности почти всего. Так что ей не казалось странным ни неожиданное улучшение состояния опасно больного, ни то, что вовсе не тяжелого пациента находили утром бездыханным – ну, конечно, если такое случалось не в ее смену.
Она четыре раза в неделю выходила на ночное дежурство. Уже много лет твердила, что предпочитает работать ночью, но теперь, в ее сорок пять, уже никто не верил, что дочь, которой вот-вот исполнится одиннадцать, требует таких уж забот днем.
Но так печальны ночи в больницах, что остальным медсестрам казалось удобным (странным, но удобным) то, что Мария Эухения снова и снова настаивает на своих ночных дежурствах.
Одиннадцать лет тому назад (никто уж этого не помнил) в сельской больнице появился гаванский инженер, который приехал осмотреть сахарный завод, и приняла его Мария Эухения.
– Что-то я измотался, – сказал он. – Не приготовите ли мне аэрозоль?
– Сию минуту, – ответила она. – Только у нас говорят не «измотался», а «устал».
– А мне все равно, как говорят. Вы ведь догадались, что у меня астма?
– Конечно, инженер, расслабьтесь немного, вам сразу полегчает, вот увидите.
– Откуда вы знаете, что я инженер?
– Ну-у… – иона протянула ему мундштук, уже подключенный к баллону с кислородом, – у вас на лице написано, что вы инженер и вы не здешний. Нет… не разговаривайте, вдыхайте глубже.
Не то чтобы та ночь была какой-то особенной, с большим числом звезд или нежаркой, и пыль измельченного тростника по-прежнему пачкала ее белый халат медсестры. И карнавала не было в ту ночь. Более того, это была скучная ночь, может быть, поэтому инженер, которому полегчало, остался с Марией Эухенией, пока солнце и гудок сахарного завода не возвестили, что жизнь в поселке начинается снова. Она быстро оделась в сестринской комнате, еще не веря тому, что произошло. А точнее, не веря в то, чему она позволила произойти.
– Сегодня возвращаюсь в Гавану, – сказал он. – Как-нибудь ночью позвоню.
Курсы повышения квалификации по реаниматологии, организованные в столице провинции, пришлись Марии Эухении как нельзя кстати. Ее безупречный послужной список, ее общеизвестные преданность делу и сноровка, а заодно и первые признаки беременности заставили считать ее кандидатуру идеальной.
Она вернулась через полтора года. Расписывала великолепие гаванской больницы, рассказывала про музеи, дома культуры, гостиницы, показала соседям девочку, которую родила там от человека, с которым будто бы тут же развелась.
Много раз ей предлагали поехать в Гавану на конференцию медработников, и каждый раз она отказывалась, потому что довольно того, что соседи нянчились с ее дочкой, когда она на работе, чтобы еще просить их отпустить ее в Гавану.
Однако, подумав хорошенько (ночи, как ни мрачны они, идеальны для размышлений), она пришла к убеждению, что одиннадцати лет уже достаточно, чтобы кое-что понять, и что, если он как-нибудь ночью позвонит, она скажет ему о девочке и ей расскажет о нем, и не важно, сколько там у него еще детей, она, Мария Эухения, собиралась сказать дочке, что пора ехать в Гавану.
Что пора попробовать мороженого в «Коппелии», мансанильи в «Каса дель Те», поужинать за полночь в «Кармело» на Двадцать Третьей, сфотографироваться перед Капитолием, посидеть на львах в Прадо, посмотреть кино в «Яра». Она хочет, чтобы девочка увидела Сильвио Родригеса, Пабло Миланеса, вдохнула соленых брызг на набережной и прокричала свое имя в беседке парка на Двадцать Первой, чтобы эхо окликнуло ее, и увидела все другие чудеса, о которых он рассказывал ей в ту ночь, когда он измотался (то есть устал). Все это собиралась сказать ему Мария Эухения. Но в каждое бессонное утро пожеланий становилось больше, а некоторые из первоначальных она отвергла.
Например, уже не виделось ничего хорошего в том, чтобы сказать девочке, кто ее отец. Слишком травмирующая новость, да и бесполезно это.
Каждый раз, когда наступали летние каникулы, Мария Эухения как бы вскользь бросала: «Может, в этом году поедем в Гавану», – и так же вскользь делилась с дочкой воспоминаниями, которые хранила о неизвестных ей самой местах:
– Говорят, в кинотеатре «Яра», который раньше назывался «Радиосентро», показывают очень хорошие фильмы.
А на следующий год:
– Как-то мне сказали, что «Кармело» на Двадцать Третьей – это очень приличное заведение, оно на большой улице, которая так и называется – Двадцать Третья.
А потом:
– Тебе понравится «Коппелия». Это огромное кафе-мороженое со множеством залов и лестницей в центре.
В ту ночь, когда зазвонил телефон, Мария Эухения ответила со свойственной ей уравновешенностью, и ей послышалось:
– Это я, Дарио. Приезжай в Гавану. Буду ждать тебя на вокзале в воскресенье.
Весь ужас вселенский обрушился на нее (так она тогда подумала). Она не сказала ему ни о своем интересе к определенным местам, ни о напитках, ни о мороженом, ни о фотографиях, о которых думала почти одиннадцать лет, и, самое скверное, не сказала ему о дочери. Дождалась рассвета, попросила шестьдесят дней отпуска, да… сразу… я ведь по две смены работаю… да, это срочно… ну конечно, я вернусь, побежала на станцию, купила два билета и подхватила девочку.
Впереди было еще шестнадцать часов, чтобы поговорить с ней, хотя она по-прежнему считала, что не стоит говорить ей, что человек, который ждет их в Гаване, – ее отец. Но иногда, например на перегоне между Какокуном и Лас-Тунас, она сомневалась в этом.
Ехать еще долго, это видно по веренице остановок на карте, которую она когда-то купила на всякий случай, и в голове у нее уже был план – о чем ей говорить с дочерью до прибытия в Гавану.
Когда доехали до Атуэя, она еще раз описала ей вкус ананасно-апельсинового мороженого в «Коппелии», которое отличается от ананас-гляссе легким привкусом апельсина, который придают ему на фабрике.
Проезд через Сибоней, Камагуэй и Флориду они посвятили главным улицам Гаваны. Девочка вспоминала детали, которые Мария Эухения уже подзабыла, и они веселились, путая Пасео-дель-Прадо с авенидой Президентов, величественную улицу Эле, на которой стоит «Яра», с Линией, где раньше ходили поезда, и так было, пока они не уснули.
Когда объявили остановку в Санта-Кларе, Мария Эухения проснулась и, хотя почувствовала, что в вагоне жарко, снова заснула с мыслью о счастье, которое ждет их обеих. Вагоны были битком набиты ребятами и девчонками, которые решили устроить себе в июле грандиозные каникулы в Гаване, ну, прямо как она с дочкой.
Уже в Лимонаре, как раз перед Матансас, они возобновили воображаемые прогулки, о которых так долго мечтали.
– Если идти по авениде Президентов, дойдем до «Кармело» на Двадцать Третьей. Снаружи там кафе, работает и за полночь, а внутри – настоящий ресторан, с кондиционированным воздухом и все такое.
– А внутри – не за полночь? – спросила девочка.
– Не думаю, но мы сами это увидим.
Только в Агуакате (в Матансасе не разговаривали, потому что девочка снова захотела спать и впала в обычное дорожное забытье) Мария Эухения вновь заметила, что слишком жарко. Не ей было жарко, а в поезде температура зашкаливала. На въезде в Гавану девочка была еще сонной, а после материнского встряхивания приподнялась, чтобы выглянуть в окно.
– Правда красиво, милая? – спрашивала Мария Эухения, не глядя на дочь, ища глазами Дарио. Того Дарио, которого помнила по той долгой и, чтобы сказать точней, давней ночи. Многих пассажиров сразу стало рвать, как только они сошли с поезда, странная обстановка создалась на вокзале. Многие дети, которые ехали из восточных и центральных провинций, совсем не просыпались, и их матери сначала удивлялись, а потом, испугавшись, стали просить помощи у вокзальных служащих, у других пассажиров и наконец завопили, взывая о помощи.
Мария Эухения оставила девочку сторожить чемоданы и со всей проворностью медсестры отделения реанимации занялась теми, которых никак не удавалось разбудить. Вокзальные врачи приняли ее помощь и, точно так же выбитые из колеи, делали вливания глюкозы, физиологического раствора и всего внутривенного, что было в медпункте.
Они никогда не сталкивались со столькими неотложными случаями сразу. У некоторых больных не прекращалась рвота, а другие невнятно лепетали, что умирают, у всех был жар, все стонали. Плакали испуганные дети на руках у матерей и просились назад в родные места.
Вокзальные скамьи были превращены в носилки, остановили движение на прилегающих улицах и, не теряя времени на записывание имен и адресов, стали увозить больных на легковушках, владельцы которых приехали кого-то встречать.
В сумятице, среди людей, превратившихся в носильщиков, санитаров (невозможно определить, кто выполнял эту работу по долгу службы, а кто – добровольно), Мария Эухения как будто увидела Дарио. Как раз в тот момент, когда начальник вокзала заговорил из всех динамиков, что нужно сохранять спокойствие, что сюда уже едут машины «скорой помощи», что детей повезут в педиатрическую больницу… взрослые поедут в больницу Калисто Гарсия… пожалуйста, не забудьте свое удостоверение личности… вот, они уже приехали…
Мария Эухения в сутолоке и смятении забыла, где это ей показался Дарио. Побежала на угол, где она оставила девочку, и нашла только чемоданы. Расталкивая все препятствия на своем пути, она перепрыгивала через скамейки, еще остававшиеся на местах, не переставая выкрикивать имя дочери. Весь вселенский ужас обрушился на нее (так она снова подумала), и, не зная, у кого просить помощи, она двинулась к воротам, куда прибывали машины «скорой помощи».
Снова ей показалось, что она видит Дарио. Больше того, ей показалось, что Дарио смотрит на нее. Еще точнее, ей показалось, что ему кажется, что он видит ее, но в этот момент сирена первой машины уже оповестила всех, что машина отъезжает. Мария Эухения догадалась только попросить шофера позволить ей взглянуть, не там ли ее дочь, на носилках в глубине.
Традиционное деление педиатрической больницы на отделения – по болезням – пришлось нарушить. Когда были забиты все палаты, врачи и медсестры поставили кровати в коридорах, в вестибюлях, в лечебных кабинетах и везде, где только можно было поместить капельницы.
Мария Эухения узнала многих матерей, которые ехали с ней в поезде, и детей, которые, как и ее дочь, в первый раз приехали в этот сказочный город. Хотя сама она была совершенно подавлена, она пыталась ободрить других и, несмотря на забытье, в котором пребывала девочка, взяла на себя присмотр за капельницами в палате. Дежурная медсестра уже больше двух суток была на ногах и благодарила Марию Эухению за то, что сможет хоть немного посидеть на лестнице у подъезда. Мария Эухения всю ночь обходила койку за койкой, на которых лежали дети из разных провинций, даже из Гаваны. Поднимала дух матерей своею кажущейся бодростью, а за спинами у них вымаливала надежду у врачей, которые перебегали с места на место, не имея времени на объяснения, в безнадежной попытке спасти детей, которые впадали в кому и умирали за несколько минут.
Та медсестра, которая сидела на лестнице, и сказала ей. Девочку собирались забрать в реанимацию, потому что невозможно было остановить кровотечение, которое началось в том месте, где прокололи вену.
Мария Эухения попыталась вести себя как профессионал с многолетним опытом, с привычной уравновешенностью, с выдержкой самой требовательной в мире профессии, жестко, как подобает матери-одиночке, но вселенский ужас обрушился на нее (вот теперь уж точно), и она не дала унести свою дочь на носилках, как всех остальных.
Она взяла ее на руки, прижала к груди и помчалась туда, где ее ждали врачи и медсестры, такие же измученные, как и все другие.
Невозможно было терпеть фразы, которые она столько раз произносила сама, вроде «делаем все возможное» или другие в таком же духе, зная, что они нисколечко не утешают, так что она вошла с девочкой в палату, и они все вместе ввели ей трубку, и со всеми вместе Мария Эухения подсоединила дочь к аппарату искусственного дыхания, помогала искать крепкую вену, а когда все обняли ее, потому что усилия оказались напрасны, Марии Эухении показалось, что она видит Дарио.
Через стекло отделения интенсивной терапии она выдержала наконец его взгляд, потому что ее уже не интересовали ни «Коппелия», ни «Кармело», ни Прадо, ни широкие улицы. Больше того, потому что уже и любовь ее не интересовала. А точнее, потому, что ее уже абсолютно ничего не интересовало.








