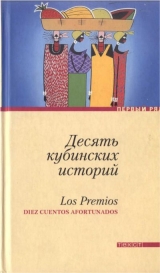
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
В тот вечер я вышел во двор и увидел на мирамарском небе полную луну. В груди у меня холодело, мысли путались, меня трясло. Если меня выгонят из этой школы, все кончено: домой лучше не возвращаться. Но как смолчать? Не могу же я наплевать на других – на моих друзей, настоящих друзей. Наш негласный альянс возник без всякой корысти, как всякая дружба на основе музыки. Николас, Обдулио, Эспонда, Роберто Хименес – они вместе. А Браче и я – бесконечно одиноки. В тот вечер, укрывшись теплым одеялом, я обливался холодным потом: так и видел, как меня исключают из школы, и на следующий день, на контрольной по химии, совершенно не мог сосредоточиться. Формулы плясали перед мысленным взором, а я смотрел в окно кабинета на пустой двор, кирпичную стену и машины, несущиеся стрелой по Пятой авениде.
И все-таки контрольную я не завалил. В подвал не спускался два дня подряд, мое отсутствие заметили. На третий день Браче, мрачный, с пушком на подбородке, двинулся по лестнице. Я молча последовал за ним, и мы снова постучались в дверь. В подвале мы пробыли недолго, не курили, ни с кем не разговаривали. Музыка звучала как-то глухо, в одно ухо влетала, в другое вылетала. Все мучительно раздражало: и шум, и тишина, и скрип иголки между песнями. Я не мог разговаривать, не мог вопить вместе с Литл Ричардом: между разговорами и мной повисло какое-то неясное ощущение предательства, между Литл Ричардом и мной возникла неясная дистанция.
Вечер. Еще один вечер.
Скрипичное соло в инструментале Перси Фейта и голубоватый дым. Дым поднимается вверх, выше лиц, выше макушек, в ночи, в ночной час, когда точное время неведомо.
Мы с Браче и не заметили, как рухнула наша ночь. В подвале собрались почти все наши, сидели, курили. На этот раз принесли диск «Бич бойз», звучавший как-то размазанно, и кучу сигарет с ментолом, и новый способ курения: сигарета вставлялась в пузырек, мундштук торчал наружу. В дверь постучали, но не два раза – пауза – еще два раза. Стучали властно, яростно, командирский голос раскатился эхом по коридору, подвал тряхнуло от электрошока, и сигареты исчезли в щелке в жалюзи, а Эспонда начал разгонять дым, но проигрыватель выключить позабыл. Браче поднял руки. Ричард, невозмутимый, как и положено гаванцу перед лицом внезапной опасности, отпер дверь, и вошел Карраско, директор школы, в оливковом макинтоше, под которым белел свитер, а на свитере – красный значок, на значке – школьник в кепи, корпеющий над книгами, школьник, на которого нам полагалось равняться; широко ступая в своих ботинках с круглыми носами, директор одним махом оказался у проигрывателя, схватил диск Литл Ричарда и швырнул об стену. «Здесь запрещается американская музыка», – завопил он, и губы у него слегка задрожали, а осколки диска падали, падали вечно, заснятые рапидом, и негритянки с дешевыми кольцами умолкали. Вслед за директором вошел Валье: насупленный, темные глаза навыкате. «Здесь запрещается пьянствовать», – и директор моментально цапнул бутылку без этикетки, где на донышке чуть-чуть оставалось, и ахнул ею о цементный пол. Бутылка взорвалась – казалось, не разбилась, а воздух, поднажав изнутри, разлучил кусочки стекла, чтобы больше никогда не соединялись. Осколки рассыпались у ног Роберто Хименеса. «Вы что, не знаете? Запрещается курить», – и директор вырвал у Обдулио пузырек, и луч света выхватил из темноты светлые глаза директора и его седые, остриженные под бобрик волосы. Пузырек упал из его нервных старческих рук, разбился вдребезги. Запахло ментолом. Аромат все усиливался и усиливался. «Мокасины и узкие брюки запрещаются», – и Карраско набросился на Николаса Леонарда, а тот – он ведь косил под негров – сохранял спокойствие: напряженное, как струна, на грани вызова. «Общежитие мы расформируем», – и директор сцепил указательные пальцы в пелене дыма, который все еще заволакивал последнюю ночь подвала. Всех на дисциплинарный совет, сказал он, дыша синим – от синего света лампочки – носом, обращаясь к Валье. Всех.
Неделю мы жили как во сне. Как роботы: машинально вставали, машинально отсиживали уроки, машинально возвращались и ложились спать. Не чувствовали тяжести своих тел: так действовал страх, что завтра-послезавтра все будет кончено, угнетала совесть, угнетала тоска, и губы сохли, когда Валье созывал нас на построение. Но мне в глубине души стало спокойнее: маршируя к воротам школы, я избавлялся от своей личной вины, которую заглушила всеобщая трагедия. Теперь музыка исходила от нас, это нас окружил ореол, нечаянно-негаданно: слух о вечеринке, где пили ром, крутили рок-н-ролл и курили ментоловые сигареты, тянулся за нами повсюду.
В итоге дисциплинарный совет так и не созвали, но общежитие расформировали. Подвал отдали под склад какой-то мастерской, Роберто Натчара перевели в двадцать четвертую группу, Браче отказался от стипендии, Николас прибился к Обдулио, а Роберто Хименес с Хорхе Гарсиареной и мы с Эспондой попали в «Зеленый ад», общежитие двадцать шестой группы на углу Сорок Четвертой улицы. Там мы услышали «Битлз» во второй раз в жизни: диск, завернутый в лист станиоля, притащил Нельсон Вила. Впечатление было совсем другое, чем при первом знакомстве. Помню, что мы не танцевали – сгрудились вокруг проигрывателя и слушали молча. В ту ночь Эспонда разревелся на своей койке: у него не было денег, чтобы заплатить двоюродной сестре за разбитый диск Литл Ричарда.
Потом мы поехали на уборку кофе в Баракоа, разбрелись по холмам. Когда уроки возобновились, мы иногда виделись во дворе на большой перемене или на вечерней линейке, а окончив школу второй ступени, снова разбрелись кто куда. Николас уехал в Тарару, перед отъездом подарил мне роман о ковбоях «Дьявольский наездник» Марсиаля Лафуэнте Эстефании и написал на титульном лице: «Моему другу Франсису, несмотря на все, от его школьного друга Николаса Леонарда Крибейро». Я улыбнулся, но руки у меня задрожали. Николас стоял с рюкзаком, и голос у него как-то изменился. Николо, решился я спросить, почему «несмотря на все»? Да, несмотря на все, потому что ты знал, вы с Браче оба знали, а нам ни гугу.
Перспектива Шестидесятой улицы в Мирамаре теряется вдали, в темно-лиловой дымке с синим отливом. В этой дымке растаяли Обдулио, и Роберто, и Эспонда, и кирпичная ограда школы имени Мануэля Бисбе, а я как-то утром в Институте доуниверситетской подготовки имени героев Ягуахая познакомился с Хулио Сесаром Императори и подметил, что он смахивает на сынка большого человека, разъезжающего по заграницам, и немедленно спросил, нет ли у него пластинок «Битлов». Он кивнул, на гаванский манер вальяжно. Так началась наша долгая дружба.
Сейчас я в Стокгольме, идет снег, я по-прежнему нищий, но мне уже наплевать. Я тоже «большой человек, разъезжающий по заграницам» – конечно, это лишь временный статус, – и мой племянник Рикардо Артуро заказывает мне диски «Бойз ту мен», «Эй-си / Ди-си», «Нирваны» и все, что попадется из альтернативного рока. Я иду в магазин подержанных дисков на Риддархольме – Рыцарском острове – на краю огромного пустыря, где торгуют продуктами и ношеной одеждой. Хлопья снега падают на красные крыши, рассыпаются под порывами ветра. Магазин находится в подвале, заставленном лампами, поломанной немодной мебелью и прочей рухлядью. Толстый веселый чилиец с собранными в хвост волосами зовет меня посмотреть старые пластинки, разложенные по алфавиту в картонных коробках. Тридцать крон штука. Десятки виниловых пластинок вокалистов, которые мне неизвестны, которых я никогда не услышу. Вынимаю один диск, второй, третий. Мне попадаются «Оригинальные хиты» старины Пола, и помощник хозяина – или кто он там – смотрит на меня лукаво и спрашивает: «Какая песня Пола Анки – самая лучшая?» – верно, хочет всучить мне диск. «„My way“, – отвечаю я, – но она не его, а Клода Франсуа, Анка просто сделал английский вариант и дал его Синатре. Потом записал ее живьем, звучит великолепно». Продавец смотрит на меня с легким изумлением. «Кстати, – добавляю я, – Синатра совсем плох, при смерти». – «Ох, – говорит он мне, – как жалко, я не знал». Через некоторое время я нахожу «Величайшие хиты Пола Анки» – диск, которым он нас предал, передав свои старые успехи компании «Ар-Си-Эй Виктор», – и еще один альбом, «The Times on your Life», который я никогда не слышал, и мне приходится выбирать между ними, один из двух, и воспоминания берут верх. Я выбираю диск-предательство, несмотря на все, диск, записанный Анкой на вершине славы с оркестром Джо Шермана, диск, где он уничтожил для будущих поколений первозданную красоту своих первых песен. Потом я натыкаюсь на «Anka at The Сора», где есть песня «My home town», и у меня аж руки трясутся от восторга, но столько денег я не могу потратить, а вот «Twist and Twist» Чабби Чикера и «Все хиты» Нила Седаки, а потом я нахожу диск Эспонды, тот самый, который он принес в общежитие от сестры, «Величайшие хиты Литл Ричарда», чудом уцелевший. Осторожно-осторожно ставлю диск на проигрыватель, опускаю звукосниматель, и внезапно из него вырывается резкий, старинный голос, взлетает по иголке. За голосом следует музыка с тенор-саксофоном, и ностальгия, которой у меня никому не отнять, и ко мне приходит Литл Ричард в своем белом шелковом костюме-тройке и открывает мне тайну: оказывается, мне когда-то было тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет; ностальгия по будущему, ностальгия загодя, а судьба могла бы сложиться совсем по-другому, а друзья в меня верили, и рок-н-ролл, и первозданный саунд «Люсиль» уводит меня далеко-далеко – в дым подвала, и приходят слова, которые спасут это воспоминание, самое важное из всех, которые есть, и потому рассветает, на диске впервые наступает рассвет: я понял, что Литл Ричард простил Пола Анку и меня тоже простил, а сам продолжает играть – теперь уже для вечности.
Эрнесто Перес Чанг
Призраки маркиза де Сада
© Перевод С. Силакова
Предлагаю вниманию читателя две версии подлинной биографии Розы Келлер. Первая из них – рассказ Марианны Лаверн, воссозданный ученым-эрудитом Эдвардом Генри Садом по черновику письма Марианны к Клоду Сойе, комиссару полицейского управления Парижа. В этом письме Марианна умоляла о милосердии, узнав, что комиссар отдал приказ арестовать мадемуазель Жанель, служащую таможни. Вторую я воспроизвожу дословно, в том виде, как ее написала Маргерита Кост, приложившая «Свидетельство о таинственной жизни Розы Келлер» к своему завещанию. Обе истории, хотя между ними есть некоторые расхождения, излагаются весьма пространно, во всех мельчайших подробностях, с изящной и скандалезной непринужденностью. Пожалуй, в первой версии были чересчур заметны старания Эдварда Генри Сада, последнего потомка маркиза де Сада, очистить свой родовой герб от позорных пятен; это обстоятельство побудило меня заменить вымышленные имена истинными, но опустить примечания и точные исторические сведения, которыми эрудит сопроводил публикацию своей работы в «Ежегодном докладе издательства Кембриджского университета» от 1992 года. Что касается свидетельства Маргериты Кост, которая, по-видимому, наряду с Марианной сопровождала Розу Келлер в ее добровольной ссылке в Колонелл-Хилле, поселке на неком коралловом атолле, относящемся к Багамскому архипелагу, то этот текст буквально две недели назад объявили апокрифом; Мишель Браун, директор фонда рукописей Британской библиотеки, уверяет, что документ, подписанный в 1952 году, не мог быть составлен в Колонелл-Хилле, так как поселок получил это имя лишь в 1954-м. Но дочь Маргериты Беатрис Сюстель-Кост, хранящая ее архив с 1967 года, возразила Браун в форме пространной статьи, опубликованной в журнале «Британское литературоведение», и воспроизвела акт об основании Колонелл-Хилла, удостоверяющий, что это имя поселок получил на заре колонизации острова.
Относительно писем Марианны Лаверн могу сообщить следующее: в 1994 году Национальный архив Парижа отказался признать их подлинными, так как они не зарегистрированы среди входящей корреспонденции комиссара Сойе. Однако последующее обнаружение около сотни черновиков писем – бумаг, пылившихся в подвале особняка в Шалоне-на-Марне, где Марианна Лаверн закончила свои дни, – подтверждает гипотезу Эдварда Генри Сада. Тот полагал, что Марианна, будучи интровертом по натуре, изливала свои переживания на бумаге в форме писем, мучаясь от неспособности выразить их вслух. Таким образом, когда она чисто символически адресовала свои послания конкретному человеку, неотправленное письмо замещало для нее разговор, не состоявшийся в действительности. Но даже открытие черновиков не спасло репутацию свидетельства Марианны Лаверн. Я же предпочел игнорировать все прения вокруг этого чертовски запутанного дела. Мне неинтересно доказывать правдивость или ложность каких-то историй. Если они написаны не теми, кому приписываются, их можно упрекнуть лишь в том, что они не могут служить документом для историка. Если же их авторство подлинно, то, возможно, перед нами лишь беззастенчивые сплетни или даже упражнения начинающего литератора.
Письмо Марианны Лаверн комиссару полицейского управления Парижа
Колонелл-Хилл,
Багамские острова, четверг, 12 сентября 1953 года
Глубокоуважаемый господин комиссар!
Мое имя Марианна Ленобль, но я согласна на то, чтобы все, включая вас, называли меня Марианной Лаверн, по имени моей прабабки, знаменитой парижской проститутки, которая в 1772 году была фигуранткой, наряду с Маргеритой Кост, нелепого судебного разбирательства некоторых сексуальных преступлений маркиза де Сада. Возможно, вам известны подробности того процесса, ибо, по воле случая, именно ваш прадед Клод-Антуан Сойе вынес приговор: повесить на эшафоте и сжечь чучела всех троих. Полагаю, что этот приговор, заменивший им реальную смерть символической, навел дьявольские чары на нашу с вами жизнь, ибо сегодня, спустя почти двести лет, мы, их потомки, – всего лишь точные копии наших предков.
Я пишу вам письмо, так как Роза Келлер умерла. Это случилось в понедельник, за несколько часов до того, как в Нассо поступил ордер на ее арест и экстрадицию по обвинению в убийстве, отправленный вами властям Багамских островов. Роза Келлер – ее настоящее имя Роза Реноде-Келлер – была найдена мертвой на рифах Эклина, островка к востоку от Крукеда. Ее изнасиловали так, как она сама предсказывала в записях в своем дневнике, фрагмент которого я прилагаю к этому письму. Во фрагменте Роза разъясняет, отчего покинула Париж.
Мне известно, что вы приказали арестовать мадемуазель Жанель, считая ее соучастницей преступления. Но я предупреждаю вас: вы глубоко заблуждаетесь. Мадемуазель Жанель – несчастное существо, почти кретинка, и ей ничего не известно о делах, в которых, однако, замешаны вы, я, Маргерита Кост, Роза Келлер и потомки маркиза де Сада. Повторяю: мадемуазель Жанель ни в чем не виновата. Также я заверяю вас: Роза Келлер – не убийца, а скорее жертва.
Напоминаю вам, что Роза Келлер, прабабка нынешней Розы Келлер, тоже была жертвой маркиза де Сада. До 1768 года она была бедной, но добропорядочной вдовой и зарабатывала на жизнь как приходящая прислуга. Но в тот год ее постигло несчастье: многомесячный суд, тюрьма, издевательства, угрозы, и в конце концов у нее остался лишь один выход – торговать своим телом. Спустя почти двести лет ровно такая же судьба постигла Розу Келлер, правнучку Розы Келлер.
Надо ли еще что-то добавлять к вышесказанному? Все важное я изложила. Попрошу вас только об одном: поймите, если в этой истории и есть убийца, то он или она не бросили вызов законам человечества, а всего лишь поддались давлению обстоятельств своей частной жизни.
Фрагмент из дневника Розы Келлер
[…] Париж – Багамские острова, зима – весна 1948 года
Сомкнув веки однажды поутру, холодной парижской зимой, после тревожной бессонной ночи, я решила распрощаться со снегом и с ночами, почти такими же белыми, как в Петербурге; мало-помалу мне окончательно опротивели эти ночи без клиентов, без пропитания, даже без отопления.
В те недолгие минуты, когда мне удавалось забыться сном под жалким рваным одеялом, я переносилась в цветущие тропики, где на солнце тысяча триста градусов тепла, фрукты – сочные, пылающие всеми красками на свету, а по ночам, не боясь замерзнуть, распахиваешь дверь на балкон, овеваемый ласковым бризом, теплым бризом с запахом селитры, несущим морскую пену с ароматом кофе и кокосов, а по ночам темно по-настоящему, о да, непроглядная тьма… И я радовалась не менее, чем бедуин, который после перехода через пустыню вдруг ступает на ледник.
В часы бессонницы, в бесконечные часы, когда из разбитых окон на меня сыпался град, смешанный с негаснущим светом, я страдала, что моя горемычная прогоревшая печка (старая кастрюля с угольками) ничем мне не может помочь, а снежная буря морозит на моих щеках реки слез; вот так я мучилась, а сама вместо завтрака лизала ледышку, в которую превратился чай со спиртом. К полудню я еле-еле вставала с постели и проклинала свою нищету: мне нечего было обуть, кроме рваных бот, нечего надеть, кроме отрепьев, а надо было идти выторговывать угля на полфранка на старом складе на площади Согласия. Итак, из-за всех этих мелочей жизни, которые люди объясняют тем, что война кончилась совсем недавно, а я объясняю морозами и белыми ночами (точно так же, как жители этих островов объясняют свои несчастья зноем, ураганами, а также тем, что вокруг вода и тропики), и поскольку мне уже разонравилось постепенно превращаться в футуристическую моржиху, однажды утром, когда Париж дал мне не больше, чем Йокнапатофа, а Сена показалась мне неотличимой от текучей воды в унитазе, я собрала безделушки и воспоминания, воспоминания и безделушки (ни без первых, ни без вторых невозможно обойтись) и решила уехать, но у меня не имелось ни денег, ни паспорта.
Итак, в то утро, хотя в моем пустом животе трубы кишок наигрывали нестерпимое аллегро, я собралась с духом и навестила кое-каких загадочных господ, шестерок местной начинающей мафии, чтобы попросить у них, вымолить, выклянчить, выцыганить немножко денег под гарантию «потом верну с процентами», но для покупки билета на самолет требовалась кругленькая сумма – вообразите, сколько раз мне ставили дополнительные условия, сколько раз мне пришлось развязывать и завязывать пояс, расстегивать и застегивать пуговицы, раздеваться и одеваться, чтобы убедить их, что я сдержу (ага, как же) слово, и, хотя в угрозах не было недостатка и сотни немигающих совиных глаз следили за мной, опасаясь побега, я сумела, под предлогом прогулки в лес по шампиньоны, выскользнуть из города, но меня перехватили за несколько метров до аэропорта: двое мужчин схватили меня, затолкали в автомобиль, один из похитителей ударил меня по затылку, и я лишилась чувств. Очнувшись, я обнаружила, что связана по рукам и ногам и прикручена веревкой к стулу в заброшенной мастерской, холодной (хотя и не настолько, как моя каморка на площади Согласия), грязной и такой сумрачной, что я решила воспользоваться отсутствием света и поспать. Мои похитители, сидя передо мной, беседовали, потягивая напиток из одной бутылки без этикетки, и курили самокрутки синего цвета. Один из них, увидев, что я приподняла голову, позвал третьего: тот, похоже, был их главарем и звался Гастон Сад. Все трое начали переглядываться и смеяться: то ли чтобы меня напугать, то ли чтобы я позавидовала их кривым черным зубам. Как бы то ни было, они вздумали плевать мне в лицо. Я знала, что они это проделают: когда перед связанной женщиной стоят трое мужчин, да к тому же по стечению обстоятельств все это происходит в мастерской и один из мужчин хочет свести счеты с несчастной, тогда уж наверняка без плевков не обойдется, и только искусная пловчиха не утонет в море слюны. Но они не удовлетворились ни плевками, ни несколькими пощечинами, ни дерганьем за волосы, ни зловещим ножом, который, как я знала – мне словно бы кто шепнул, – резал только платье, не повреждая кожу. Один за другим они забирались на меня, и, честно говоря, я не хотела бы рассказывать, что они со мной делали, но…. Итак, первый, Гастон Сад, разрезал на мне платье ножом сверху, а дальше разодрал в лоскуты руками. Ощущая прикосновение смертоносного лезвия, я решила не сопротивляться, так как любое резкое движение могло взбесить их или заставить клинок соскользнуть… Итак, Сад отбросил лохмотья и, увидев, что не может раздвинуть мне ноги, так как эти идиоты сами связали их вместе, плюнул мне на промежность и все равно прыгнул на меня; стул, на котором я сидела, опрокинулся на спинку, я ударилась головой и снова потеряла сознание. Когда я пришла в себя, мое положение ухудшилось.
Сад пытался разжать мне челюсти и вставить в рот то, чему там было не место, но мне как-то нужно было дышать, и я дергала головой, задевая губами головку того, чему в моем рту было не место, а Сад не досадовал – только сильнее возбуждался; он попытался меня задушить, стискивая шею и требуя взять в рот то, чего мне нельзя было брать в рот под угрозой задохнуться. К счастью, регулярные прикосновения моих губ выжали поток зловонной и кипящей жидкости, которая скопилась в уголке моего левого глаза, точно сгусток слез, и тогда Главарь отказался от своих абсурдных затей, но моя судьба облегчилась лишь на миг: в мою промежность впился пиявкой второй, а сменить Главаря уже спешил третий; Главарь же отошел в угол, чтобы выкурить синюю самокрутку и понаблюдать со стороны.
Третий зациклился на моем ухе. Раз десять он облизал его холодным языком, а затем возомнил, будто сможет протолкнуть в узкое отверстие моего чувствительного уха то, что никак не могло туда войти, и при этом, дыша на меня невыносимым смрадом, орал, что доберется до барабанной перепонки и до самого гипофиза, не будь он Крюк (такова была его кличка). Я пыталась убедить его, что эта операция доставит больше неудобств ему, чем мучений мне, но он остался глух к моим доводам (возможно, в основе его действий лежала зависть к моим ушам), с маниакальным упрямством дернул за мою серьгу и разодрал мне мочку уха. Но на том дело не кончилось. Поняв, что введение в ушное отверстие невозможно, сколько бы он ни тужился, он ударил меня кулаком в тот же глаз, куда попали выделения Сада, и, плотно усевшись задом мне на лицо, принялся мять то, что в моем ухе не поместилось, дабы оросить рвотой мои щеки; вскоре от тяжести этого монстра мое лицо от недостатка воздуха побагровело, едва ли не почернело. Я смогла перевести дух только потому, что Сад отпихнул ногой Крюка, но надо мной нависла новая опасность: вожаку наскучило быть пассивным зрителем и, докурив сигарету, он по-новому распорядился моим телом, и тогда Пиявка впился мне в губы своим мерзким ртом, а рот какого-то человека, которого я не могла разглядеть, впился в зад Пиявки, который смирился с этим без ропота и удивления, а Гастон Сад вошел в меня, а сам, закатив глаза, вылизывал белые веснушчатые ягодицы неизвестного, стонущего баритоном. Этот змеиный клубок не распадался больше часа, но я каким-то чудом выжила.
Все мы четверо стонали. Я, естественно, от боли. Но одновременно я притворялась, чтобы их развлечь: закричи я, они вконец распустили бы руки, чтобы заставить меня замолчать, и теперь я не писала бы этих строк. После того как эти трое разбойников испробовали все доступные их воображению комбинации из четырех тел, они решили вычесть единицу из этого неудобного числа и, сделавшись кощунственной троицей, отошли в угол покомбинироваться среди своих; они позабыли обо мне и о ноже Главаря, валявшемся в нескольких метрах от моих рук, которые, несмотря на путы, сумели ценой огромных усилий дотянуться до ножа; так, миллиметр за миллиметром, я разрезала веревки сначала на запястьях, потом на ногах.
Измочаленная, истерзанная болью, с лужей крови в ухе, со слипшимся лобком, я еле-еле встала на ноги. Трое незадачливых мафиози позабыли, что надо было хотя бы допросить меня, что нельзя было меня так оставлять; им следовало бы продолжать избиение, или сторожить меня, или обуть в «бетонные сапоги» и бросить в Сену за неуплату или за попытку обмануть преступников – результат тот же. Однако троица сцепилась в клубок взаимоуслаждения и не разглядела, что я в двух шагах от них пригладила волосы, очистилась, как могла, от всего липкого и вонючего, облепившего тело, отшвырнула рванье, в которое превратилось мое и без того изношенное платье, и выбрала среди одежды куртуазной троицы все, что мне помогло бы сбежать очень далеко, где до меня не доберутся эти трое, в тот момент изображавшие цветущий клевер.
Я направилась в аэропорт, на сей раз имея при себе чуть больше денег: в карманах гангстеров я нашла пачку франков и даже ключи от машины, на которой меня увезли. Итак, нажимая на газ так, словно мне хотелось продавить педаль до самой преисподней, я спаслась бегством. На самолет до Багам я опоздала, а барышня за стойкой, заметив, как я нервничаю, любезно устроила меня на следующий рейс, вылетавший через пять дней, но, увидев, что эта перспектива меня далеко не успокоила, предложила мне вылететь в Танганьику, а там сделать пересадку и все-таки достичь вожделенных островов. Излишне упоминать, что я запрыгала от счастья и даже хотела обнять и расцеловать девушку, но та – возможно, ощутив легкое дуновение моего смрада, – загородилась руками и пожелала мне удачи.
В четыре часа дня по местному времени объявили о посадке в Дар-эс-Саламе. Не могу отрицать, что этот город, а точнее, его звонкое имя, словно перенесло меня в сказки «Тысячи и одной ночи». Когда я спустилась по трапу, нелепость моей одежды стала почти незаметна среди стольких человек, завернутых и затянутых в продукцию более тысячи текстильных фабрик со всего мира. По словам любезной барышни из парижского аэропорта, в Дар-эс-Саламе мне предстояло пробыть лишь около трех часов, ибо в шесть вечера по местному времени я должна была сесть на самолет компании «Танганьик эйр», вылетающий в Нассо, и, если я до отправления тихо посижу в уголке аэропорта, со мной все будет нормально. В половине шестого по местному времени я решила обратиться в справочное бюро аэропорта, чтобы спросить о шестичасовом рейсе «Танганьик эйр». Там мне порекомендовали прочесть надписи на табло, но сколько я ни искала, ничего не обнаружила и потому вернулась в бюро потребовать разъяснений. «Для этого вы здесь находитесь», – сказала я с властностью клиентки мужчине за окошком. Тот оглядел меня, выгнул бровь, словно бы сомневаясь в моем здравом рассудке, пошушукался по-немецки с коллегой; последний попросил у меня паспорт, и через три минуты я уже оказалась под арестом в иммиграционной службе, раздетая догола, делая мостик перед парой доберманов, которые обнюхали меня вволю, погружая свои мокрые носы во все попавшиеся отверстия. Очевидно, пахло от меня чрезвычайно дурно, потому что псы безутешно завыли и только после того, как мне разрешили принять ванну и смыть пятна крови и спермы – предварительно сфотографированные и изученные полицейским экспертом, почти неотличимым от полицейских собак, – любознательные животные смогли успокоиться.
В шесть часов вечера по местному времени, когда мне полагалось сидеть в лайнере «Танганьик эйр» лицом к Нассо, я обнаружила себя в засиженной мухами комнате перед вспыльчивой женщиной в парике, которая сунула мне карандаш, чтобы я заполнила анкету о моей прошлой, настоящей и будущей жизни. Я сказала ей, что могу рассказать о двух первых, но, боюсь, буду вынуждена опустить подробности третьей, так как, говоря начистоту, не планирую ничего, кроме самоубийства; и я разрыдалась так громко, что в комнату прибежали две женщины в форме таможенниц и попытались утешить меня фразами на невесть каком языке, столь странном, что я еле поняла, что они меня не понимают и что в этих местах напрасно надеяться на взаимопонимание с людьми… Но все же им удалось меня успокоить, пока они препровождали меня в мрачный застенок в конце душного коридора с наклонным полом, коридора, ведущего, казалось, в глубины ада.
Камера не освещалась, если не считать тусклого света масляных ламп, которые, видимо, повесили в коридоре, чтобы крысы и москиты не сбивались с дороги и тем самым дополнительно портили жизнь тех десяти – двенадцати человек, которые, как и я, были задержаны по различным подозрениям. В два часа ночи по местному времени я безуспешно пыталась заснуть на охапке соломы, которую свалили в углу на манер матраса. Я постоянно ворочалась с боку на бок и иногда проваливалась сквозь солому, тогда приходилось вставать, сгребать соломинки и снова пытаться расслабиться, насколько это было возможно. В очередной раз выбравшись из-под охапки, я заметила в коридоре движущиеся тени: кто-то шел к камере. И действительно, шаги затихли прямо перед решетчатой дверью, раздался перезвон ключей, и кто-то вошел. «Меня прислал Вильгельм фон Сад, встань и следуй за мной», – приказала тень на почти безупречном французском, и, так как это внушило мне доверие, я повиновалась. Я встала, последовала за тенью, села вместе с ней в фургон и проехала не меньше двух часов – я подсчитала – по темным джунглям. Мы не обменялись ни словом. Когда мы приехали, тень жестом велела мне выйти. Я пошла за ней к бревенчатой хижине, около которой журчал ручей – я его не видела, но слышала. Внутри был полумрак. В середине комнаты сидела мужеподобная белая женщина, безобразная, с обритой наголо головой. Брови и лобок у нее тоже были выбриты. Она была нагая, как и чернокожая девушка, подавшая нам чашки с какой-то подозрительной жидкостью. Нагая, как и тень, которая отошла в сторону, чтобы сбросить с себя форму таможенницы. Очевидно, лысая дама была той самой вспыльчивой особой, которая приказала мне заполнить анкету. Лица двух других были мне знакомы – возможно, то были надзирательницы, которые отвели меня в камеру.
Поначалу насилия не было. Я сомневалась, что меня из добрых намерений угощают какой-то вязкой, горькой на вкус жидкостью, но все же осушила чашку, так как не ела уже больше трех суток, а если, как чувствовалось по взглядам этих трех женщин, меня ожидало испытание наподобие недавнего парижского, мне требовался как минимум глоток воды, чтобы собраться с силами и выдержать. По крайней мере, мне посчастливилось – сказала я себе, – что этой новой троице природа не дала членов, способных подниматься и разбухать, совершать необычайные и извилистые пенетрации. Но я жестоко ошиблась: бритая – которой нравилось именовать себя Вильгельмом фон Садом, – меж тем как две помощницы раздели меня и взяли под руки, достала из ниши, освещенной свечами, отполированный продолговатый деревянный тотем примерно три пяди длиной и два дюйма в диаметре, и набросилась на мою промежность.








