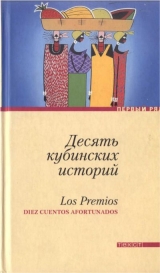
Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"
Автор книги: Антон Арруфат
Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Антон Арруфат
Оборотная сторона сюжета
© Перевод Ю. Звонилова
Итак, я надеюсь, найдут защиту мечта о правде и мой голос открытый.
Мануэль де Секейра
Ипполита Мору он как-то встретил на улице, наткнулся на него, выходя из книжной лавки, а может, видел его издали сидящим на скамье в парке Мисионес в чистенькой рубахе-гуайавере, которая его впечатлила, как доспехи тропической эпохи Средневековья. Во время этих рискованных встреч я ни разу не решился поприветствовать его, ни тем более попросить, чтобы он подписал мне свои книги. Потому что, когда я кем-то восхищаюсь, бываю по-глупому застенчив. Несмотря на то что у меня не было ни одного его автографа и я никогда не пожимал ему руки, очень мало читателей или исследователей так глубоко знали его произведения, как я.
Он читал и перечитывал его книги и все, что о них было написано. Всю юность и молодость его сопровождали произведения Ипполита Моры, критика, комментарии, интервью и фотографии писателя. Обычно говорилось, что его книги относятся к тем немногим, которые стимулируют, побуждают и даже вынуждают снова и снова возвращаться к ним, и в итоге, когда молодость уже прошла, кажется, будут с тобой всю жизнь, беспокоя и томя.
Его критическую статью на последний роман Ипполита Моры только что опубликовали в лучшем литературном журнале Гаваны, редактором которого он был. Эту книгу он прочел с большим интересом и удовлетворением. Возможно, она не была лучшей работой писателя, в ней уже проглядывал легкий – однако для него, столь восхищенного почитателя, трагичный – декаданс. Но были и другие, в которых проявлялась сила его воображения, подлинное вдохновение и смелость.
Разве не достаточно было того, что он их создал, чтобы и этот, возможно последний, роман писателя, учитывая его возраст, звучал убедительно? Один коллега из издательства иронично назвал его Тертуллианом Апологетом и заявил, что роман Ипполита Моры – это полный провал, подтверждение заката его таланта. Сейчас он и впрямь просто старик-писака, и, словно желая поведать о каком-то секрете, коллега приблизился к нему и наставительным тоном прокомментировал: «Надо уметь вовремя остановиться».
Тем не менее он чувствовал, что романист был достоин полной похвал статьи. Словно очередной камень, роман гармонично встраивался в здание прекрасного, загадочного собора, который возвели его гений и воля. После публикации критической статьи его стало обуревать желание, входящее в противоречие с застенчивостью, о которой он подчас совсем забывал: он жаждал познакомиться с Морой, пожать ему руку, услышать его голос… К желанию примешивалось чувство, которое очень удивило его, – любопытство, доходящее до насущной потребности узнать, прочел ли писатель его статью и что о ней думает.
Я трудился над ней больше недели и считал ее хорошей, возможно, даже блестящей работой. Внезапно он сделал нечто, что его поразило: аккуратно вырезал статью из журнала, положил в конверт и надписал адрес Ипполита Моры. Я оставил конверт на три дня на рабочем столе, прислонив его к фигурке фехтовальщика рядом с компьютером, никак не решаясь отослать. Глядя на конверт, я прикасался к нему, приветствовал его… но так и оставлял на столе. Может, наивно посылать статью Море? Наивно или тщеславно?
Иногда он думал, что это позволило бы ему приблизиться к писателю, выразить свое восхищение и симпатию. Но раз речь шла о возможности приблизиться, нужно было действовать более последовательно и безукоризненно: я открыл конверт, поставил подпись рядом со своим именем в конце статьи и тут же нечетким, нервным почерком указал адрес и телефон. Прошло несколько дней, а конверт все еще стоял на том же месте. За это время планы немного изменились. Он попытался найти номер телефона Моры в справочнике, но безрезультатно: это был частный номер, не включенный в справочник. Он поспрашивал у друзей, но ни у кого не оказалось его телефона. Номер Моры? Ты с ума сошел. Он затворник. Ни с кем не встречается и не общается. Пишет на печатной машинке, и у него нет электронной почты, пояснил ему один из коллег в редакции.
В итоге, после того как второй план провалился, он решил-таки воплотить в жизнь первоначальный и бросил конверт в ящик. Прошло несколько беспокойных дней. Мой телефон молчал, и в почтовом ящике было пусто. За это время он прочувствовал всю ненадежность почты: как можно предавать что-то личное в незнакомые руки? Именно таким было его ощущение, когда он опускал конверт в темную пасть ящика: он отправлял личное сообщение наугад, отдавая его в чужие руки, на волю чужих людей.
Возвращаясь домой из издательства, он прослушивал автоответчик, но среди сообщений не было того, которое он так ждал. Истекшие дни прояснили решение Ипполита Моры: нет, он не собирался ни писать, ни звонить мне. Обычно его преследовала одна фантазия, это были сотни публикаций, сваленные грудой на огромном заброшенном столе в центре незнакомой ему комнаты.
Я решил прибегнуть к новой стратегии сближения: обойти все места, где раньше когда-либо его встречал. Несколько раз заходил в книжный магазин в одно и то же время. Прошелся по парку Мисионес. Посидел на той же скамье, где однажды, я видел, он сидел, положив ногу на ногу в своей гуайавере, напоминающей доспехи. На деревья опустились сумерки, и море в бухте потемнело. Мора так и не появился. Я устроил глупую слежку из-за угла его дома. Смотрел на балкон и на закрытые окна…
Однажды утром коллега из редакции сообщил ему, видя, как упорно он ищет встречи с Ипполитом Морой, что тот обещал быть в четверг на вечере у Анны Моралес. Постарайся добиться, чтобы тебя пригласила эта прославленная поэтесса. После ироничного замечания коллега посоветовал захватить с собой бутылку красного вина «Сангре де Торо». В просвещенных кругах ходили слухи, что это было единственное вино, которое признавал его идол, и приятель пожелал, чтобы бутылка послужила в качестве посланника.
На память пришло интервью, хранящееся в его архиве, одно из немногих интервью писателя, где Ипполит Мора с удовольствием описывал свойства вина, стимулирующие творческое воображение, и цитировал стихи Бодлера о «вине одиноких и влюбленных», а потом ссылался на собственный опыт, упомянув при этом марку своего любимого вина – именно того, о котором сказал ему коллега.
А как его купить? Приятель мотнул головой, жестом показывая: на деньги, разумеется, на доллары, и хитро усмехнулся. В тот же четверг, за несколько часов до вечеринки, ему удалось заполучить приглашение. Ему пришлось провернуть невероятную, наполеоновскую по размаху кампанию. Он обзвонил кучу народа, прошелся по всем знакомым, разослал письма по электронной почте, направил телеграмму другу, у которого не было телефона и на чье содействие он так рассчитывал. Пожал руку близкому другу поэтессы, с которым едва был знаком и о котором, как он помнил, когда-то отзывался с презрением. Пока он пожимал эту руку с необычайно братским чувством, он восхвалял, полный воодушевления, поэзию Анны Моралес, которую никогда не читал.
На каждом этапе этой демонстрационной кампании, которая вызывала в нем стыд, он упоминал о вечеринке в четверг, то намекая, что хотел бы там присутствовать, то говоря об этом совершенно открыто. В конце концов он так и не узнал, какой из этих маневров привел к достижению цели. Незнакомый голос объявил по телефону, что он приглашен. Тогда он снял часть своих сбережений и прошелся по магазинам. В одной из витрин он обнаружил бутылку любимого вина Моры, с восторгом посмотрел на нее и, как идиот, прижал руку к стеклу, пока пересчитывал свои песо – в кармане была точная сумма, и потом направился к обменному пункту. Спустя несколько минут бутылка была у него в руках.
После стольких усилий, предпринятых, чтобы преодолеть масонскую исключительность, которой были окружены собрания у поэтессы, после стольких детских боев и покупки вина я чувствовал себя совершенно измотанным и даже готов был отказаться от приглашения. Но, как это обычно случалось, из самой этой изможденности вдруг родилась неожиданная энергия, и он начал готовиться к визиту. Какое дело ему сейчас было до тех унижений перед совершенно не интересовавшими его поэтами, у которых он просил о нелепой услуге? Этим вечером он встретится с Ипполитом Морой и наконец-то сможет сесть рядом с ним, преподнести ему его любимое вино, вслушаться в мелодику и интонацию его голоса и, находясь в потоке – так писатель называл состояние вдохновения, – долго беседовать с ним.
С ритуальной неспешностью он побрился и принял душ. Начистил ботинки и надел свою лучшую одежду: индийскую белую рубашку ручной работы и льняные брюки. Обернул бутылку в подарочную бумагу и положил в пакет. Он справился с волнением и не стал приходить одним из первых – не только из естественной потребности продлить ожидание, но еще и потому, что тренировка силы воли, сдерживание желания вызывали в нем новый прилив удовольствия.
Все было не так, как он себе представлял. Вместо дома с садом и верандой, где могла бы проходить вечеринка, он поднялся на пятый этаж по узкой лестнице с отбитыми мраморными ступеньками. Это был не дом, а три просторные сырые комнаты, где стояло множество стульев вдоль стен, а в глубине последней комнаты, между двумя высокими окнами, выходившими на морскую набережную, высилось подобие кресла, покрытого шалью с белыми цветами. На нем восседала хозяйка гостиной, именитая поэтесса.
Подходя к хозяйке, чтобы поприветствовать ее и представиться, он заметил, глядя на ее длинные ноги и макушку головы, что она была довольно высокой. На ней было блестящее, облегающее фигуру платье без рукавов из темно-зеленого шифона, доходящее до щиколоток, черный бант на шее и жемчужные бусы, намотанные на запястье как браслет.
У него возникло ощущение, будто он стоит перед фотографией двадцатых годов.
Хотя он ничего и не читал из ее стихов, но знал по бесконечным гаванским слухам, что нынешним богом ее поэтического творчества был авангардизм конца двадцатого века. Ее анахроничный наряд особенно подчеркивал противоречие между ее фигурой и стихами, которые она писала. Когда он поклонился, чтобы поприветствовать ее и назвать свое имя, она холодно протянула ему кончики своих пальцев, усеянных дешевыми сверкающими перстнями.
Розовая кожа и белесые волосы придавали еще больше фальши ее облику ирландки. Чтобы защитить хозяйку от близости незнакомца, на колени ей вспрыгнул сиамский кот и сел, угрожающе глядя на него желтыми глазами.
В этом красивом животном одна интересная особенность привлекла его внимание: глаза кота слегка косили, как будто намекая на что-то, и это же выражение он заметил в сияющих черных глазах хозяйки. Когда он произнес свое имя, ни один мускул не дрогнул на ее обильно накрашенном лице с глазами, подведенными толстым черным карандашом, как у роковых женщин немого кино, героинь Полы Негри [9]9
Пола Негри (урожденная Барбара Аполлония Халупец) – актриса польского происхождения, звезда и секс-символ эпохи немого кино.
[Закрыть]. Он не знал, выпрямиться ли ему или остаться навсегда склоненным перед ней, придерживаясь за сиденье кресла. Словно нарочно выждав несколько секунд, она разжала губы, накрашенные насыщенным темно-лиловым цветом, и поставленным голосом, которому пыталась придать искусственную мягкость, ответила на приветствие:
– Добро пожаловать. Пусть будет приятным ваш первый визит в мой дом. – И снова погрузилась в свою молчаливую неподвижность. Она и кот слились друг с другом, как древняя египетская статуя. Только на миг была нарушена твердость священного камня, когда поэтесса положила руку на круглую голову животного. Кот на секунду сладостно прикрыл свои удивительные глаза.
Церемония приветствия была завершена. Я выпрямился и прошел в комнату, чтобы занять один из стульев, таких похожих между собой, что казалось, будто они принадлежали одному огромному столовому гарнитуру. Приглашенные Анны Моралес начали рассаживаться. Только мой первородный страх и строгое воспитание могли объяснить, прежде всего мне самому, почему я перед поэтессой ни словом не обмолвился об Ипполите Море. У меня на языке крутилось множество вопросов, но они так и завязли в горле невысказанными.
В комнате ничто не привлекало его внимания и не вызывало интереса; как человек, пребывающий в ожидании, он не мог сконцентрироваться ни на чем, кроме предмета ожидания. Потушили свет, и под потолком зажегся синий луч прожектора. Какой-то поэт – он не видел, как тот прошел в темноте, – остался один в свете луча посреди темного пространства и, казалось, был обернут в голубой целлофан.
Держа в руках несколько листов, он был готов начать читать, но, кажется, ждал какого-то сигнала. Поэтесса со своего украшенного бахромой кресла взмахнула рукой в знак начала «цветочных игр» – поэтического состязания. Когда поэт закончил чтение, прожектор потух. Второй чтец встал и, как тень, проследовал к центру комнаты. Вновь загорелся синий луч, и поэт вошел в целлофановую камеру. Несколько выступающих прошло через нее. Выходя из камеры, они снова садились на свои места, как будто ничего не происходило. И в самом деле, разве что-нибудь произошло?
Как вежливый человек, он делал вид, что внимательно слушал, хотя в действительности, далекий от всего, находился на другом конце длинного туннеля, как сквозь туман воспринимая стихи под фабричной маркой «авангард конца века». Вообще, поэзия, хорошая или плохая, не была предметом его интереса, не входила в круг его увлечений и зачастую раздражала или вызывала скуку. Некоторые стихи казались ему увлекательной словесной шарадой, и какая-нибудь яркая, точная, талантливая строка вырывала его из погруженности в ожидание, и он отводил взгляд от двери и переставал вслушиваться в звук шагов на лестнице…
Но затем какая-нибудь нелепость, чепуха своей безнадежной гримасой снова отвращала его, и он возвращался в состояние ожидания. Нет, это поднимался не он, не он входил в дверь…
Среди слушателей проносились меткие, с чувством юмора суждения и уже известные второсортные циркачества, между тем как те, кто уже отчитал, передавали друг другу на потемневших металлических подносах чашечки с чаем, чипсы и рюмки с ромом.
Я не вытаскивал бутылку из пакета, держа ее рядом с собой, и совершенно не собирался ставить ее на «общий стол», если только Ипполит Мора с триумфом не появится на пороге. На некоторое время – видимо, это тоже было частью программы вечера – прожектор потух и комната погрузилась в темноту. И, как по приказу хозяйки, большие часы с маятником, на которые он обратил внимание, занимая свое укромное место, начали громко бить полночь, их металлический, тяжелый звук отличался от заключительного удара. Прямо как в «Заброшенной земле» [10]10
«Заброшенная земля» – стихотворение Т. С. Элиота.
[Закрыть], произнес один из поэтов в темноте. После последнего удара зажегся свет. Все замолчали, и он решил, что настал черед хозяйки вечера. Как и в предыдущие разы, он ошибся.
Анна Моралес продолжала сидеть на своем кресле в цветах прямо напротив старинных часов на консоли, и пока он ждал, что она встанет и займет место в голубой камере, зазвучала музыка. Она доносилась из глубины дальней комнаты. Какой-то певец хриплым и грустным голосом под скудный аккомпанемент пел болеро. Поскольку Анна Моралес была единственной женщиной среди присутствующих, никто не танцевал. Кот спрыгнул с ее юбки и улегся рядом с креслом, и тогда поэтесса встала.
Он убедился, что она была высокого роста, худая, и от нее исходила какая-то странная притягательная сила, несмотря на фальшь или благодаря ей. Она прошла вперед, остановилась перед ним и протянула ему руку, приглашая на танец.
– Я всегда танцую первый танец с новым гостем.
Он решительно встал, сунул пакет под стул и, приняв ее приглашение, приобнял ее, встав с ней в пару. Иногда я действую так, словно пружина, долгое время сжатая внутри меня, вдруг распрямилась сама собой. Танцуя, они переместились в центр комнаты. Поэтесса двигалась в такт музыке и танцевала очень неплохо, ее тело было пластичным и гибким. Я немного приподнял наши руки, тем самым подчеркивая старомодность танца. В танце вел я, но, по сути, я подстраивался под ее стиль. Мы танцевали медленно, с каждым кругом все плотнее и плотнее прижимаясь друг к другу.
Постепенно он начал проникать если не в голубую камеру, то в таинственную ауру, в которой царил аромат Анны Моралес. Был это запах духов или ее кожи?
Возможно, к теплому запаху ее тела примешивался аромат удачно подобранных духов. В юности я отлично танцевал и считался лучшим среди ребят. Когда выстрелила еще одна сжатая пружина, он почувствовал, как тело с удовольствием вспоминало прежнюю ловкость, которая заржавела среди чтения книг и написания статей.
Поскольку больше никто не танцевал, все сидели на своих местах и наблюдали за нами.
– В этот четверг никто из поэтесс не пришел на вечер? – поинтересовался гость.
– Ни в этот, ни в какой другой, юноша. Я не выношу женщин, которые пишут стихи. Как считали греки, древние боги страдали от одной страсти – завистливого соперничества, и на этом тропическом острове я приписываю ее тем, кого очень точно называют «поэтессами». В истории кубинской поэзии я признаю только Авельянеду и Лойнас [11]11
Дульсе Мария Лойнас (1902–1997) и Гертрудис Гомес де Авельянеда (1814–1873) – кубинские писательницы, поэтессы.
[Закрыть], и это верх моей терпимости. Но и этих двоих я не пригласила бы на мои четверговые вечера, – подытожила, хитро улыбаясь, она.
В итоге получалось, что она была не только единственной женщиной-поэтом, по крайней мере в рамках ее вечеров, но и вообще единственной женщиной, с которой тут можно было танцевать.
– После, – добавила она, указывая на поэтов, – я приглашу потанцевать каждого из них и дам им возможность насладиться счастьем дер жать меня в своих объятиях. Они будут счастливее, чем если бы им пришлось обнимать донью Гертрудис или донью Дульсе. Я знаю, некоторые из них жаждут, чтобы я поскорее завершила эту часть программы, чтобы безнаказанно танцевать среди них. После того как они потанцуют со мной болеро – если они, конечно, договорятся между собой, – я доставляю им еще и это удовольствие.
Узнав о том, что ему хотелось бы посетить ее вечер, она, прежде чем принять решение пригласить его, изучила его биографию и попросила поэтов принести ей почитать его критические статьи. Он очень удивился, что слухи о нем дошли и до нее и что она прочла его работы. Чем все это могло закончиться? Услужливые поэты, стараясь угодить, тут же достали ей кучу экземпляров журнала. Его статья ей понравилась.
– Думаю, что Ипполит в конце своей долгой карьеры заслуживает эту статью скорее благодаря своему прошлому, нежели благодаря недавней работе.
– Да, так говорят, – отозвался он недовольно.
– А вы, молодой человек, этого мнения не разделяете? – спросила с тонким намеком Моралес.
Высоко оценивая роман писателя, он так категорично высказал свое несогласие, что это испугало его самого. Поэтесса перестала танцевать и с восхищением посмотрела на него.
– Если бы меня кто-нибудь защищал с такой убежденностью после моей смерти, я бы спокойно отошла в мир иной, – тронутая его горячностью, заметила она.
– И у вас будет такой человек, – произнес он в порыве чувства, чуть не назвав ее по имени.
Они продолжили танцевать. Отпуская очередную пружину, он крепче притянул к себе ее талию раскрытой ладонью. Он все сильнее сжимал ее. И через свои пальцы, и сквозь гладкую ткань платья он чувствовал пульсацию крови Анны Моралес. У нее вырвался неоднозначный вздох. Ясный язык души. Гость догадался по звуку, что она произнесла любимую строку из стихотворения, и она коснулась его бедром между ног.
– Это болеро мы обычно танцевали с Ипполитом. Это была наша любимая мелодия… А вы так молоды, – произнесла вдруг она. – Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу вам сказать…
Бедро поэтессы снова коснулось его. Но на этот раз он ждал напрасно – бедро она не отвела. Без сомнения, это был ее ответ. Его пружины выскакивали, освободившись, и ее, кажется, делали то же самое. Разве не отвечало давление ее ноги тому, как он сжимал ее в объятиях?
– Мы танцевали немного по-другому, – продолжала поэтесса, – он был выше меня, и я клала голову ему на плечо.
Теперь я также чувствовал беспокойное биение крови в своем органе, и каждое новое прикосновение все больше усиливало его, пока наконец не довело до полного возбуждения.
– Ипполит был восхитительным мужчиной и ужасным поэтом.
Однажды, этот день Моралес считала очень печальным, он перестал писать стихи и появляться на ее вечерах.
Узнав эту новость, гость чуть не отодвинул ее резко от себя и чуть не оставил стоять посреди комнаты. Совершенно не своим голосом, едва сдерживая крик, он спросил: «Так, значит, он не придет?» – чтобы хоть как-то прояснить это «перестал появляться», которое поэтесса произнесла, как зловещая богиня мщения Эриния.
– Уже несколько лет он не приходит, – ответила она неумолимо.
Гость прошептал: «Но меня уверяли…»
– Вас направили по ложному следу, молодой человек. Мы живем в городе, полном слухов. Один известный писатель, имя которого я не хочу упоминать, блистательно определил его как город молвы.
Поскольку их прежняя связь с Ипполитом Морой была довольно тесной, поэтесса предполагала, что они оба следили за жизненным путем друг друга, но только издалека, и каждый пытался побороть свою химеру, не читая ни строчки из того, что писал другой.
– Я принадлежу к его прошлому, а он в один драматичный период своей жизни порвал с этим прошлым, стремясь к классицизму и тишине.
К чему все это приведет? Он не за тем пришел – «явился», как сказала бы прославленная поэтесса, – чтобы слушать ее рассказ о тайной любви к Море, держать ее в объятиях и чувствовать, как она зажимает его бедром между ног…
Тем не менее именно это и произошло. Эх, если бы жизнь не была такой запутанной! Одна часть его существа реагировала на эти стимулы, и он все еще, как загипнотизированный, находился под властью Анны Моралес. Коллега из редакции утверждал, что ее привлекали монстры, священные чудовища. Ему нужно было очнуться от этого гипноза, но у него не получалось прийти в себя, он даже не мог хоть на чуточку отодвинуться от ее сверкающей зеленой фигуры. Да и музыка никак не останавливалась, словно проигрыватель был намеренно запрограммирован и снова и снова повторял болеро с начала, как только оно заканчивалось. После очередного круга в танце – как же он желал, чтобы этот круг был последним, – он услышал смущенную просьбу из сияющих уст поэтессы.
– О чем это еще написать? – с пренебрежением поинтересовался он.
Моралес молчала, она едва двигалась, было видно, что она чувствовала себя униженной.
Но тут же она снова продолжила танцевать, как будто воодушевившись.
– О моей поэзии, – вызывающе ответила она.
Он попытался уйти от ответа. И в самом деле, Анна Моралес не могла не знать – после их разговора он в этом был просто уверен – истинной причины его присутствия на вечере. Почему бы ему не направить в другое русло свою приверженность к творчеству Моры?
– Я ничего не знаю о поэзии и совершенно не разбираюсь в этой теме.
В ответ на свою реплику он услышал поразительное заверение, которое поэтесса, казалось, продумала заранее, готовясь к возражению с его стороны.
– Тем лучше, я не ищу специалиста. То, что они пишут, может показаться интересным, хотя часто я с этим не соглашалась, но это никогда не будет чем-то вызывающим. Мне нужна оценка тонкого, образованного критика, пишущего о другом жанре, критика, который вступил бы на новое поле со своим привычным оружием, docta ignorantia, ученое незнание, – завершила она латинским выражением.
Однако с некоей досадой она заметила, что гость не был готов писать о ее поэзии. Казалось, Ипполит Мора завладел его душой и властвовал над нею издалека, как колдун или чернокнижник. Тогда она решилась пустить в ход последнее средство, самое действенное, которое сыграло бы на этой самой преданности, и раз оно могло приблизить его к долгожданной встрече с идолом, оно также могло бы вынудить его согласиться на ее предложение. Не теряя ритма музыки и опасаясь, что ее карта окажется крапленой, она произнесла:
– Если бы жизнь не была такой запутанной…
Гость тоже двигался в такт и очень удивился, что она озвучила фразу, которую он недавно произнес про себя.
– И если бы одни дороги не переплетались с другими, а желания и стремления одних не вставали на пути других…
Она прервала свою мысль, как незаконченное вступление.
– Молодой человек, мне бы хотелось немного прояснить ситуацию.
Она не только собрала о нем информацию и прочла его хвалебную статью, когда ей сообщили, что он хотел бы присутствовать на ее четверговом вечере, но и нашла номер телефона Ипполита, который давно уже забыла. Ведь она подозревала, что его главным интересом было встретиться здесь с писателем…
Его вопль не дал ей закончить: как это, у нее есть телефон Моры?
– Я нашла его в старой записной книжке, – ответила она, решив, что первая победа одержана. – У Ипполита тоже есть мой номер, но мы никогда с тех пор не звонили друг другу.
Он холодно остановил танец и резко отстранился от хозяйки. То, что Мора сочинял стихи, прежде чем начал писать свой великолепный цикл романов, и оставил это занятие после драматического разрыва – по словам поэтессы, – было довольно любопытной деталью, о которой он не имел представления и которая, без сомнения, нуждалась в дальнейшем исследовании. Но тот факт, что у Анны Моралес был телефон его любимого писателя, полностью оправдывал и его присутствие на вечере, и ее бедро между его ног, и даже его собственное возбуждение.
– Где номер?
Его голос прозвучал так требовательно, как будто бы полицейский инспектор внезапно ворвался в комнату. Анна Моралес, прикрыв рот рукой, усыпанной драгоценностями, едва сдерживала смех, причиной которого была отнюдь не эта его настойчивость, словно в детективном фильме, но то, на что она указывала другой рукой.
– Какая у вас потенция! – воскликнула она, ликуя. – Прикройтесь, молодой человек, бесстыдное животное!
– Это вы его разбудили, – возразил он дерзко.
На светлой ткани его брюк ясно вырисовывался результат эрекции. Его уже не закрывала фигура поэтессы, и при свете гости могли без труда угадать его состояние. Он послушно выпустил рубашку и, как мог, прикрылся ею. Несколько поэтов зааплодировали, то ли удовлетворенно, то ли разочарованно.
– Мне нужен телефон Моры, – потребовал он, опуская взгляд: постепенно эрекция сходила на нет.
– Как жаль! – воскликнула поэтесса, почувствовав себя отстраненной.
Оба поняли, что это возбуждение – и ее бедро, и его бурная эрекция – было лишь зыбью между ними, проявлением неконтролируемого животного инстинкта, который ничего не значил.
И они перешли к последней части игры: поэтесса прояснила суть обмена.
– Давайте заключим договор.
Она выдержала паузу, которая могла быть интерпретирована двояко: либо ей было сложно продолжать из соображений морали, либо она пыталась вызвать в госте интерес, что было вполне естественно для ее характера. Тогда он решил поторопить развитие событий, которые замышляла хозяйка, и жестко спросил:
– Какой договор?
Анна Моралес взмахнула рукой в воздухе и, подойдя к нему, призналась, что речь шла об обмене, и без дальнейших колебаний выпалила: номер телефона взамен на критическую статью о ее поэзии.
Типичное «ты мне – я тебе», молча, про себя подумал гость и на минуту почувствовал неудобство жизни, как Фонтенель, переживая агонию. «Мелкое неудобство», – поправил он сам себя. Незаметно он посмотрел на свои штаны: их содержимое уже приняло, так сказать, нормальный размер. Если он примет ее предложение, он сможет отказаться от своего намерения переспать с ней, чтобы получить номер Моры, и все останется на уровне обещания, которое он никогда ни за что не выполнит. Это будет его способ предъявить ей счет за это «ты мне – я тебе», с помощью которого поэтесса хотела заставить его пойти на компромисс.
Он громко, ясно и твердо сказал ей, что принимает ее условие (но на что он никогда не пойдет, так это на упоминание этого ужасного словосочетания «четверговый вечер»). Они могут подписать договор в этой самой комнате, при полном освещении (можно даже включить еще и прожектор) и в присутствии ее поэтов.
По лицу Анны Моралес было видно, что благодаря женской проницательности она поняла издевку. Она промолчала и, подумав, отказалась подписывать договор, в особенности в присутствии ее поэтов. И тут в ней произошла какая-то перемена, совершенно неожиданная для гостя, но вполне привычная для поэтов ее круга, которые знали ее резкую смену настроений, где радость вдруг уступала место меланхолии: то было волнообразной природой ее личности.
– В то время, пока я ждала вашего прихода, – ее голос прозвучал неожиданно хрипло, – я страстно желала, чтобы вы вдруг решили посвятить себя моей поэзии.
Он был не простым гостем, а ангелом-хранителем, чьего появления ждет любой поэт, пока он жив. Для того чтобы выжить, поэту нужен чей-то голос, который бы объяснял его творчество, отчасти добавляя что-то от себя, и тем самым оправдывал его труды. И ей нужна была эта священная энергия, которая бы являлась одновременно и силой любовника.
– Когда вы пересекли зал и я увидела, как вы приближаетесь, чтобы поприветствовать меня, – молодым, энергичным шагом, безупречно красивый, – дрожь пробежала по моему телу. По какой-то случайности, ставшей судьбой, ко мне на вечер проник ангел-хранитель, любовник… Я едва нашла в себе силы ответить на ваше приветствие. К моему изумлению, передо мной предстали все спасительные качества, собранные в одном человеке. Но эта опасная иллюзия рассеялась.
Она замолчала на какое-то время, которое никто и ничто не могли бы измерить. Это было время без пространства, где-то в самой глубине души. Она желала, чтобы от этой разлетевшейся вдребезги иллюзии, фантасмагории еще осталось хоть что-то и чтобы гость вдруг смог стать ее ангелом-хранителем и любовником, дав ей благосклонный ответ. Но он решительно молчал. Тогда Анна Моралес подняла руку, которую, как змея, обвивал браслет, и, вернув голосу прежние интонации, объявила, что именно там, в браслете, находилось то, что более всего желал заполучить молодой человек, – номер телефона обожаемого романиста. И чтобы встретиться с ним, он надел свою лучшую импортную одежду.
– Из Индии, ведь так? – спросила она язвительно.
Из ее рук он получит награду. Ее, несчастную, брошенную женщину, он должен будет благодарить за встречу. Ипполит к ней так и не вернулся и тем самым лишил ее многих достоинств, в том числе ее духа и ее пола. Теперь он лишает меня еще и вас, она указала на него рукой, но на этот раз я не могу его винить. Я скажу даже больше, я посылаю ему на дом превосходный подарок. После ее слов (каждое действие, казалось, разыгрывается согласно партитуре) перестало звучать болеро и в комнате повисла роковая тишина. Поэтесса потянула двумя пальцами за только ей видимый предмет и вытащила сложенную бумажку. Он не смог удержаться и раскрыл рот и глаза от удивления, что эта мелочь представляла для него такую ценность.








