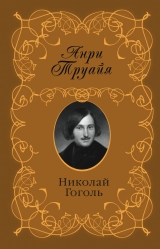
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
В понедельник на второй неделе поста духовник предложил ему приобщиться и собороваться маслом. Он с радостью согласился и выслушал все Евангелие в полной памяти. Он держал в руках зажженную свечу, и крупные слезы текли из его глаз. Вечером его попросили принять лекарство. «Оставьте меня! Не мучьте меня!» – закричал он. Кто ни приходил к нему, он не поднимал глаз, просил только по временам переворачивать его или подавать ему пить. Он старался оставаться в креслах. При том, что он желал смерти, он боялся лечь в постель, так как был убежден, что постель будет для него смертным одром. Однако силы его угасали, и он согласился наконец лечь на широкий диван. «Ежели будет угодно Богу, чтобы я жил еще, буду жив!» – пробормотал он, опуская голову на подушку.
Во вторник 19 февраля граф Толстой решил, что в борьбе со странной болезнью Гоголя первенство теперь будет принадлежать врачам, а не священникам. Теперь злых духов будут изгонять не с помощью веры, но с помощью методов современной науки; от идеализма перешли к позитивизму, от молитв – к микстурам. Явившись в дом графа Толстого, доктор Тарасенков увидел в передней комнате толпу почитателей таланта Гоголя, стоящих со скорбными лицами. «Что Гоголь?» – спросил он. – «Плохо, – сказал граф. – Ступайте к нему, теперь можно входить».
Гоголь лежал на диване в халате, в сапогах, отвернувшись к стене, на боку, с закрытыми глазами. В руках он держал четки. Против его лица стоял образ Богоматери. Когда доктор Тарасенков взял его руку, чтобы пощупать пульс, больной произнес: «Не трогайте меня, пожалуйста!» Пульс был слабый, скорый, руки холодноваты, дыхание ровное. Вскоре к доктору Тарасенкову присоединились врачи Альфонский и Овер. По общему согласию решили, что необходим гипноз, чтобы покорить его волю и заставить принимать пищу. В тот же вечер известный гипнотизер, доктор Сокологорский, великолепный в своей спесивой самоуверенности, появился у изголовья умирающего. Он возложил ему одну руку на лоб, другую на живот под ложечкой, нахмурил брови, но флюиды не действовали. Почувствовав раздражение от таинственных пассов гипнотизера, Гоголь сделал движение телом и простонал: «Оставьте меня!» Оскорбленный доктор Сокологорский отказался продолжать эксперимент и уступил место коллеге, известному своей настойчивостью доктору Клименкову. Будучи сторонником решительных действий, он стал кричать с ним, как с глухим:
– Не болит ли голова? – Нет. – Под ложечкой? – Нет…
Расспросы не дали результата. Однако, врачам удалось заставить больного выпить чашку бульона и вложить ему, невзирая на его крики и стоны, суппозиторий из мыла.
На следующий день, 20 февраля, около полудня собрался консилиум врачей в доме графа Толстого: Овер, Эвениус, Клименков, Сокологорский, Тарасенков, Ворвинский. Шесть знаменитых врачей, светила медицинского мира, обсудив причины упадка сил и угнетенного состояния больного (напряженная умственная работа, совершенное воздержание от пищи, упорный отказ от лечения), пришли к выводу, что его сознание не находится в натуральном положении. Доктор Овер прямо поставил вопрос: «Оставить больного без пособий, или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Доктор Эвениус тут же ответил: «Да, надобно его кормить насильно» После этих слов все врачи вошли к больному в комнату. Склонившись над Гоголем, они по очереди его расспрашивали и осматривали. «Его живот был так мягок и пуст, – напишет Тарасенков, – что через него легко можно было ощупать позвонки». Когда на все части его тела с силой давили, одолевали его нескромными вопросами, буравили проницательными взглядами, несчастный кричал и вырывался: «Не тревожьте меня, ради Бога!» Врачи, ставя диагноз, изъяснялись по-латыни: mania religiosa, gastro enteritis ex inanitione… Кто-то произнес даже слово «тиф». Доктора нахмурили брови. Звучали замысловатые ученые термины. Став мастером в искусстве доводить уродство до фантастических размеров, Гоголь с ужасом и отвращением видел себя жертвой этой бессмысленной суеты врачей у его постели. Мог ли он только представить себе в то далекое время, когда писал «Записки сумасшедшего», что на закате жизни будет испытывать те же муки, что и его несчастный и жалкий герой? «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею».[618]618
«Записки сумасшедшего».
[Закрыть]
Словно повинуясь указаниям автора, доктор Овер после консультации с другими врачами прописал поставить пиявки и сделать холодное обливание головы в теплой ванне. Затем врачи степенно разъехались, оставив самого решительного среди них, доктора Клименкова, проследить за строгим выполнением всех назначений. Гоголя схватили в охапку и поместили в ванну с горячей водой, в то время как слуга лил ему на голову холодную воду. После чего его положили в постель без белья, и доктор Клименков поставил ему к носу штук шесть пиявок. Вот и нос, о котором писатель столько говорил в своих книгах, стал поводом новых страданий. Жирные пиявки, висевшие у самых ноздрей, упивались его кровью. Извиваясь, они касались его губы. Гоголь твердил: «Не надо! Снимите пиявки, поднимите ото рта пиявки!..» Но никто его не слушал. Его руки держали силой, чтобы не дать ему снять с носа эту гроздь прожорливых червей с присосками.
К семи часам вечера доктор Овер вернулся к больному и решил, с согласия доктора Клименкова, поставить ему горчичники на конечности, мушку на затылок, лед к голове, а внутрь дать отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Доктор Тарасенков, который был свидетелем мучений страдальца, был поражен неумолимостью и грубостью своих коллег.
«Обращение их было неумолимое; они распоряжались, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Клименков приставал к нему, мял, вороча, поливал на голову какой-то едкий спирт, и, когда больной от этого стонал, доктор спрашивал, продолжая поливать: „Что болит, Николай Васильевич? А? Говорите же!“, но тот стонал и не отвечал».[619]619
А. Т. Тарасенков. Последние дни.
[Закрыть]
Наконец, врачи Овер и Клименков уехали, оставив доктора Тарасенкова одного у постели умирающего. Пульс Гоголя явственно упал, дыхание было затруднено. Лежа на боку, он был не в состоянии сам поворачиваться и только жалобно стонал от жжения горчичников. По вставлении нового суппозитория вскрикнул громко от боли. Потом он попросил пить. Глоток бульона. Он уже не мог сам приподнять голову, уже явно стал забываться, терять память. Часу в одиннадцатом вечера он закричал громко: «Лестницу, поскорее давай лестницу!»
В последней главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь написал: «Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней».
Эту лестницу, эту руку, их-то он и искал с тоской и ужасом при дрожащем свете ночника. Но он видел только очки человека, склонившегося над ним, золотой оклад иконы, пузырьки с лекарствами на столе. Раз лестница к нему не спускалась, он сам должен был идти к ней. Сделав мучительное усилие, он попытался встать, но ноги его больше не держали, голова кружилась. Доктор Тарасенков со слугой посадили его в кресло. Голова его уже не могла держаться на шее и падала машинально, «как у новорожденного ребенка», – скажет Тарасенков. Его опять уложили в постель, надели рубашку. Он потерял сознание. Потом обморок кончился, но он уже лежал с закрытыми глазами. Ноги его стали холодеть. Тарасенков положил ему в постель кувшин с горячей водой. Напрасно: он весь дрожал от холода. Его изможденное лицо покрылось холодной испариной. Под глазами появились синие круги. В полночь доктор Клименков сменил Тарасенкова. Чтобы облегчить страдания больного, он давал ему каломель и обкладывал все тело горячим хлебом. При этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Всю ночь он тихонько бредил. «Давай бочонок! Давай, давай! Ну, что же!» Потом он еще больше ослаб, щеки его ввалились, лицо почернело, дыхание делалось реже и реже. Казалось, он обрел спокойствие, или, по крайней мере, не чувствовал своих страданий. 21 января 1852 года в восемь часов утра Гоголя не стало. Ему было сорок три года.[620]620
Объясняя смерть Гоголя, врачи ссылались на катар кишечника, тиф, гастроэнтерит… На самом деле он всегда был субъектом с прирожденной невропатической конституцией. Недоедание во время поста и острое малокровие мозга привели его организм в состояние полного истощения. По мнению доктора Н. Н. Баженова, «следовало делать как раз обратное тому, что с ним делали, – т. е. прибегнуть к усиленному, даже насильственному кормлению, и вместо кровопускания, может быть, наоборот, к вливанию в подкожную клетчатку соляного раствора». Н. Н. Баженов: Болезнь и смерть Гоголя. Москва, 1902 г.
[Закрыть]
* * *
Когда явились первые посетители, тело Гоголя лежало уже на столе, умерший был обряжен в сюртук; на его лице, похудевшем от перенесенных мучений, выделялся нос, словно лезвие ножа; усы спокойно прикрывали рот; веки, припухшие и потемневшие, закрывали глаза, словно он спал здоровым сном; на голове, на его длинных волосах, был лавровый венок. Священник служил панихиду, скульптор снимал маску с лица. Позднее художник Мамонов изобразил этот иссохший, изнуренный трупик в гробу.
Увидев его, Сергей Тимофеевич Аксаков напишет:
«Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь!»[621]621
С. Т. Аксаков. Письмо к сыновьям, 23 февраля 1852 г.
[Закрыть]
Что почувствовал отец Матвей, узнав о смерти Гоголя? Пожалел ли он в мыслях своих этого мученика, разрывавшегося между искусством и верой? Упрекнул ли он себя за то, что слишком резко осудил его земное призвание? Или же он успокоился мыслью о том, что он, без сомнения, снова выполнил свой долг?
Как и следовало ожидать, до последней минуты Гоголю суждено было служить причиной раздора между его друзьями. Собравшись у графа Толстого, славянофилы, во главе с Аксаковым, настаивали на том, чтобы Гоголя отпевали в приходской церкви, которую он любил посещать; профессор Грановский, будучи западником, напротив, требовал, чтобы отпевание происходило в университетской церкви, поскольку усопший в некотором роде принадлежит к великой семье университетских преподавателей. «К университету он не принадлежит, а принадлежит народу, а потому, как человек народный, и должен быть отпеваем в церкви приходской, в которую для отдания последнего ему долга может входить лакей, кучер и всякий, кто пожелает, а в университетскую церковь подобных людей не будут пускать».[622]622
Граф А. А. Закревский, московский генерал-губернатор, – графу А. Ф. Орлову, шефу жандармов, 29 февраля 1852 г.
[Закрыть]
Поскольку спор разгорался в двух шагах от гроба, московский генерал-губернатор, граф А. А. Закревский, приказал непременно отпевать тело в университетской церкви, в которую велено было пускать всех без исключения. Славянофилы в гневе решили бойкотировать церемонию. 22 февраля открытый, по обычаю, гроб отнесли на руках в университетскую церковь. Несли его писатели, в том числе А. Н. Островский. В течение двух дней экипажи с трудом могли проехать по Никитской улице, заполненной толпой желающих проститься с бренными останками великого писателя. Представители всех сословий пришли поклониться этому человеку с восковым лицом в лавровом венке, который когда-то их так смешил. Жандармы и полицейские в штатском следили за порядком: о чем бы ни писал сочинитель, никогда не знаешь, нет ли чего подозрительного в поклонении толпы.
В воскресенье 24 февраля граф А. А. Закревский, московский генерал-губернатор, в полном мундире присутствовал при отпевании. Гроб был усыпан камелиями. В руках усопший держал огромный букет из иммортелей. Ни мать, ни сестры Гоголя, слишком поздно извещенные в своей далекой Украине, не успели приехать в Москву на похороны. Но в церкви стечение народа было так велико, что в момент прощания толпа почитателей едва не опрокинула катафалк. Всякий хотел поклониться покойнику, поцеловать руку его, взять хоть стебель цветов, покрывавших его изголовье. Чтобы прекратить это излияние чувств, организаторы похорон силой закрыли крышку гроба, скрыв от толпы неподвижное лицо умершего. Из церкви профессора Анке, Морошкин, Соловьев, Грановский, Кудрявцев вынесли гроб на руках. На улице студенты приняли гроб из их рук и понесли его. Несметное число лиц всех сословий шло по заснеженной улице. Все университетские чины и знаменитости шли пешком, дамы ехали в экипажах. Погребение состоялось на кладбище Свято-Данилова монастыря. Погода была прекрасной, было холодно, снег сверкал на солнце. Могила была вырыта недалеко от захоронений Языкова и госпожи Хомяковой, умершей две недели тому назад.[623]623
Могила Н. В. Гоголя была перенесена в Новодевичий монастырь 31 мая 1931 года.
[Закрыть]
* * *
Согласно описи имущества Гоголя, составленной после его смерти, у него оказались золотые часы, когда-то принадлежавшие А. С. Пушкину, черное драповое пальто с бархатным воротником, два старых сюртука из черного сукна, трое поношенных полотняных брюк, четыре стареньких галстука (два из тафты и два шелковых), двое кальсон и три носовых платка… Никаких денег, драгоценностей, важных бумаг. Скарб нищего. Но остались его произведения!
Как следовало относиться к его творчеству с официальной точки зрения? Без сомнения, автор никогда не допускал прямых выпадов ни против власти, ни против Церкви в своих произведениях. Но он высмеивал государственных чиновников, помещиков, мелких и крупных служителей государственного строя. Известно, что литературное произведение, с виду самое беззубое и безобидное, на самом деле является бульоном, в котором часто плавают такие приправы, которые пахнут подрывной деятельностью против существующего строя. Осторожность требовала приглушить стенания интеллектуальной элиты. После того, как в «Москвитянине» была напечатана статья о кончине Гоголя, окаймленная траурной рамкой, в журнале «Северная пчела» появилась резкая заметка журналиста Ф. В. Булгарина, платного агента тайной полиции: «Все самомалейшие подробности болезни человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества».
Несмотря на это предупреждение, вскоре после похорон И. С. Тургенев написал об умершем несколько взволнованных строк, полных скорби и любви, и представил статью на рассмотрение петербургской цензуры, которая ее не пропустила. Не смущаясь этим фактом, он послал ее в «Московские ведомости», и московский цензор по небрежности дал свое разрешение.
«Гоголь умер! – писал И. С. Тургенев. – Какую русскую душу не потрясут эти два слова? – Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, – пришла та роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших. Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников…»[624]624
Намек на Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, которые тоже трагически погибли в молодом возрасте.
[Закрыть]
Появление этой статьи в печати вызвало гнев шефа жандармов. Уподоблять Гоголя Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, – это могло лишь сделать его еще более подозрительным в глазах властей. Один чиновник Третьего отделения составил отчет о происках литераторов, которые, по его мнению, являлись активными пособниками всех беспорядков, происходящих в стране. Предлагалось вызвать Тургенева для внушения в полицейский участок и учредить над ним полицейский надзор. Это предложение показалось Николаю I слишком мягким. Ведь это – тот самый Тургенев, который осмелился выразить сочувствие судьбе крепостных в ряде рассказов, опубликованных в «Современнике».[625]625
Эти рассказы были объединены в один цикл и изданы в том же году под заголовком «Записки охотника».
[Закрыть] Он заслуживал хорошего урока. Твердой рукой царь начертал на полях отчета: «Полагаю этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр…» Приговор обжалованию не подлежал: немедленно Тургенев был посажен под арест, а потом отправлен на жительство в деревню, в свое имение Спасское-Лутовиново.
Теперь перед царскими чиновниками встала другая проблема. Нужно ли разрешать публикацию уже находящегося в печати «Собрания сочинений» этого писателя, слишком любимого публикой? Нет, лучше подождать с таким выражением чувств, отложить эту дань уважения. Цензоры получили приказ безжалостно преграждать путь любой странице с подписью покойного. При жизни он льстил власти, а после смерти стал подозрителен как раз тем, кому он курил фимиам. В докладе по этому «делу» начальник штаба Отделения корпуса жандармов Дубельт уточнял, что цензура обнаружила в напечатанных произведениях и еще не напечатанных рукописях, почти на каждой странице, большое количество различных пассажей, которые если сами по себе и не несут опасных идей, то могут быть неверно истолкованы. Друзьям Гоголя понадобилось не меньше трех с половиной лет борьбы, чтобы добиться разрешения цензуры.[626]626
Племянник Гоголя, Трушковский, переиздал Полное собрание сочинений в 1855–1856 гг. Первые четыре тома (1855 г.) воспроизводили издание 1842 года, в двух следующих содержались более поздние сочинения.
[Закрыть]
* * *
Но напрасно газеты и журналы хранили обет молчания – по мере того, как шло время, образ Гоголя отнюдь не забывался, он приобретал такие масштабы, каких не могли ожидать даже его друзья. Его имя и творчество приобретали все большую известность, в то время как его тело разлагалось в могиле.
Реализм Пушкина поэтичен, прозрачен, сдержан; реализм Гоголя сумрачен, фантастичен, он искажает личность. Являясь не только удивительным автором «Ревизора» и «Мертвых душ», он навечно привил свою манеру, свое направление литературе своей страны. Да, у истоков великолепного, изумительного расцвета искусства романа в России ХIХ века мы различаем светлую линию – действительность и высмеиваем ее. Пушкин, с его чувством меры; Гоголь, с его излишествами. Все русские писатели последующих поколений будут сочетать в разных пропорциях эти два исконных элемента. Их самые смелые вымыслы можно найти в зародыше у этих двух великих предшественников. В то самое время, когда им будет казаться, что они привносят что-то новое, на самом деле они будут черпать, порою неосознанно, в одном из этих двух обширных хранилищ идей, образов и характеров. От Гоголя идет это чувство сострадания и жалости к бедным, скромным людям, которое мы находим во всех произведениях Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого; от Пушкина идет эта тональность прямого объективного повествования, которая характерна для лучших страниц «Войны и мира». Тентетников из второй части «Мертвых душ» породит Левина из «Анны Карениной». Подколесин из «Женитьбы» узнаваем в «Обломове» И. А. Гончарова. Герои И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, А. П. Чехова, М. Горького, А. М. Ремизова и стольких других составят знаменитое потомство действующих лиц «Ревизора» и «Шинели». Задолго до того, как книги этих писателей увидели свет, читатели, в силу таинственного предчувствия, уже были благодарны Гоголю за ту революцию, которая, благодаря ему, произойдет в русской словесности. А он-то жаловался, что его так мало любят при жизни! Зато после смерти он стал вдвойне дорог своим соотечественникам – его полюбили за то, что он сам написал, и за то, что напишут впоследствии другие, которых он вдохновил.
* * *
В мае 1852 года, через два с половиной месяца после смерти Гоголя, молодой Григорий Петрович Данилевский[627]627
Не путать с Александром Семеновичем Данилевским, другом детства Николая Гоголя.
[Закрыть] отправился в дальнее путешествие – в Васильевку. Не доезжая несколько верст до деревни, он велел остановить экипаж, чтобы спросить дорогу у какой-то крестьянки с ребенком на руках, которая приветливо разговорилась с ним. Когда речь зашла об их соседе, Гоголе-Яновском, она сказала:
«То неправда, что толкуют, будто он умер. Похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда».[628]628
Г. П. Данилевский. Знакомство с Гоголем.
[Закрыть]
Г. П. Данилевский снова сел в карету. Вскоре со щемящим сердцем он увидел между двух холмов церквушку с зеленым куполом, белые мазанки и, наконец, родительский дом автора «Мертвых душ», низенький, деревянный, с красной крышей. Справа – флигель, слева – хозяйственные постройки. Кругом – старые деревья, сад, пруды. За домом, до самого горизонта, тянулась украинская степь.
Внезапно три женщины, одетые в черное, появились перед ним: мать Гоголя и две его сестры, Анна и Ольга. Третья сестра, Елизавета, вышедшая замуж за Быкова, жила в Киеве. Григорий Данилевский был поражен тем, как молодо выглядит Мария Ивановна Гоголь: крепкая, дородная, розовощекая, ни морщинки; волевое выражение лица, белый чепец. Горе заставило дрожать ее губы с неприметным пушком. Проведя гостя в гостиную, она заговорила с ним о своем сыне, которого она боготворила, с восторженным почтением. «Моего сына, – сказала она, отирая слезы, – знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не послужил родине!
– Ваш сын долго отсутствовал за границей?
– Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине».
Григорию Данилевскому показали рабочий кабинет покойного во флигеле, столик из грушевого дерева на длинных ножках, за которым он работал стоя, его кровать, его иконы, его книги в шкафу; его провели по саду за церковью, по берегу пруда, по тем самым местам, где когда-то Гоголь видел действующих лиц своих произведений только еще в своем воображении.
Траурные платья трех женщин цеплялись за зубчатую траву, Мария Ивановна вздыхала, плакала. Но в то же время у нее был такой счастливый вид оттого, что она может поговорить о своем сыне с господином, приехавшим издалека, что Григорий Данилевский никак не мог решиться с ней распрощаться.[629]629
Мать Гоголя, Мария Ивановна, умерла в 1868 г. в Васильевке; ей было семьдесят семь лет. Ее младшая дочь, Ольга (1825–1907), в свое время вышла замуж за майора в отставке, Головню. В замужестве имела двух сыновей и дочь. Анна (1821–1893) не состояла в браке. Трушковский, сын старшей сестры Гоголя, Марии (умершей в 1844 г.), взял на себя труд издания Полного собрания сочинений своего дяди (1855–1856 гг.); он умер умалишенным в 1862 г. Что же до другого племянника Гоголя, сына Елизаветы (бывшей замужем за Быковым, овдовевшей в 1862 г., скончавшейся в 1864 г.), то он, по странному стечению обстоятельств, женился на внучке поэта А. С. Пушкина, Марии Александровне.
[Закрыть]








