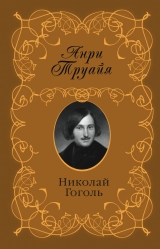
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Глава III
Рим
Путешествие по морю до Генуи, затем по суше до Рима не улучшило здоровье Гоголя.
«Я чувствую хворость в самой благородной части тела – в желудке, писал он Н. Я. Прокоповичу. – Он, бестия, почти не варит вовсе, и запоры такие упорные, что никак не знаю, что делать. Все наделал гадкий парижский климат, который, несмотря на то что не имеет зимы, но ничем не лучше петербургского».[176]176
Письмо Н. Я. Прокоповичу 30–18 марта 1837 г.
[Закрыть]
Нехватка денег – он приехал с двумястами франками в кармане – обязывала внимательно контролировать свои расходы. Он проживал за тридцать франков в месяц на улице Изодоро, 17, в комнате, полной картин, покрытых копотью, и белых статуй, пил каждое утро чашку шоколада за четыре су, потом плотно обедал за шесть су и позволял себе маленькую роскошь – маслянистое мороженое со взбитыми сливками, тающее во рту, в сравнении с которым мороженое у Тортони, по выражению Гоголя, казалось «дрянью». Несмотря на такой своеобразный режим питания, расстройства пищеварения начали проходить. Он приписал заслугу в своем чудесном выздоровлении оживляющему климату Италии. От столько мечтал об этой стране, что мог разочароваться, наконец встретившись с ее ландшафтами и народом. Но ничего подобного. Действительность моментально превзошла все его ожидания. Все, что он воспел в стихах, когда был еще совсем юн, ничего не зная о Риме, он повторял теперь в прозе, в письмах друзьям:
«Что тебе сказать об Италии? Она прекрасна. Она менее поразит с первого раза, нежели после. Только всматриваясь более и более, видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и облаках виден какой-то серебряный блеск. Солнечный свет далее объемлет горизонт. А ночи?.. прекрасны. Звезды блещут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше наших, как планеты. А воздух? – он так чист, что дальние предметы кажутся близкими».[177]177
Письмо Н. Я. Прокоповичу 30–18 марта 1837 г.
[Закрыть]
«Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».[178]178
Письмо А. С. Данилевскому 5–3 апреля 1837 г.
[Закрыть]
«Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю».[179]179
Письмо Варваре Балабиной от 16—4 июля 1837 г.
[Закрыть]
«Моя красавица Италия! Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине».[180]180
Письмо В. А. Жуковскому от 30–18 октября 1837 г.
[Закрыть]
«Невозможно ждать лучшего от судьбы, чем умереть в Риме. Здесь человек находится ближе всего к Богу, чем в других местах».[181]181
Письмо Плетневу 2 ноября – 21 октября 1837 г.
[Закрыть]
«Родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет… Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере семьсот ангелов влетают в носовые ноздри… Верите ли, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос: чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны…».[182]182
Письмо Марии Балабиной, апрель 1838 г.
[Закрыть]
Все время эта навязчивая идея о носе, отделенном от туловища, произведенном в ранг независимого персонажа и шагающем по городу в поиске незабываемых запахов! Климат Италии очень подходил Гоголю, который, хотя и был уроженцем той части России, где зимы особенно суровые, никогда не мог привыкнуть к холоду. Солнце оживило его окоченевшие члены и развеяло мрачные мысли. Думать и работать ему казалось также очень благоприятным под голубым небом. Даже пейзаж здесь был успокаивающим, все равно что картина искусного художника, исполненная в теплых спокойных тонах. Вся Швейцария с ее грудой гор, ледниками и скалами не стоила тихого римского загородного пейзажа. На этой земле равновесия и света могло родиться только чистое искусство.
Человек с неспокойной душой, создатель кривляющихся чудищ, Гоголь боготворил Рафаэля. В его глазах он затмевал всех художников четырех столетий, от классицизма до барокко. Кроме того, ничего не было лучше античной архитектуры, чьи руины побуждали его к безмятежному созерцанию и размышлению. Его ум, привыкший к темным лабиринтам мысли, к обрывам, к падениям в пропасть, изумлялся при виде благородной геометрии римских памятников. Переходя от одного к другому, он различал в этих камнях «Древний Рим в грозном и блестящем величии, или Рим нынешний в его теперешних развалинах. На одной половине его дышит век языческий, на другой – христианский, и тот и другой – огромнейшие две мысли в мире».[183]183
Письмо Марии Балабиной, апрель 1838 г.
[Закрыть]
Ему даже казалось, что это соединение было настолько привлекательным, что если бы Бог ему позволил выбрать между Древним Римом «в грозном и блестящем величии» и Римом сегодняшним «в его теперешних развалинах», он бы предпочел жить в последнем, не только потому, что усеченная колонна, обвитая плющом, выделяясь на голубом небе против солнца, более живописна, чем современное здание, но еще и потому, что из него исходит такой необычайный покой, что забываешь о современном мире среди развалин исчезнувшей цивилизации.
Чем больше в его жизни было шума и суеты, тем больше его успокаивала неподвижность творений далекого прошлого. Все, что действовало, менялось, все, что пробивалось вперед в искусстве и политике, по его мнению, было проявлением зла. У народа, обращенного к будущему, одна только глупость и безвкусица в голове. Их беспорядочные движения нелепы. Единственная утешительная музыка звучит из пучины минувших лет. В Риме море лет бьется волнами о скалы святого острова. Этот город заслуживает названия «вечный Рим», так как он вне времени. «Везде доселе, – писал Гоголь Данилевскому, – виделась мне картина изменений; здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет».[184]184
Письмо 15—3 апреля 1837 г.
[Закрыть]
С неутолимой жаждой открытий он носился по музеям, церквям, дворцам, любовался руинами древних храмов, мечтал в Колизее при свете луны, приходил в восторг от порфировой колонны, затерявшейся посреди вонючего рыбного рынка, неожиданно открывал для себя останки императорских бань, храмов, гробниц, разнесенных по полям, любил оглянуть эти поля с террасы какой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы заходящего солнца, склонялся перед разбитыми статуями, он находил все равно прекрасным: триумфальную арку, потемневший фронтон, дикие вьющиеся растения, карабкающиеся по стенам, трепещущий рынок среди молчаливых громад, лимонадчик с воздушной лавчонкой перед Пантеоном.[185]185
См. повесть «Рим».
[Закрыть] В своей восторженности он доходил до того, что датировал свои письма 2588 годом от основания города. Но и современный Рим, словно прилепившийся к античному и средневековому Риму, наполнял его невыразимым восхищением. Он погружался с наслаждением в его извилистые улочки, вдыхал пряные запахи, проходя мимо продуктовых лавок, умилялся, видя стадо козлов, щипающих травку между булыжниками, уличной мостовой или как шумные ребятишки нежатся под солнцем у журчащего фонтана, провожал уважительным взглядом аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, кланялся капуцину, чье одеяние «вдруг вспыхивало на солнце светло-верблюжьим цветом», уступал дорогу кардинальской карете с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами. Тут даже грязь и нищета были самим воплощением красоты. Улочки, обвешенные разноцветным бельем, становились произведением искусства. Разложенные в витрине белые пузыри, лимоны, листья и подсвечники вызывали желание схватить кисть и запечатлеть их на полотне. И даже разговоры и суждения, услышанные на улицах, в кафе, в остериях, отличались своей веселой живостью от все того, что ему приходилось слышать в городах Европы.
«Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц».[186]186
Там же.
[Закрыть]
Да, римляне нравились Гоголю своим внутренним чувством прекрасного, своим врожденным благородством, своим презрением к бесполезным богатствам, своей вялостью, схожей с украинской неспешностью. Он восхвалял потомков древних критов (quirites) за то, что они избежали «равнодушного хлада» современных цивилизаций. Их счастье – он в этом ни капли не сомневался! – жить под деспотичной властью папы Григория XVI, под управлением органов власти, придирающихся к каждой мелочи, жить лишенными каких-либо политических прав, находиться под неусыпным контролем полиции, а взамен быть освобожденными от назойливых государственных дел.
«Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени в тишине таилась его гордая народность».[187]187
Там же.
[Закрыть]
Подобное восхваление римского консерватизма тем более странно, что Гоголь не мог не замечать молчаливого протеста, который поднимался во всей Италии против австрийского господства. Иностранные военные силы были вызваны папой Грегуаром XVI во время восстаний в папских государствах. Яростно отвергающий республиканские идеи, папа ненавидел Маццини, борца за ослабление давления власти и основателя в ссылке общества «Молодая Италия». Кроме того, он осудил Ламенне и закрыл его газету «Будущее». Европейский либерализм ему казался настолько же опасным, как и итальянский патриотизм. Но движение по возрождению Италии было уже не остановить. Повсюду появляются тайные общества. Политики, поэты, энергичные люди собирались, чтобы разработать план освобождения своей страны. Вопреки очевидности Гоголь пренебрегал событиями, которые противоречили его представлению о счастливом народе, защищенном от сумятиц истории. Так же как и в Париже, считал он, интеллигенция здесь была больна политикой. У простого же народа хватает мудрости вести патриархальную тихую, спокойную жизнь.
«Этот небольшой народ, – писал он Балабиной, – я теперь занят желанием узнать его во глубине, весь его характер, слежу его во всем, читаю все народные произведения, где только он отразился, и скажу, что, может быть, это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством».[188]188
Письмо. Апрель 1838 г.
[Закрыть]
Он переехал и жил теперь в доме 126 по улице Феличе, в квартире, которая была «вся на солнце».[189]189
На фасаде дома прикреплена мраморная доска к дому, который навсегда обозначен № 126, с надписью о том, что здесь проживал Н. Гоголь.
[Закрыть] Решив более не жить как турист, Гоголь пополнял свой запас итальянских слов, учился писать письма на языке, изучал литературу, болтал с жителями квартала, которые его хорошо знали и звали «синьор Николо». Общаясь с ними, Гоголь пришел к убеждению, что Италия, оставаясь отдаленной от Европы, будет играть особую роль в ее будущем. Конечно, сейчас она поделена на части, ослаблена; в ней уже ничего не осталось от ее прежнего великолепия и могущества, но пробелы в материальном плане восполняла миссия самой высокой важности в духовном плане. Эта страна живое убежище от «холодного материализма», который уже угрожал другим странам. Своим постоянством она напоминала французам, немцам, англичанам, что они были не правы, отдаваясь ничтожным политическим заботам, вместо того, чтобы направить свою мысль в сторону искусства и веры. С этой точки зрения итальянский народ имел много общего с русским народом, которого тоже, по мнению Гоголя, не затронула заразная болезнь – прогресс. Не вызывает никаких сомнений, размышлял он, что Провидение отвело этой многочисленной северной нации и этой небольшой южной нации особую мессианскую роль. Наверняка поэтому Гоголь чувствовал на улицах Рима, как у себя дома!
Удивительная вещь, он должен был как украинец, для которого поляки были исконными врагами, испытывать вражду к католицизму. Но, хотя он был патриотом и православным, его привлекли в этом вероисповедании изящество, сдержанность и благочестие. Вначале он был очарован красотой убранства католических соборов. Восторженное увлечение Древним Римом и папским Римом располагало его к проявлению живого интереса к местам службы. Он писал своей юной знакомой, Марии Балабиной:
«Я решился идти сегодня в одну из церквей римских, тех прекрасных церквей, которые вы знаете, где дышит священный сумрак и где солнце, с вышины овального купола, как святой дух, как вдохновение, посещает середину их, где две-три молящиеся на коленях фигуры не только не отвлекают, но, кажется, дают еще крылья молитве и размышлению. Я решился там помолиться за вас (ибо в одном только Риме молятся, в других местах показывают только вид, что молятся), я решился помолиться там за вас… Помните, что я ваш старый друг и что я молюсь за вас здесь, где молитва на своем месте, то есть в храме. Молитва же в Париже, Лондоне и Петербурге все равно, что молитва на рынке».[190]190
Письмо апреля 1838 г.
[Закрыть]
Постепенно его мысли прояснялись и он четче стал осознавать различия, которые разделяли христианство, практикуемое в России, и христианство на Западе. Православная Церковь ему представилась в виде какого-то величественного органа управления, с неизменными с древних пор обрядами и лишенного прямого воздействия на души смертных, когда как римская Церковь была, благодаря своим священникам, активным вездесущим и воинствующим институтом власти, чье влияние выходило за границы святых стен, чтобы проникнуть в дома и управлять жизнью людей. Обе религии были проповедницами христианства, но одна хранила его как таинство, а другая старалась сделать ее доступной каждому. Которая была лучше? Нелепый вопрос. Гоголь отказывался выбирать. Мать сильно забеспокоилась, узнав о его пристрастии к католицизму, стала его умолять остаться верным религии своих предков. Он ей вскоре ответил:
«Насчет моих чувств и мыслей об этом, вы правы, что спорили с другими, что я не переменю обрядов своей религии. Это совершенно справедливо. Потому что как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же, и потому совершенно нет надобности переменять одну на другую. Та и другая истинна».[191]191
Письмо от 22–10 декабря 1837 г.
[Закрыть]
Однако, внося изменения в повесть «Тарас Бульба» для нового издания, он добавил описание католической службы у осажденных поляков, (читающих молебен) обращающихся к Богу с мольбой о спасении. В этом отрывке есть описание церемонии, исполненной благородства, игры утреннего света, проникающего через витражи, величественная музыка органа: «и дивился Андрий с полуоткрытым ртом…» И здесь он открыто показывает важность внешних сторон своей набожности. Его религиозность питалась прежде всего красотой богослужения (была прежде всего эстетической). Красота была чем-то вроде расположенности для восприятия тайн по ту сторону бытия, не задумываясь о внутреннем содержании религии.
Некоторые из знакомых очень благоприятно оценили эту чувствительность к Божественному присутствию. У Варвары Осиповны Балабиной был сын иезуит. Ее дочь, Мария, хотя и была православной, регулярно посещала католические службы. Наконец, вскоре после приезда в Рим Гоголь познакомился княгиней Зинаидой Волконской, которую поклонники называли «Северной Коринной». Исключительно талантливая и высоко образованная женщина, поэтесса, музыкант, певица, она сохранила в свои сорок пять лет красивые черты лица и пылкий характер. Александр I испытывал к ней нежные чувства, а Пушкин ее воспел в стихах. Блистала при дворе и на всех конгрессах, где решалась судьба Европы, потом удалилась в Москву и приняла католичество. Сразу же новый император Николай I послал ей православного священника, чтобы вернуть ее на путь истинный. Получив выговор, с ней случился нервный припадок, и она заболела, но не отказалась от своего решения. Как только она почувствовала себя лучше, сразу покинула Россию и насовсем поселилась в Риме, в роскошной вилле, стоящей на холме.
Древнеримский водопровод проходил через сад. Виноградники и кипарисы окружали дом, прислонившийся к старинной башенке. Далеко вдали можно было различить Вечный город, чьи главные достопримечательности плавали, оторвавшись от земли, в голубоватом тумане. Под деревом возвышался строгий бюст Александра I, который удостоил княгиню своей дружбой. Рядом, в цветочной клумбе, стоит урна в память поэта Веневитинова, два обломка белого мрамора, посвященные Пушкину и Карамзину: маленький личный Пантеон хозяйки дома. У нее в гостях Гоголь подружился с Шевыревым Степаном Петровичем. Шевырев – профессор русской словесности, критик, славянофил и друг Н. Погодина. Волконская любила приглашать эти два великих ума и присутствовать при фейерверке мыслей, который рождался во время их споров. Итальянские друзья прозвали ее Беатой, столько в ней было рвения проявить свою новую веру. Про ее салон говорили, что это филиал Ватикана. Представители русской аристократии, идя на прием, могли быть уверены, что обязательно там встретят римских священнослужителей, жадных и терпеливых ловцов душ. Зинаида Волконская также приютила польских священников, иммигрировавших после восстания в Польше в 1830 году. Двое из них, Петр Семененко и Иероним Кайсевич, вбили себе в голову обратить Гоголя в католичество. Они его часто встречали у княгини на обеде. Его соблазнял теплый прием и полный стол яств. Живя очень скромно, он чувствовал определенную поддержку, ощущая за своей спиной такую богатую и властную благодетельницу.
«В разговоре Гоголь нам очень понравился, – писал Семененко. – У него благородное сердце, притом он молод; если со временем глубже на него повлиять, то, может быть, он не окажется глух к истине и всею душою обратится к ней. Княгиня питает эту надежду, в которой и мы сегодня несколько утвердились».[192]192
Письмо Богдану Яньскому от 17 марта 1838 г.
[Закрыть]
А Кайсевич записал в своем дневнике: «Познакомились с Гоголем, малороссом, даровитым великорусским писателем, который высказал большую склонность к католицизму».
Не удовлетворенные одними только встречами за столом княгини, благочестивые поляки устремились к Гоголю домой. Он их благодарно принимал и часами разглагольствовал с ними о роли христианства в обществе будущего. Однако вскоре проповедники решили поменять тактику и стали навещать его по одиночке, поскольку, как писал Семененко, «одиночные встречи более располагают к взаимному обнаружению себя».[193]193
Письмо Семаненко – Богдану Яньскому от 22 апреля 1838 г.
[Закрыть] Кайсевич даже сочинил в честь Гоголя сонет, в котором последний стих звучал так: «не замыкай души для небесной росы»
Несмотря на такое давление, Гоголь так и не решился перейти в католичество. Княгиню Волконскую раздражала подобная неопределенность; в ней жаждала страсть обращать людей в эту веру; ей нужно было спасать души одних, подобно тому, как она разбивала сердца других. Она уже начала обращать в католичество своего собственного сына, который с православием был связан едва уловимой нитью. И Гоголь поддерживал ее в этом. «Тогда же она нам сообщила, – писал Семененко, – как поделилась с ним своими намерениями касательно своего сына и как Гоголь сердечно это принял и добродушно подбодрял ее, чтоб она имела надежду – то есть, что ее сын обратится».[194]194
Там же.
[Закрыть] Почему этот упрямый украинец находил благоразумным обращение в католичество молодого князя Волконского, а сам отказывался последовать той же участи? Зинаида Волконская не могла разрешить это противоречие и просила обоих священников усилить свою проповедь. Но они же придерживались иного мнения и считали, что переход в другую веру никогда не следует торопить, воздействуя давлением на чувства новообращенного. Сам же Гоголь в этой атмосфере религиозного заговора чувствовал себя как рыба в воде. Будучи объектом торга, он вкушал удовольствие от тонких намеков, деликатных уговоров, совместных размышлений над священными текстами. Перемена веры стоила бы ему отказа от всего: от своего воспитания, своего прошлого, своих убеждений. Но остаться православным, мечтая о католицизме, увлечься другой религией, не предавая своей, что может быть более опьяняющим для ума, стремящегося к обновлению. Внешне поддаваясь требовательной Зинаиде Волконской и ее двум союзникам, он твердо стоял на своем.
Словно для того, чтобы уравновесить воздействие общения в высшем свете, Гоголь часто встречался в кафе «Греко», в задымленном и шумном зале, с молодыми русскими художниками, живущими на пансионе, предоставляемым им Академией художеств Санкт-Петербурга. Кафе служило также абонентским пунктом получения писем этих господ. На стенах висели картины, оставленные в качестве оплаты клиентами с пустыми кошельками. Кто-то пил кьянти, кто-то крепкий кофе, выставив локти на стол, кто-то с жаром вел беседу. Все эти большие дети, обросшие и бородатые, в накидках и фетровых шляпах с большими полями были едины в одном – служении красоте. Среди прочих завсегдатаями этого местечка были: мудрый, бедный и готовый взяться за любую работу Иордан, элегантный и обворожительный Моллер, сын министра морского флота, и, конечно же, непреклонный Александр Иванов, с которым Гоголь очень быстро подружился. Искусство для Иванова была настоящим аскетизмом. С пустым животом, но увлеченный идеей, он отказывался от заказов, денег, легкой славы, чтобы полностью посвятить себя написанию многоплановой композиции «Явление Христа народу». Этот грандиозный труд, включающий и свод философских идей, и обобщение художественных приемов, пожирал его заживо и целиком. Вдохновленный Богом, Рафаэлем, Веронезе, Тицианом и Танторе для развития этой идеи и осуществления задуманного, он внушил себе ощущение, что наделен божественным предназначением. Время не имело для него значения. Он работал годами, всегда недовольный собой, бросал и вновь принимался за картину, накапливал эскизы, был в постоянном поиске совершенства, делая тысячи подготовительных этюдов. Одних этих этюдов было бы достаточно, чтобы заполнить выставочный зал. Каждую пятницу он ходил в римскую синагогу, чтобы там наблюдать за лицами евреев. Пустынный пейзаж, который должен был послужить отображением места действия и окружающим группу фоном на картине, он рисовал, установив свой мольберт на болотистых окрестностях Понтина. Он неустанно делал копии с бюстов Аполлона Бельведерского и образа Христа, которого он отыскал в Палермо, в надежде, что соединение этих двух ликов ему подскажет черты его святого Иоанна Крестителя.
Гоголь любил заходить к Иванову в его мастерскую. Просторная комната со стеклянным потолком, с белыми стенами, исписанными разными рисунками мелом и углем. На полу валялись эскизы, выдавленные тюбики красок, кисти, грязные тряпки. Во всех углах картонные папки, набитые исчерченными картинами. И на огромной подставке, специально сооруженной для этой цели, полотно пять сорок на семь пятьдесят. На переднем плане Иоанн Креститель, воздев руки к небу, молится. Вокруг него толпа обнаженных людей, выходящих из вод Иордана или готовившихся в них войти. Среди них и несколько фигур в одеждах – это будущие ученики Христа. Вдали Иисус Христос, идущий по пустынной земле. Одни его уже видят. Другие предчувствуют его приход. Другие недоумевают, что имел в виду Предтеча, произнося загадочные слова: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна. I, 29). Все персонажи уже нашли свое место на картине, их очертания обозначены четкими линиями и отдельными мазками по всему полотну. Иванов в грязной холстинной блузе. Длинные растрепанные волосы спадают ниже плеч. Щеки покрывает всклокоченная борода, вся испещренная разноцветными точечками красок. Он, должно быть, уже не брился две недели. С палитрою в одной руке, с кистью в другой, он с отчаянием глядел на свое творение.[195]195
Описание мастерской Иванова см. у М. П. Погодина «Год в чужих краях». М., 1844 г.
[Закрыть]
Гоголь терпеливо дожидался, пока Иванов выйдет из задумчивости, и только потом здоровался с ним. Он понимал терзания своего друга, оттого как сам, работая над «Мертвыми душами», испытывал это мучительное беспокойное стремление к совершенству. Он, прежде всего, подразумевал себя, когда писал, говоря о художниках: «…художнику, которому труд его, по воле бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа».[196]196
Выбранные места из переписки с друзьями. Гл. XXIII.
[Закрыть]
В разговорах Иванова с Гоголем каждый из них обменивался своими сомнениями и обсуждал необходимость долгой предварительной подготовки при создании произведения искусства. Но если ими двигал общий дух самопожертвования, то в отношении деталей их мнения расходились, ибо трудно найти две более противоположности, чем прямодушный, требовательный и вспыльчивый характер молодого художника и того же болезненного скрытного писателя. По примеру Иванова, Моллера и Иордана, Гоголь взялся за живопись. Он бегал по улицам Рима с тетрадкой набросков и коробкой акварели. Затрачивая время на рисование пейзажей или античных руин, у него не возникало ощущения, что он крадет его у «Мертвых душ».
Гоголь продолжал работать над книгой урывками. Он писал в основном по утрам, стоя у своего высокого пюпитра. Очень скоро, пробивавшееся сквозь щели в ставнях солнце, перебранка соседей, окрики торговцев, блеянье коз вызывали у него желание выйти на улицу. Достаточно было любого предлога, чтобы он отложил перо. Прежде всего важность предпринятой работы исключала в его сознании любые мысли о спешке. Основательность, думал он, всегда является результатом неторопливости. Как и Иванов, он еще не видел конца своей работы. Как и Иванов, он не позволял себе отвлекаться от своей великой цели, чтобы заниматься прибыльной работой. Как и Иванов, он считал, что его вдохновляет Бог. Своим друзьям в Санкт-Петербурге и Москве, которые подгоняли его, прося написать что-нибудь в их журналы, он твердо отвечал, что сейчас грех просить его об этом. В то же время он умолял их прислать хоть немного денег. Его финансовые проблемы усложнялись. Книги, которые он опубликовал ранее, в России, ничего ему не приносили. Он продал раз и навсегда все права на показ его пьесы. И когда у него совсем уже не осталось средств, он обратился к своим римским знакомым, занимая у одних, чтобы отдать другим. Посещая молодых художников, которые жили на государственные стипендии, ему пришла внезапная мысль, а почему бы и ему не воспользоваться тем же. Разве же он не художник, которому требуется мягкий итальянский климат для расцвета творческих сил? Начиная с апреля 1937 года он пишет Жуковскому:
«Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, которые недавно высланы из академии, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду…Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему „Ревизору“. Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, выручите! Если же оно написано не так, как следует, то – он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, незнающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги как дети… Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам; все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметны были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется от души. О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь все то, что угодно Богу. На его и на вас моя надежда».[197]197
Письмо от 18—6 апреля 1837 г.
[Закрыть]
В. А. Жуковский не смог получить пансион, на который возлагались такие надежды, но, откликнувшись на просьбу Жуковского, император выслал Гоголю пять тысяч рублей. Тот взорвался в благодарности.
«Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей; но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям. Но до вас может досягнуть моя благодарность. Вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною!»[198]198
Письмо от 30 октября 1837 г.
[Закрыть]
Освобожденный на время от денежных забот, он предается безделью без особых на то угрызений совести. Под ласковым солнышком Рима расцветала его «украинская лень». «Мертвые души» оставлены в покое до лучших времен. Когда средства Гоголя вновь исчерпались, он просит в этот раз Погодина: «Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу».[199]199
Письмо от 20 августа 1838 г.
[Закрыть]
М. П. Погодин, С. Т. Аксаков и еще несколько его московских друзей не без труда собрали деньги и направили ему эту сумму. Растроганный до слез, Гоголь отвечает Погодину:
«Благодарю тебя, добрый мой, верный мой!.. Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше беспокойство о мне! Столько любви! Столько забот! За что это меня так любит Бог?.. Боже, я недостоин такой прекрасной любви! Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что в этой голове и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хоть половину его? Признаюсь, я плохо надеюсь на свое здоровье».[200]200
Письмо от 1 декабря 1838 г.
[Закрыть]
Он злился на свое слабое здоровье, которое постоянно напоминало о себе. В то время как он желал стать одним только духом, то урчание, то резь, то подозрительное жжение в желудке каждую минуту возвращали его к реальности плоти. Несомненно, он был создан не как все остальные. Его внутренние органы, нервы, вены, кости сочетались особенным образом, думал он, что трудно определить научным способом. Обычные лекарства не действовали на него. Он должен был изобрести свое собственное лечение и жить без страданий. Самое неприятное для него было также то, что он не мог потеть. Вокруг жара, а его тело оставалось сухим. Да еще бурление в кишечнике. Врачи находили у него лишь признаки болезни, причиной которой был геморрой. Да что они в этом понимают?








