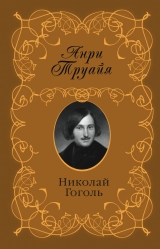
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Он вставал поздно и шаркал, расхаживая, по комнате, потом набивал живот слишком плотным обедом. Иногда он чувствовал в своем желудке «страшную дрянь», «как будто бы кто загнал туда целый табун рогатой скотины».[163]163
Письмо от 27 августа – 31 сентября 1836 г.
[Закрыть] Для того, чтобы размять ноги, он совершал небольшую прогулку по каштановой аллее. Затем, сидя на скамейке, на берегу слишком голубого, слишком спокойного озера, ожидал прибытия парохода в надежде встретить соотечественника. Но каждый раз высаживались благоразумные швейцарцы да черствые «длинноногие энглиши». Разочарованный, Гоголь возвращался в пансион и, зевая, дожидался ужина. От скуки он решил заняться литературой. Неожиданно для себя его охватило желание продолжать написание «Мертвых душ», первые главы которых он захватил с собой.
«Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись, – писал Гоголь Жуковскому. – Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет. Какая разнообразная куча. Вся Русь явится в нем. Это будет первая моя порядочная вещь, – вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро в прибавление к завтраку вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день».[164]164
Письмо от 12 ноября – 31 октября 1836 г.
[Закрыть]
Но погода уже портилась, печальный туман стирал очертания далей, в комнате становилось все холоднее и холоднее. С приближением зимы Гоголь почувствовал, что изнутри его снедает какая-то странная болезнь. Доктор, осмотрев и опросив больного, отыскал в нем «признаки ипохондрии, происходившей от геморроид» и посоветовал сменить обстановку. Гоголь мечтал поехать в Италию, чтобы согреться под теплым и голубым небом, которое он воспел еще до того, как его увидеть. Но в Италии свирепствовала холера, и все дороги были перекрыты санитарным кордоном. Но, с другой стороны, Данилевский, до сих пор молчавший, наконец показал признаки жизни. Он находился в Париже и приглашал своего друга к нему присоединиться. И Гоголь решил принять приглашение.
Глава II
Париж
Приехав в Париж, Гоголь сразу же отправился к Данилевскому, проживавшему на улице Мариво. Упав в его объятия, он согласился на время поселиться у него. Впрочем, совсем скоро переехал в гостиницу. Однако его комната отапливалась только камином, а он не мог долго выносить исходящую от стен ледяную промозглость и снова переехал. На этот раз они с Данилевским сняли небольшую меблированную квартиру на Биржевой площади, в доме № 12, расположенном на углу улицы Вивьен. В ней были и печи, и окна, обращенные на юг, которые, как казалось, улавливали малейшие лучики парижского солнца. Наконец-то, отогревшись в тепле и комфортно устроившись, Гоголь разложил свои бумаги. Первое знакомство с бурлящей жизнью Парижа, конечно же, вскружило ему голову.
«Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество, – писал он В. А. Жуковскому 12 ноября 1836 г. – Одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы». И своей матери, примерно того же числа: «Вчера я был в Лувровской картинной галерее во второй уже раз и все насилу мог выйти. Картины здесь собрались лучшие со всего света. Был на прошлой неделе в известном саду (Jardin des Plantes),[165]165
Ботанический сад. – Примеч. перев.
[Закрыть] где собраны все редкие растения со всего света и все на вольном воздухе. Слоны, верблюды, страусы и обезьяны ходят там, как у себя дома. Это первое заведение в этом роде в мире. Кедры растут там такие толстые, как только в сказке говорится. Для всех зверей и птиц особенный даже павильон и беседки, и у каждого из этих обитателей свой садик. Весь Париж наполнен теперь музыкантами, певцами, живописцами, артистами и художниками всех родов. Улицы все освещены газом. Многие из них сделаны галереями, освещены сверху стеклами. Полы в них мраморные и так хороши, что можно танцовать».
Полюбовавшись обелиском, который только недавно возвели на площади Согласия, Гоголь наведался в Версаль, посетил дворец, прогулялся по парку, полюбовался мерцанием перелива водных струй его фонтанов. Но больше всего его восхищала необыкновенная живость парижских улиц. Он неутомимо бродил по кварталам города, украдкой поглядывал на прохожих, изучал витрины лавок, примечал на ходу улыбку женщины или воздушное движение руки продавщицы в магазине, ротозейничал у входа в книжную лавку, оторопело стоял перед «цилиндрической машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шоколад». Сглатывая слюни при виде огромного омара и набитой трюфелями индейки, он дошел, таким образом, до широких бульваров, «где среди города стояли дерева в рост шестиэтажных домов, где на асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях».[166]166
См. автобиографическую повесть «Рим», где Николай Гоголь описывает свои впечатления о Париже.
[Закрыть]
Живая музыка французского языка, пастельные тона неба, бесконечное снование экипажей со сверкающей упряжью и звонким перестукиванием копыт, запах миндальных пирожных и горячих жареных каштанов, парящее в воздухе оживленное настроение, откровенные вызывающие взгляды, быстрые реплики, все это составляло странную атмосферу, которую Гоголь ощущал вокруг себя со смешанным чувством удовольствия и раздражения. В этом мире скорости, блеска и воздушности он чувствовал себя наиболее тяжеловесным, чем где бы то ни было.
Побродив по улицам, он очутился в «великолепном кафе с модными фресками за стеклом», где предавался мечтаниям, развалившись на мягком диване, под звон посуды и гул голосов. Больше всего ему понравилось мороженое со сливками в Английском кафе – кафе Тортони. Но одного мороженого было недостаточно для него, чтобы обуздать свой аппетит. Французская кухня весьма быстро завоевала расположение Гоголя, и он очень редко не поддавался искушению побаловать себя хорошим блюдом. Он называл рестораны «храмами», а содержателей ресторанов «жрецами», и утверждал, что находится под влиянием «изысканных запахов и ароматов жертв, приносимых этим местам». К сожалению, очень часто из-за неумеренности в еде у него расстраивался желудок. Эти банальные недомогания приобретали в его сознании невообразимые масштабы. Он так детально описывал Данилевскому, что тот раздраженно отворачивался. Обиженный на такое невнимание, Гоголь шел лечиться к некому доктору Маржолену, который ему прописывал «индийские пилюли». Почувствовав себя лучше, он тут же направлялся со своим другом в какой-нибудь ресторан.
После обеда они до позднего вечера играли в бильярд или же ехали в театр. В Итальянской опере Гоголь послушал пение Гризи, Лаблаша, Тамбурини, Рубини. В «Театр Франсэ» рукоплескал игре актеров в «Тартюфе», «Мнимом больном» и в трех других великолепно сыгранных пьесах. Пьер Лижье, «наследник Тальмы», показался ему наделенным незаурядным талантом. А мадемуазель Марс, несмотря на свои шестьдесят лет, еще с успехом играла невинных простушек. «Немножко смешно было сначала, – писал Гоголь Прокоповичу, – но потом в других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонический и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо перед собою 18-летнюю. Все просто, живо; очищенная натура в местах патетических; слова исходят прямо из глубоко тронутой души, ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars».[167]167
Письмо от 25 января 1837 г.
[Закрыть] Зато игра мадемуазель Жорж из театра «Порт Сант-Мартэн» была, по его мнению, «монотонна и часто напыщенна». Что касается балета, то тут полный восторг. Постановка, декорации, костюмы – все идеально: «Балеты ставятся с такою роскошью, как в сказках… Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки… Тальони – воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене».[168]168
Там же.
[Закрыть]
Тем временем такое сверкающее, порхающее существование вызвало у Гоголя недоверие. Если внешний вид может настолько очаровывать, то это означает, размышлял он, что за фасадами больше ничего нет. Он был недалек от мысли, что у французов нет души, или скорее всего они не стараются ее развивать, погруженные в тысячи ненужных занятий, одним из которых, самым глупым и самым вредным, была, конечно же, политика. Выходец из самодержавной страны, воспитанный в уважении к порядку и любви к царю, он не понимал, как могут государственные дела обсуждаться в общественных местах, вместо того, чтобы ими занимались специалисты. Эхо революции 1830 года еще будоражили умы многих в Париже. Было совершено множество покушений на короля Луи-Филиппа. За год до этого на Фиеши, в июне 1836-го на Алибо, в декабре на Минье… Наконец принц Луи-Наполеон Бонапарт безрезультатно попытался поднять гарнизон Страсбурга. Для одного «да», для другого «нет»: сменяли правительство: месье Моле сменил месье Тиер. Кто завтра сменит Моле? Во время открытия Триумфальной арки народ, казалось, кричал: «Да здравствует Император!» Все это не сделало нацию здравой и колеблющейся. Никогда не ища возможности знакомства с французами, Гоголь осудил их всех за нестабильность их чувств. Хотя монархия ушла, республика протекала повсюду. Каждый имел собственную идею, как управлять страной. Газеты поносили друг друга. Как же можно управлять при подобном сборище болтунов и горячих голов?
«Здесь все политика, – писал Гоголь Прокоповичу, – в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных».[169]169
Письмо от 25 января 1837 г.
[Закрыть]
Это обвинение он развивает в своей автобиографической повести «Рим», в которой ее герой, молодой итальянец, только что приехав в Париж для обучения, не замедлил сказать, что Франция – это «королевство слов, а не дела».
«…всякий француз, – пишет Гоголь, – казалось только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной типографски движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников… и слово политика опротивело, наконец, сильно итальянцу.
В движении торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости».
Это неумеренное желание пустить пыль, глазами итальянского студента и словами самого Гоголя, высказывалось естественно и озабоченными французскими учеными: «Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого…», а также французскими романистами, «приверженцами изучения причудливой не предполагаемой страсти исключительно чудовищных случаев». Так, в этот год Виктор Гюго опубликовал «Собор Парижской Богоматери», Альфред Вини – «Стелло», Ламартин – «Жоселин», Теофил Готье – «Гротески», Бальзак – «Лилии в долине». Предшествующий год был отмечен песнями Крепюскуля, Сервитюда и непоколебимым величием мадемуазель де Мопан. У недоступного до столичной литературы Гоголя не было и мысли познакомиться с кем-либо из этих писателей, имена которых были у него на слуху. Он приехал во Францию не для того, что раствориться во французах, а для того чтобы еще более почувствовать себя русским среди них. Со всех сил он хотел остаться иностранцем. Туристом среди непостоянного народа. Он совсем не нуждался в сближении с людьми, чтобы о них судить. Напротив, это они могли наблюдать издалека на то, как он воспринимает основные черты их характера. В отличие от остальных, истинный писатель только экспериментирует, поскольку он обладает интуицией. Силой своего игнорирования Гоголь через итальянского студента осуждает парижскую легковесность.
«И увидел он наконец, что при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей, везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстротой руки; вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера».
Воспитанный в православной культуре, Гоголь был так мало склонен к знакомству с французами, что встречался в Париже только с небольшой группой выходцев из России. В нее входили госпожа Светчина, Смирновы, приехавшие из Швейцарии Балабины, Андрей Карамазин (сын историка), Соболевские. В этом обществе ему нравилось проводить свой досуг. В полдник он частенько приходил к Александре Осиповне Смирновой, проживавшей в доме 21 на улице Мон Блана, слушал игру на пианино или комментарии о мировых и политических событиях столицы. Сам он рассказывал о своих прогулках по Парижу, о своих обедах, вечерах, об очередях в театральные кассы и о том, как он купил себе билет. Иногда, следуя своему воображению, он рассказывал о визитах в страны, где он никогда еще не был. Он утверждал перед Александрой Осиповной Смирновой, что успел побывать и в Испании, и в Португалии. «Я начала утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые отсюда приезжают, много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все на это он очень хладнокровно отвечал: „На что же все рассказывать и занимать собою публику? Вы привыкли, чтоб вам человек с первого разу все выхлестал, что знает и чего не знает, даже и то, что у него на душе“».
Несмотря на весь свой апломб, он никогда не мог убедить Александру Осиповну Смирнову в совершении своего путешествия по ту сторону Пиреней. Она знала его склонность ко лжи, но не была шокирована этим. Это хвастовство было, по ее разумению, защитой его очень скрытной души против давления равнодушной реальности. Восхищаясь Гоголем как писателем, она предполагала в нем великую психологическую проницательность и все больше и больше соглашалась с ним, охотно выслушивая его советы. Даже поступок, совершенный им так уродливо, так плохо, в ее представлении казался не более чем лукавством. Пресыщенная своими победами во дворе, разочарованная своим замужеством с человеком недалеким и болтливым, которого не любила, она, едва подойдя к тридцати годам, распрощалась с удовольствиями молодости и все чаще стала задаваться вопросом о смысле жизни. Ее природная жизнерадостность еще пробивалась мгновениями сквозь вуаль грусти, и тогда все очарованное окружение оборачивалось к «небесной чертовке», прославленной А. С. Пушкиным и В. А. Жуковским.
«Третьего дня я обедал у Смирновых с княгиней Трубецкой, Соллогубом и Гоголем… – писал молодой Андрей Карамазин своей матери 11 февраля 1837 года. – Гоголь делает успехи во французском языке и довольно хорошо его понимает, чтобы прилежно следовать за театрами, о которых он хорошо толкует. Но вообще у Смирновых толковать трудно, потому что немедленно вмешивается Николай Михайлович (муж Смирновой), спорит страшно и несет чепуху».
Чтобы улучшить свой французский язык, Гоголь, как дед Мороз, частенько общался с молодыми французами, проживавшими в мансарде Латинского квартала. Там он изучал не только французский, но и еще итальянский языки, готовясь к поездке в Италию, о которой он всегда мечтал. Конечно, он еще не торопился уезжать. В этой его небольшой, хорошо отапливаемой комнатке, расположенной на углу Биржевой площади, он с охотой работал над «Мертвыми душами».
С пером в руке он больше не слышал суеты улиц. Париж, со своими кафе, театрами, магазинами, тротуарами, заполоненными зеваками, автомобильными заторами, газовыми горелками и дождями, полностью поглотил его. Но он не имел здесь, в этом мире, ни одного знакомого француза. Только русских, и среди них Чичикова, ловкого собирателя мертвых душ.
«Бог сделал чудо: указал мне теплую квартиру на солнце, с печкой, и я блаженствую. Снова весел. „Мертвые“ („Души“) текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, – словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу „Мертвых душ“ в Париже… Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать. Уж судьба моя враждовать с моими земляками. Терпение. Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть, с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени».
И согласно своей привычке, в послесловии письма он обращался к своим друзьям подбросить ему идеи для того, чтобы обогатить свое произведение:
«Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, что не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось либо и он найдет что-нибудь со своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но несмотря на это, вы все еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет Мертвых душ. Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело».
Затем поверив в исключительную ценность своего нового произведения, он станет очень раздражаться при упоминании ему о старых. Так, Прокопович имел неосторожность написать ему о том, что «Ревизор» продолжают с успехом играть в России. На что Гоголь 25 января 1837 года с надменностью ответил ему:
«Скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про „Ревизора“? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что „Ревизора“ играют каждую неделю, театр полон и проч… И чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на „Ревизора“ – плевать, а во-вторых… к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава Богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе!.. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры „Ревизора“, а с ними „Арабески“, „Вечера..“ и всю прочую чепуху и обо мне, в течение долгого времени, ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова, – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки».
Эту тягу к исключительности он приобрел, общаясь со ссыльными польскими поэтами Адамом Мицкевичем и Богданом Залесским. Конечно, политические воззрения Мицкевича, дикого националиста, враждебно настроенного против русского господства в Польше и революционера в душе, могли только оскорбить благоразумный консерватизм Гоголя. Но в этом человеке было столько возвышенного мышления, что и не было необходимости разделять его убеждения, чтобы не уважать его позицию. С другой стороны, она представляла одну из горячих сторон мистицизма, которая сближала их. Благодаря ему, Гоголь стал интересоваться католицизмом. Он по-новому смотрел на Рим. И не только на Рим, но и на Ватикан. Уехать или остаться? В самом разгаре шел карнавал. Маски, серпантины, конфетти, вереницы колесниц, народные гулянья, лампионы и песнопения. Весь город танцевал на Сен-Гуи. И неожиданно ужасная новость донеслась из России. Пушкин убит на дуэли с кавалергардом Георгием Дантесом. Смерть наступила 29 января 1837 года.
Пораженный этим шоком, Гоголь имел такое впечатление, что весь мир обрушился на его голову и он оказался под этими обломками. Вокруг него его друзья говорили о любовных интригах, об анонимных письмах, об аристократическом заговоре. Как утверждалось, все произошло из-за того, что поэт вышел драться на дуэль для того, чтобы защитить честь жены. Одна пуля, и самый гениальный аристократ России вырван из жизни. Но как же Бог мог допустить, чтобы этот французский волокита сделался виновником такой трагической смерти. Неужели идол всего народа пал от руки иностранца, принятого на службу в императорскую армию по протекции?
Все эти комментарии оставляли Гоголя безучастным. Для него было безразличным, как ушел его друг. Он понимал лишь неприемлемую развязку всей трагедии – мир без Пушкина и сам он тоже без Пушкина! Он пишет А. С. Данилевскому: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если б я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше».[170]170
Шенрок В. И. Материалы. Том III.
[Закрыть] А молодой Андрей Карамзин пишет своей семье: «У Смирновых обедал Гоголь: трогательно и жалко смотреть, как на этого человека подействовало известие о смерти Пушкина. Он совсем с тех пор не свой. Бросил то, что писал, и с тоской думает о возвращении в Петербург, который опустел для него».
Санкт-Петербург на самом деле занимал его меньше и меньше. В его мыслях строились другие планы по осуществлению другого путешествия, во время которого он бы мог утолить свою печаль. В первых числах марта он уезжает в Италию. Его теперь занимала идея фикс: побывать в Риме во время проведения пасхальных праздников. Он прибудет туда точно в срок, после короткого посещения Генуи и Флоренции, чтобы присутствовать на мессе понтифика в соборе Святого Петра. Торжественность церемонии повергла его в глубокое изумление.
«Обедню прослушал в соборе Святого Петра, которую отправлял сам папа. Он 60 лет и внесен был на великолепных носилках с балдахином. Несколько раз носильшики должны были останавливаться посреди собора, потому что папа чувствовал головокружение…»[171]171
Письмо от 28–16 марта 1837 года.
[Закрыть]
Ни слова о потрясении, которое он переживал в связи со смертью Пушкина. Однако то, что он не говорил своей матери, слишком далекой от литературных и мирских забот, все это он высказал Плетневу в письме, написанном им на следующий день.
«Никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое – вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу… Боже! нынешний труд мой, внушенный им, его создание… я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо – и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска».[172]172
Там же.
[Закрыть]
Двумя днями позже он пишет Погодину: «Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русской, как писатель… я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам, для чего? Не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине! Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? Несмотря на то, что сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант. О! Когда я вспомню наших судей, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство… Сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или ты думаешь мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?
Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимую цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей – никогда. Мои страдания тебе не могут быть вполне понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы».[173]173
Письмо от 30–18 марта 1837 года.
[Закрыть]
В этот же день он пишет Прокоповичу:
«Великого не стало. Вся жизнь моя теперь отравлена. Пиши ко мне, бога ради! Напоминай мне чаще, что еще не все умерло для меня на Руси, которая уже начинает казаться могилою, безжалостно похитившею все, что есть драгоценного для сердца. Ты знаешь и чувствуешь великость моей утраты».
Его эпистолярный плач, конечно же, должен был быть облечен в литературную форму. Изливая свою боль, Гоголь не мог не сыграть роль писателя, оплакивающего на восхитительных страницах смерть другого писателя. В своей переписке он обращался к внимательным потомкам. Однако его грусть не была притворством. В нем говорила, как обычно, смесь отчаяния и комедии, непосредственности и высокопарности. С пером в руке он полностью отдавался фразам. Чем больше он был искренним, тем больше слышалась фальшь в его словах. Впрочем, покопавшись в себе, он вынужден был признать, что потеря Пушкина как друга его ранила меньше, чем потеря его как поэта и незаменимого советчика. У них ничего не было общего: ни по образу жизни, ни по возрасту, ни по образованию, ни по положению в светских и литературных кругах, ни по характеру они не подходили друг другу. За все свое путешествие Гоголь написал Пушкину всего один раз, хотя очень часто доверялся Жуковскому. Пушкин для него был человеком необыкновенным, гением в чистом виде, воплощением своего собственного художественного сознания. В минуты сомнений он обращал свои взоры на своего знаменитого старшего друга, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Он просил Пушкина не только подсказать ему сюжеты, дать совет, но и желал получить от него то незримое одобрение, которое может дать только человек, добившийся большего на общем поприще. Самодостаточность и гармония, безмятежность и проницательность, внешнее неоспоримое совершенство – все это был Пушкин. Кроме того, несмотря на то, что ясность, трезвость его гения была противоположностью гротеску и будоражащему характеру произведений молодого коллеги, Пушкин никогда не пытался навязать ему свою точку зрения. Он советовал ему книги для чтения, критиковал его сочинения, но всегда давал ему свободу самовыражения. Он помогал ему быть еще больше самим собой. Привыкший всегда получать такую поддержку, Гоголь неожиданно почувствовал огромную пустоту вокруг себя. Его охватил панический страх. Сможет ли он писать в отсутствие Пушкина? У него уже не было желания продолжать работать над новой книгой. Он чувствовал себя так, как если бы у него одним разом отняли всех читателей. Тем не менее упадок его духа продлился недолго. Насколько это верно, что произведение несет в себе большие притязания на существование, чем какие-либо умственные размышления. Жажда творчества, такая же сильная, как инстинкт сохранения у раненого животного, вновь возродилась в душе писателя. «Мертвые души» нуждались не в Пушкине, а в нем – Гоголе. Книга переполнила голову до такой степени, что казалось, она скоро разорвет ее. Он больше не мог удерживать ее в себе. И он лихорадочно возвращается к своей рукописи.
«Я должен продолжать мною начатой, большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысли есть его создание и которой обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтоб она была долговечна».[174]174
Письмо от 30–18 марта 1837 г.
[Закрыть]
И позже тому же В. А. Жуковскому:
«О, Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон мне удалось видеть в жизни и как печально было мое пробуждение! Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге; но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все».[175]175
Письмо от 30–18 марта 1837 г.
[Закрыть]
Уже Пушкин становился в его глазах поэтическим образом, тонким предлогом, именем, который можно поставить во главе нового творения, чтобы подчеркнуть его исключительную важность.








