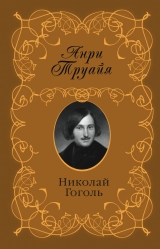
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
И сестрам Анне и Елизавете: «Я для вас решаюсь ехать в Петербург. Знаете ли вы, какую я жертву делаю? Знаете ли, что я за миллионы не согласился бы приехать в Петербург, если бы не вы?»[229]229
Письмо от 15—3 сентября 1839 г.
[Закрыть]
Он предусмотрительно не сообщал матери даже приблизительного срока своего прибытия. Даже на расстоянии она вызывала у него раздражение. Глубоко ее уважая, жалея, обвиняя себя в том, что он плохой сын, так как не смог оградить ее от материальных нужд, он отпускал колкости в письмах к ней, словно хотел отомстить ей за сильную любовь к нему. Как она осмелилась ему написать, что хвалилась его талантом соседям? И он ей приказывает никогда больше не пускаться в литературные обсуждения, а только отвечать:
«Я не могу быть судьею его сочинений, мои суждения всегда будут пристрастны, потому что я его мать, но я могу сказать только, что он добрый, меня любящий сын, и с меня этого довольно».[230]230
Письмо от 29 ноября по 11 декабря 1838 г.
[Закрыть]
Надеялась сделать приятное, сообщая, что она приказала сшить для него рубашки? Он поражается этой глупой затее: «Напрасно вы нашили мне рубашек. Я их, без всякого сомнения, не могу носить и не буду, потому что они сшиты не так, как я привык. Лучше обождать, покамест вы будете иметь на образец мою рубашку, на манер которой вы можете уже заказать мне сшить».[231]231
Письмо от июня 1839 г.
[Закрыть]
Вообразила о «прекрасной партии» для Анны по выходу из Института? Он ее жестко урезонивает: «Партии составляются между равными, и нужно быть для этого порядочным дураком или слишком оригинальным человеком, чтобы вдруг идти наперекор своим родным, своим выгодам и отношениям в свете и избрать небогатую, неизвестную девушку; или нужно, чтобы для этого девушка была решительно собрание всех совершенств, прелестей и ума, чего натурально не может представить наша Аничка, впрочем, добрая девушка, могущая быть хорошею женою».[232]232
Письмо от 12 марта 1839 г.
[Закрыть]
А также, говоря о болезненной застенчивости его сестер, которую мать объясняла тем, что их слишком грубо вырвали из родного дома: «Как можно так несправедливо думать! Напротив, это одно средство, которое было причиною уменьшения их робости. Они, приехавши из деревни, были совершенные дикарки, от которых посторонний человек не мог добиться слова. Теперь по крайней мере они могут разинуть рот и произнести несколько удовлетворительных слов».[233]233
Письмо июнь 1839 г.
[Закрыть]
Совершенно очевидно, что Мария Ивановна, несмотря на свои сорок восемь лет, была в представлении Гоголя неразумным дитем, постоянно что-то воображающим и не способным сделать самостоятельно и шага. Анна, Елизавета, Ольга, Мария были еще более беспомощными перед стихийным потоком действительности. Только он один мог спасти их от кораблекрушения. Пять женщин на руках! И ответственность за создание великого произведения. Он и спаситель, и создатель. Будет ли ему по силам эта двойная задача, возложенная на него Богом? Сколько бы он ни подчитывал и ни пересчитывал свои деньги, которые у него были в наличности, и те, которые он мог бы получить от переиздания той или иной книги, все равно этой суммы не было достаточно, чтобы, по его расчетам, она хватила для обустройства сестер.
Прибытие М. П. Погодина немного рассеяло его беспокойства. Слава богу, у него были хорошие друзья. Что бы ни случилось, они его не оставят в беде. Они сложились, чтобы купить два дилижанса. В один сели госпожа Погодина и госпожа Шевырева, которые тоже были проездом в Вене, в другой сели Погодин и Гоголь. Они тронулись в путь 22 сентября 1839 года поздно ночью.[234]234
Или 10 сентября по юлианскому календарю.
[Закрыть]
Шесть дней спустя, после того, как они пересекли Олмюц и Краков, путешественники прибыли в Варшаву. Оттуда Гоголь пишет В. А. Жуковскому:
«Выпуск моих сестер требует непременного и личного моего присутствия… Одно меня тревожит теперь. Мне нужно на их экипировку, на зарплату за музыку учителям во все время их пребывания там и пр., и пр. около 5000 рублей, и, признаюсь, это на меня навело совершенный столбняк… Я еще принужден просить вас. Может быть, каким-нибудь образом государыня, на счет которой они воспитывались, что-нибудь стряхнет на них от благодетельной руки своей. Знаю, бесстыдно и бессовестно с моей стороны просить еще ту, которая уже так много удручила мое сердце бессилием выразить благодарность мою. Но я не нахожу, не знаю, не вижу, не могу придумать средств… и чувствую, что меня грызла бы совесть за то, что я не был бессовестным».[235]235
Письмо от 28–16 сентября 1839 г.
[Закрыть]
На следующий день, 17 сентября 1839 года (по юлианскому календарю), путники отправились в Бялысток, также на двух экипажах, куда добрались в тот же вечер. 23 сентября они достигли Смоленска. А 26-го, с наступлением ночи, забрызганные грязью экипажи остановились перед шлагбаумом, который обозначал въезд в Москву. Сигнальный фонарь с еле тлеющим огнем освещал полосатую будку, часовой с алебардой, лужа. Русская речь слышится со всех сторон. Ах, где теперь Рим с его голубым небом?
Глава IV
Возвращение в Россию
В Москве Гоголь остановился у Погодиных, которые жили в просторном белом доме, в глубине огромного сада, на окраине Девичья поля. Его комната на третьем этаже была огромна, удобно обставлена, с пятью окнами, выходящими на улицу. В тот же вечер он написал матери. Но не для того, чтобы сообщить ей о своем приезде. Он слишком боялся, что, узнав об этом, она захочет приехать к нему. Любя ее, он, тем не менее, не слишком спешил ее увидеть. Он знал, что с ней он опять попадет в атмосферу денежных проблем, провинциальных толков, глупого обожания, абсурдных планов женитьбы. Чтобы охладить ее пыл, он прибегает в который раз к мистификации. Если другие облегчают себе душу, говоря правду, то он дышал свободнее, когда вводил в заблуждение. Вместо того, чтобы указать в письме город отправления – Москва, он датирует его 26 сентябрем 1839 года и подписывает: город Триест. И его перо залетало по бумаге:
«На счет моей поездки в Россию я еще ничего решительно не предпринимал. Я живу в Триесте, где начал морские ванны, которые мне стали было делать пользу, но я должен их прекратить, потому что поздно начал. Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца, и то если найду для этого удобный случай, и если эта поездка меня не разорит… Если бы не обязанность моя быть при выпуске сестер и устроить по возможности лучше судьбу их, то я бы не сделал подобного дурачества и не рисковал бы так своим здоровьем, за что вы, без сомнения, как благоразумная мать, меня первые станете укорять… Итак, я не хочу вас льстить напрасною надеждою. Может быть, увидимся нынешнюю зиму; может быть, нет. Если ж увидимся, то не пеняйте, что на короткое время. Завтра отправляюсь в Вену, чтобы быть поближе к вам».
Дойдя до этого места, он попадает в затруднительное положение, какой точный адрес указать Марии Ивановне для ответа? А! Адрес Погодина, черт возьми! Раз допустив ложь, следует другая, словно ее тащат за веревку:
«Письма адресуйте так: в Москву, на имя профессора Моск. университета Погодина, на Девичьем Поле. Не примите этого адреса в том смысле, чтобы я скоро был в Москве; но это делается для того, чтобы ваши письма дошли до меня вернее: они будут доставлены из Москвы с казенным курьером».
Ну а теперь, чтобы придать правдоподобия общей картине, надо было добавить описание города, в котором, он предполагаемо находился: «Триест – кипящий торговый город, где половина италианцев, половина славян, которые говорят почти по-русски – языком очень близким к нашему малороссийскому. Прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня повеяли здоровьем. Жаль, что я начал поздно мои купания. Но на следующий год постараюсь вознаградить. Прощайте, бесценная маминька. Будьте здоровы и пишите. Теперь вы можете писать чаще, письма ваши скорее получатся мною. Много вас любящий и признательный вам сын ваш Николай».[236]236
Гоголь – матери, 26 сентября 1839 г. Письма, II, 7.
[Закрыть]
Несколькими неделями позже, находясь все также в Москве, он послал матери новое письмо в этот раз будто бы из Вены, в котором сообщил о своем отправлении в Россию. По его расчетам, он намеревался увидеть ее не раньше, чем через два месяца, так как его путешествие скорее всего продлится долго. Но она уже может переслать на адрес Погодина те рубашки, которые ему сшили по ее заказу: «Если они не будут так годиться, то я буду их надевать по ночам, что мне необходимо».[237]237
Письмо от 26 октября 1839 г.
[Закрыть]
Безусловно, было опасно так долго водить мать за нос: Мария Ивановна могла чисто случайно узнать, что ее сын уже давно вернулся на родину. Хотя если бы его обман и был бы раскрыт, то он тут же бы придумал себе новое оправдание. Его мать была очень легковерной, и у нее было такое богатое воображение! На всякий случай, однако, он попросил своих друзей держать свой приезд в секрете. «Я в Москве, – писал он Плетневу. – Покамест не сказывайте об этом никому».
И продолжал, высказывая свои соболезнования по поводу недавней кончины жены Плетнева:
«Я услышал и горевал о вашей утрате… Знаете ли, что я предчувствовал это. И когда я прощался с вами, мне что-то смутно говорило, что я увижу вас в другой раз уже вдовцом… и я не знаю, от чего во мне поселился теперь дар пророчества. Но одного я никак не мог предчувствовать – смерти Пушкина, и я расстался с ним, как будто бы разлучаясь на два дни. Как странно! Боже, как странно! Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург – и Пушкина нет. Я увижу вас – и Пушкина нет».[238]238
Письмо от 27 сентября 1839 г.
[Закрыть]
Да, отсутствие Пушкина здесь, где он жил, чувствовалось сильнее, чем в Италии, куда ему так и не удалось попасть. Снова встречаясь с их общими друзьями, Гоголь каждый раз ощущал пустоту. Он находился, словно перед игрой в складывающиеся картинки, в которой так и не хватало основной детали. Его друзья волновались по поводу его перемен настроения. Невозможно знать за десять минут, будет ли он весел и красноречив или же замкнут, молчалив, раздражителен. Он не любил никаких новых знакомств, особенно хмурился, если это были незнакомые дамы. Однако же Погодины окружили своего гостя необыкновенной заботой и вниманием, каких можно только пожелать. Если бы они могли, они бы округлили углы своей мебели, только чтобы, не дай бог, он не поранился, проходя мимо.
По утрам он никогда не выходил из своей комнаты, писал, читал или вязал шарф для успокоения нервов. В час обеда он спускался с отдохнувшей физиономией, в хорошем расположении духа и осведомлялся насчет меню. Если были макароны, то кроме него никто не допускался к их приготовлению, и вся семья с умилением смотрела на этот священный ритуал. Затем он поднимался к себе, чтобы немного вздремнуть. В семь вечера он опять спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады комнат первого этажа, включая те, в которых работал Погодин, и начиналось хождение. В двух крайних комнатах по обеим сторонам огромного здания хозяйка дома ставила на круглые столики по графину с холодной водой. Каждые десять минут он останавливался и выпивал один стакан. Погодина это хождение никак не беспокоило, он преспокойно сидел и писал. Что касается сына Погодина, еще ребенка, то он, замерев, следил за странной личностью, сухощавой и с крючковатым носом, птичья тень которой летала на фоне трепещущего света свечи, спешила непонятно куда, проскакивала по карнизам.
«Ходил же Гоголь всегда чрезвычайно быстро и как-то порывисто, производя при этом такой ветер, что стеариновые свечи оплывали, к немалому огорчению моей бережливой бабушки… Закричит, бывало, горничной: „Груша, а Груша, подай-ка теплый платок: тальянец (так она называла Гоголя) столько ветру напустил, так страсть“. – „Не сердись, старая, – скажет добродушно Гоголь, – графин кончу, и баста“. Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх. На ходу, да и вообще, Гоголь держал голову несколько набок. Из платья он обращал внимание преимущественно на жилеты: носил всегда бархатные и только двух цветов: синего и красного. Выезжал он из дома редко, у себя тоже не любил принимать гостей, хотя характера был крайне радушного. Мне кажется, известность утомляла его, и ему было неприятно, что каждый ловил его слово и старался навести его на разговор».[239]239
Д. М. Погодин (сын М. П. Погодина). Воспоминания. Исторический вестник, 1892, апрель, 42–44. Пребывание Гоголя в доме моего отца. (Гоголь в воспоминаниях современников.)
[Закрыть]
Действительно, Гоголь, «итальянец», испытывал болезненный страх в обществе. Он жаждал комплиментов и выходил из себя, когда люди не скупились на похвалы. Но, несмотря на указания хранить молчание, слухи о его прибытии очень быстро разлетелись по городу. Первым, кто его увидел после того, как он остановился у Погодиных, был актер Щепкин, его безоговорочный почитатель, который с огромным успехом в течение многих месяцев играл в «Ревизоре». Вместе они отправились 2 октября к Сергею Тимофеевичу Аксакову, который сам только что прибыл в Москву. Все Аксаковы, и стар и млад, относились с обожанием, сравни религиозному, к тому, кого восторженный Сергей Тимофеевич наградил титулом «русского Гомера». Услышав имя посетителя, все члены семьи, собравшиеся за столом, поднялись в радостном изумлении. Его не ждали к обеду. Ему тотчас освободили место. Ему подали лучшие блюда. Все взгляды были устремлены на него в немом почитании. Выражая свое восхищение, Аксаков позже дает Гоголю следующее лестное описание его портрета:
«Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать. Следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного, кроме хохла, франтика в модном фраке. Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то не внешнему. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности; сама фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее.
Он часто шутил в то время, и его шутки, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал; сам же он всегда шутил, не улыбаясь».[240]240
С. Т. Аксаков. Знакомство с Гоголем. Собр. соч., 1909. Т. II, стр. 341–343.
[Закрыть]
Однако, когда старший сын Аксакова, Константин, спросил, привез ли Гоголь что-нибудь из написанного в Италии, он услышал резкое: «Ничего».
Жена Панаева,[241]241
Авдотья Яковлевна Панаева-Головачева – жена предыдущего, затем – «гражданская» жена Некрасова; автор романов и интересных сведений о современных ей литературных деятелях.
[Закрыть] в первый раз встретившись с таким великим писателем, нашла его «сердитым и капризным». Он повадился почти каждый день приходить обедать у Аксаковых, которые принимали его, как мессию. Он председательствовал на обеде, восседая в вольтеровском кресле.
«У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывал на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка… Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола».[242]242
А. Я. Панаева-Головачева. Воспоминания.
[Закрыть]
Что касается мужа рассказчицы, то он также описал свои впечатления:
«Наружность Гоголя не произвела на меня приятного впечатления. С первого взгляда на него меня всего более поразил его нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Он был одет с некоторою претензиею на щегольство, волосы были завиты и клок напереди поднят довольно высоко, в форме букли, как носили тогда. Вглядываясь в него, я все разочаровывался более и более, потому что заранее составил себе идеал автора „Миргорода“, и Гоголь нисколько не подходил к этому идеалу. Мне даже не понравились глаза его – небольшие, проницательные и умные, но как-то хитро и неприветливо смотревшие».[243]243
И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Панаев был журналистом, принадлежавшим к кружку Белинского. 130–131.
[Закрыть]
И еще:
«Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружавшего его, и принимал все это как должное, стараясь прикрыть удовольствие, доставляемое его самолюбию, наружным равнодушием. В его манере вести себя было что-то натянутое, искусственное, тяжело действовавшее на всех, которые смотрели на него не как на гения, а просто как на человека…
Чувство глубокого, беспредельного уважения семейства Аксаковых к таланту Гоголя проявлялось во внешних знаках, с ребяческой, наивной искренностью, доходившей до комизма».[244]244
Там же.
[Закрыть]
Наконец С. Т. Аксаков вырвал у Гоголя обещание прочитать у него одно из его последних сочинений 14 октября после обеда, на который будут приглашены несколько друзей. В назначенный день гости, среди которых были П. В. Нащокин, И. И. Панаев, М. С. Щепкин, собрались в салоне, ожидая Гоголя в сладостном нетерпении. Но проходили минуты, началось волнение на кухне, хозяйка дома краснела, бледнела, украдкой поглядывала на дверь, а Гоголя все не было. Он пришел только в исходе четвертого, извинился, как обычно, за небольшое опоздание. Сел, по установившемуся обычаю, на почетное место за столом в вольтеровское кресло, позволил, чтобы его обслужили первым, выпил, не моргнув, вино, специально поставленное для него, из стакана розового хрусталя, послушал, скучая, разговоры, во время которых не проронил ни слова. После обеда он лег на диван в кабинете Аксакова, стал опускать голову и задремал. Тогда хозяин дома, шагая на цыпочках, увел гостей в гостиную и молил всех говорить тише. Дамы переживали: проснется ли он в благодушном настроении или мрачном? Будет ли читать или нет? Аксаков следил за спящим в щелку двери. Наконец Гоголь зевнул, потянулся, поднялся и присоединился к остальным.
«Кажется, я вздремнул немного?» – спросил Гоголь, зевая…
После некоторых колебаний Сергей Тимофеевич осмелился пролепетать:
«А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание… Вы не забыли его?»
«Какое обещание? – сделал удивленное лицо Гоголь. – Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно; вы меня лучше уж избавьте от этого…»
Но Сергей Тимофеевич стал упрашивать его с такой дрожью в голосе, что Гоголь уступил. У всех засияли лица. Дамы зашептались: «Гоголь будет читать! Гоголь будет читать!» Главный герой вечера нехотя сел на диван перед овальным столом, мрачно всех оглядел, и вдруг рыгнул раз, другой, третий… Дамы вздрогнули, мужчины смущенно отвернулись.
«Что это у меня? точно отрыжка! – пробормотал Гоголь. – Вчерашний обед засел в горле: эти грибки да ботвинья! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь…»
И заикал снова, к всеобщему ужасу, затем вынул рукопись из заднего кармана, открыл ее и продолжил, читать, отслеживая глазами текст:
«Вот оно! Еще! Еще раз! Прочитать еще „Северную пчелу“, что там такое?..»
Тут только слушатели догадались, что эта отрыжка и эти слова были началом еще не опубликованной пьесы и все облегченно вздохнули, обменявшись восхищенными взглядами. В конце чтения присутствующие разразились бурными аплодисментами.[245]245
Подробности этой сцены описаны И. И. Панаевым в «Литературных воспоминаниях».
[Закрыть]
Удовлетворенный приемом этого отрывка из комедии «Тяжба», Гоголь сообщил, что он прочтет первую главу из «Мертвых душ».
Восторг был неимоверный. Конечно, талант автора превосходил его способности чтеца, но фраза за фразой, и перед ошеломленными слушателями открывался одновременно правдивый и гротескный, будничный и фантастический мир.
«После чтения, – напишет позже И. И. Панаев – С. Т. Аксаков в волнении прохаживался по комнате, подходил к Гоголю, жал его руки и значительно посматривал на всех нас… „Гениально, гениально!“ – повторял он. Глазки Константина Аксакова (сына Сергея Тимофеевича) сверкали: он ударил кулаком о стол и говорил: – „Гомерическая сила! гомерическая!“ Дамы восторгались, ахали, рассыпались в восклицаниях».[246]246
Там же.
[Закрыть]
Однако друзья Гоголя мечтали для него еще более явного признания. Как только он приехал, они начали уговаривать его посмотреть «Ревизора» в Большом театре. Актеры, говорили они, обижались на него, что, находясь в Москве, он даже не соблаговолит взглянуть, как они исполняют его пьесу. Дирекция театра объявила, что назначит пьесу на любой удобный ему день. Мог ли он отказаться после стольких уговоров, не сойдя за гордеца? Он уступил, несмотря на свое нежелание, и отправился в театр вечером 17 октября 1839 года, надеясь остаться незамеченным.
Но уже вся Москва знала, что автор будет на представлении. Задолго до поднятия занавеса огромный белый с золотом зал был забит от первых рядов партера до галерки. Гоголь тайком проник в бенуар Чертковых, первый слева, и вжался в свое кресло, спрятался в тени, за спинами других зрителей. В соседнем бенуаре сидел С. Т. Аксаков с семейством. Спектакль начался в возбужденной атмосфере. Зная, что на спектакле будет присутствовать Гоголь, актеры старались превзойти себя. Щепкин в роли городничего и Самарин в роли Хлестакова, выделяли каждую свою реплику. Публика смеялась и рукоплескала. Но как раз это всеобщее, шумное веселье и смущало Гоголя. Он словно присутствовал на водевиле. Его успех основывался на каком-то недоразумении. Он и сам казался недоразумением. Случайно очутившимся странником в современной литературе. Чужой среди людей. Зачем он пришел?
Во время первого и второго антрактов Гоголь весь сжимался, чтобы его не заметили зрители, которые повсюду его искали. Но по окончании третьего акта на него указал критик Павлов, обнаруживший его в бенуаре Чертковых.[247]247
Гоголь познакомился с Чертковыми в Риме. Чертков был известным археологом.
[Закрыть] Зал взорвался от криков: «Автора! Автора!» Громче всех кричал и хлопал Константин Аксаков. Перед такой толпой, чьи овации доходили до исступления, Гоголя охватила паника. Он никогда не мог переносить вида толпы: у него начинала кружиться голова, как если бы он смотрел на штормовое море с высокого мыса. Безусловно, всеобщее почитание было ему жизненно необходимо. Но каждый раз, когда оно себя проявляло, это происходило вопреки его представлению. Он хотел вовсе иной формы признания и любви. Комплименты, которыми его осыпали, казались ему слишком слащавыми или слишком банальными. Их говорили или слишком рано, или слишком поздно. Они часто были не к месту. Их расточали по поводу произведения, которое он больше не любил. И ему становилось от этого плохо. Хватит! Хватит! Рев толпы становился все громче и громче.
Хлопали руки, открывались рты на фоне общей розовой массы лиц. Дрожа от страха, Гоголь выскользнул из ложи. Аксаков его поймал и упрашивал показаться публике. Он отказался. Это было все равно, что просить его броситься в клокочущие волны. В то время, как он погружался в темноту ночи, из-за занавеса вышел актер и объявил, что «автора нет в театре». Гул неодобрения пробежал по залу. Еще никогда ни один автор так не пренебрегал восхищением публики и старанием актеров. Какая пощечина для тех и других!
«Ваш Гоголь уж слишком важничает! – сказал Павлов Константину Аксакову. – Вы его избаловали!»[248]248
И. И. Панаев. «Литературные воспоминания» и С. Т. Аксаков. «История знакомства».
[Закрыть]
На следующий день Гоголь, осознав, что обидел многих своих почитателей, написал извинительное письмо директору театра, Загоскину. Это письмо, которое он просил огласить, содержало одинаково путаные извинения и оправдания. Если он убежал со спектакля, говорил он, так это потому, что несколькими часами раньше он получил огорчительное письмо от матери. Таким образом, несмотря на овации публики, он никак не мог выйти на сцену триумфатором. Погодин и Аксаков, прочитав его объяснительное письмо, посчитали настолько неправдоподобным, что стали отговаривать его отсылать его. Что это могло быть за таинственное сообщение матери, которое не помешало ему, несмотря на все его расстройство, пойти в театр, но из-за которого он не мог ответить на аплодисменты зрителей? Никто не поверит в его историю. Он и сам в нее не верил. Он неохотно в этом признался и отказался от идеи посылать письмо. Впрочем, мысли его уже были далеко от Москвы.
Следуя своему плану, он должен был ехать за сестрами в Санкт-Петербург. У него не хватало денег. По счастливой случайности, Аксаков тоже собирался ехать в столицу, чтобы отвезти младшего четырнадцатилетнего сына Мишу в Пажеский корпус его величества. Вера, старшая дочь, поедет вместе с ними. Ну а если в коляске хватает места для троих, то хватит и для четверых!
Они выехали 26 октября 1839 года, в четверг. Аксаков взял «особый дилижанс», разделенный на два купе. В заднее купе сели Аксаков с Верой, в переднее – Гоголь и Миша. Между купе была перегородка с двумя окошками в раздвижной, деревянной рамке, которую можно было поднимать и опускать, что позволяло путникам переговариваться между собой. В пути, дрожа от холода, Гоголь закутался до ушей в пальто, надел поверх сапогов шерстяные чулки и поверх всего этого теплые медвежьи унты и сидел, съежившись, в углу. Большую часть пути он читал пьесы Шекспира на французском языке или дремал, облокотившись на свой дорожный мешок. Этот мешок, с которым он не расставался даже на станциях, содержал все самое необходимое.
«В этом огромном мешке, – напишет позже С. Т. Аксаков, – находились принадлежности туалета, какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей, наконец, несколько книг…» Иногда он открывал внутреннее окошко и делился с Аксаковым своими размышлениями о том, как надо играть «Ревизора», увлеченно говорил о божественной значимости искусства и красотах Италии. В гостинице города Торжок путешественникам подали дюжину пожарских котлет, попробовав которые, путники обнаружили в них довольно длинные белокурые волосы. Пока искали полового для объяснений, Гоголь пророческим тоном проронил:
«Я знаю, что он скажет: „Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда придти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух…“»
Пришел половой и повторил почти слово в слово небольшую речь Гоголя. Все прыснули от смеха, и смущенный половой удалился. Вера так смеялась, что ей чуть не сделалось дурно.
На каждой станции Гоголь, таким образом, находил повод поразвлечься. Он болтал с половыми, другими путешественниками, кучерами. Медленная однообразная езда благодетельно действовало на его характер. Это та самая дорога, длинная и прямая, из Москвы в Санкт-Петербург, по которой часто ездил Пушкин и которую он воспел в стихах. Позвякивали бубенчики, через определенные промежутки времени перед глазами мелькали полосатые межевые столбы. За запотевшими стеклами проплывали влажные серые равнины, деревни с избами, увязнувшими в осенней густой грязи, ребятишки в лохмотьях, играющие вокруг навозной кучи, телега, а в ней мужик с лохматой бородой, и снова, покуда хватит глаз, поля, покрытые пеленой тумана. И так пять долгих дней.
30 октября, в восемь часов вечера, дилижанс наконец въехал на улицы столицы, где там и тут, выбиваясь из последних сил, светили фонари. Гоголь распрощался с Аксаковым, захватил свой дорожный мешок и отправился к Плетневу, который вызвался его приютить. Очень скоро он переехал на служебную квартиру к В. А. Жуковскому, которую тот занимал в Зимнем дворце.
Эта квартира обладала торжественной и холодной роскошью музея. К ней вела мраморная лестница со статуями по обеим сторонам. На лестничных площадках стояли лакеи в ливреях. В комнатах с высокими потолками, гости инстинктивно ходили на цыпочках и говорили тихо. Жизнь Жуковского была на три четверти поглощена государственными обязательствами. Будучи наставником наследника трона, он присутствовал на всех праздничных ужинах, на всех балах, на всех церемониях. Но как только у него находилась свободная минутка, он надевал тапочки, переодевался в китайский халат и садился за рабочий стол, чтобы нацарапать наспех несколько стихов.
В день прибытия Гоголя он написал в своем дневнике: «Гоголь остановился у меня». Рядом он записал о своих встречах с великим князем Константином Николаевичем, о чашке чая с наследником, про обед у великой княгини… Несмотря на теплый прием хозяина, Гоголь под золочеными лепными украшениями Зимнего дворца чувствовал себя не в своей тарелке. Только устроившись, он побежал в Институт, чтобы повидать сестер.
В своих коричневых платьях они были похожи на двух монашек. После шести с половиной лет, проведенных в институте, не выходя из него даже на каникулы, у них не было ни малейшего понятия о внешнем мире, и их парализовала одна только мысль о том, что им придется переступить порог этого заведения. Их миром были классы, двор, общежитие, подружки, учителя, надзиратели… Анна, которой было восемнадцать, была еще более скованной, чем шестнадцатилетняя Лиза. Обе боялись новых лиц, шума улицы, мышей, темноты, грозы. Вначале они обрадовались, увидев брата, но затем их радость сменилась беспокойством, когда он обрисовал им жизнь, которая их ожидает. На последние деньги он купил им платья, белье, расчески, туфли, бегая по магазинам, выбирая все по своему вкусу, ошибаясь, обменивая одну вещь на другую, проклиная женскую моду, запутавшись среди тканей и лент. Наконец он вытащил двух девушек из их пристанища и поселил их до отъезда в Москву у своей подруги, княгини Елизаветы Петровны Репниной, урожденной Балабиной.
В этом незнакомом доме Лиза и Анна чувствовали себя окончательно потерянными. Прижимаясь одна к другой, они закатывали в страхе глаза, ни с кем не разговаривали, отказывались выходить на улицу и почти ничего не ели.
«Нас спрашивали, не хотим ли мы завтракать, но мы спешили отказаться, несмотря на сильнейший голод, – писала позже Елизавета, – и когда оставались одни, то спешили к печке и ели уголь положительно от голода, и все это благодаря нелепой застенчивости. За обедом снова мучения – я ничего не ем, тем более что мне приходилось сидеть рядом с одним из сыновей Балабиных. Кушанье я брала, не смотря на блюдо; раз Балабин заметил мне, что я взяла одну кость, я тотчас же оставила вилку, и полились слезы».[249]249
Е. В. Гоголь-Быкова. Русь, 1885, № 26, с. 7.
[Закрыть]
Лиза, младшая из двух сестер, с милым личиком, была более подвижной, а старшая, Анна, с длинным острым носом, низким лбом и маленькими птичьими глазами, была вылитым портретом брата. Когда она неожиданно входила в комнату, можно было подумать, что это Гоголь, переодетый в женщину. Одна и другая, разодетые в пух и прах, произвели на Аксакова удручающее впечатление: «…в новых длинных платьях, они совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя».[250]250
С. Т. Аксаков. История знакомства. С. 28.
[Закрыть]
В Санкт-Петербурге Гоголь надеялся, что Жуковский получит для него небольшую денежную субсидию от императрицы. Но императрица плохо себя чувствовала – не могло быть и речи о том, чтобы ее сейчас беспокоить. Видя отчаяние своего «гениального друга», Аксаков не замедлил предложить ему две тысячи рублей, которые он сам занял у богача Бенардаки. Такое великодушие потрясло Гоголя, он крепко сжал другу руки и долго молча с нежностью смотрел ему в глаза. Теперь он сможет поехать в Москву с сестрами. Однако, расплатившись с долгами, у него не осталось достаточно денег на дорогу. Хочешь, не хочешь, придется ждать Аксакова, чтобы воспользоваться его экипажем. Но Аксаков еще не уладил свои собственные дела и пока совсем не спешил уезжать из Санкт-Петербурга.








