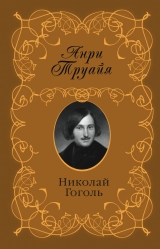
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Несмотря на настойчивые просьбы, с которыми он обращался к друзьям и знакомым почти в каждом своем письме в Россию, они, ленясь или не придавая этому значения, не спешили делиться с ним столь необходимыми ему наблюдениями. Там, похоже, никто не принимал его просьбы всерьез. Он же, лишенный сведений о жизни и людях в России, ничего не мог писать. По крайней мере это служило ему оправданием, почему он сидит сложа руки.
Надежда на возрождение прежних творческих сил после сожжения второго тома «Мертвых душ» недолго теплилась, и его снова охватила неуверенность в себе. Какая пустота в его утомленном мозгу! Сможет ли он заново завязать сюжет, управлять действиями персонажей? А вдруг его нерешительность является признаком того, что Бог отвернулся от него? Если это так, то не значит ли это, что он должен оставить литературу? Чтобы рассеять внутренние сомнения, он решил написать отцу Матвею Константиновскому:
«Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду… Его можно исполнять также и в званьи писателя. Если писателю дан талант, то, верно, недаром и не на то, чтобы обратить его в злое… Разве не может и писатель в занимательной повести изобразить живые примеры людей лучших, чем каких изображают другие писатели?.. Примеры сильнее рассужденья; нужно только для этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей сколько-нибудь Богу… А я, имея талант, умея изображать живо людей и природу…разве я не обязан изобразить с равною увлекательностию дюдей добрых, верующих и живущих в законе божием? Вот вам (скажу откровенно) причина моего писательства, а не деньги и не слава».[510]510
Письмо Н. Гоголя – М. Константиновскому от 24–12 сентября 1847 г.
[Закрыть]
И Жуковскому:
«Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо!.. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена… Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства…
Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании „Переписки“ поставить впереди книги на место „Завещания“, имеющего выброситься, а заглавье дать ему: „Искусство есть примирение с жизнью“».[511]511
Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 10 января 1848—29 декабря 1847 года. Любопытно, что Гоголь высказал эту мысль почти в тех же выражениях 5 лет назад во второй версии «Портрета» (1842 г.): «Ибо для успокоения и примирения всех не сходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу».
[Закрыть]
В его глазах художественное и нравственное совершенство стали неразделимы, и он вернулся к своей спасительной идее о поездке в Иерусалим. В начале Гоголь намеревался совершить паломничество, чтобы выразить благодарность Богу за успешное окончание второго тома «Мертвых душ». Теперь же, когда работа над вторым томом только начиналась, он думал отправиться к Гробу Господню в поисках вдохновения. Благодарственный молебен превращался в зов о помощи. Ему казалось, что это единственное спасение от сомнений. Если там Христос благословит его книгу, он будет спасен. Если же нет… Одна только мысль об этом холодила сердце. Он разрывался между желанием отправиться в путь и страхом не оправдать своих надежд. Ко всему прочему он еще не нашел себе попутчика. Говорили, что дорога может оказаться опасной. Он боялся моря, боялся всех этих грязных восточных городов, где, хочешь-не хочешь, но ему придется останавливаться, и, наконец, боялся остаться равнодушным перед Гробом Господнем. В 1846 году, когда он уже почти сел на пароход, он написал матери:
«Во времена, когда я буду в дороге, вы не выезжайте никуда и оставайтесь в Васильевке. Мне нужно именно, чтобы вы молились обо мне в Васильевке, а не в другом месте. Кто захочет вас видеть, может к вам приехать. Отвечайте всем, что находите неприличным в то время, когда сын ваш отправился на такое святое поклонение, разъезжать по гостям и предаваться каким-нибудь развлечениям».[512]512
Н. Гоголь – матери, письмо от 14—2 ноября 1846 г.
[Закрыть]
Сейчас он еще больше волновался. Чтобы отложить отъезд, он приводил в качестве предлога плохое здоровье, нехватку денег, какие-то текущие работы. Затем он неожиданно ехал в Париж, Франкфурт, Эмс, Остенде, возвращался в Неаполь через Марсель, Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим. Такими торопливыми лихорадочными скачками по городам он хотел заглушить тревогу от ожидания большого путешествия. Он проводил все время в молитвах. Но чем больше он молился, тем больше росло волнение. Как бы он ни стремился к совершенству, его душа отказывалась устремляться в небо.
«Но признаюсь вам, – писал он А. О. Смирновой, – молитвы мои так черствы! Я прежде думал, что я лучше молюсь, что почти умею молиться временами. Но теперь вижу, что если не захочет сам тот, которому молишься, никак нельзя помолиться. Но как бы то ни было, я произнесу мои слова, как бы ни были они бессильны, как бы ни было черство на душе и как бы ни был неповоротлив ленивый, грубый язык…»[513]513
Н. Гоголь – А. О. Смирновой, письмо от 20—8 ноября 1847 г.
[Закрыть]
И Шевыреву:
«Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим?…Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильнее, и все бы меня тянуло туда, и не посмотрел бы я на трудности пути. Но в груди моей равнодушно и черство, и меня устрашает мысль о затруднениях».[514]514
Н. Гоголь – С. П. Шевыреву, письмо от 2 декабря – 20 ноября 1847 г.
[Закрыть]
Графине Шереметевой:
«Я малодушнее, чем я думал; меня все страшит. Может быть, это происходит просто от нерв. Отправляться мне приходится совершенно одному; товарища и человека, который бы поддержал меня в минуты скорби, со мною нет… Отправляться мне приходится во время, когда на море бывают непогоды; а я бываю сильно болен морскою болезнью и даже во время малейшего колебания. Все это часто смущает бедный дух мой, и смущает, разумеется, оттого, что бессильно мое рвенье и слаба моя вера…»[515]515
Н. Гоголь – Н. Н. Шереметевой, письмо, конец ноября – начало декабря 1846 г.
[Закрыть]
Может, лучше не ехать? Ему иногда приходила эта мысль. Но он столько об этом говорил, столько людей знали о его планах, что ему уже нельзя было отступиться. И потом, простит ли ему Всевышний такое малодушие? С каждым днем он все больше чувствовал, что теряет благосклонность небесных сил. Как если бы Бог больше не доверял ему, так и он больше не мог доверять Богу. Как если бы в его отношениях с Богом произошел разрыв, как в его отношениях с людьми. Он молил Провидение послать ему знак. Его одиночество было всеобъемлющим, непоправимым, пугающим. Один на один со светом, один на один с церковью. Он стал самому себе духовным отцом, не обращаясь ни к каким духовным наставникам. Он был самоучкой во всем и доходил до всего своим умом, читая разнообразные сборники и размышляя в одиночестве. Но вот неожиданно он чувствует необходимость опереться на совет духовника. Князь Толстой рекомендует ему ржевского протоиерея Матвея Константиновского. Малообразованный ограниченный аскет требовал от себя и от других непоколебимой веры. Гоголь знал его только по письмам, но его убежденность внушала ему уважение. Переживая период самых мучительных сомнений, он снова обращается к нему:
«Но, увы! молиться не легко. Как молиться, если Бог не захочет?.. О друг мой и самим Богом данный мне исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков… Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера… Вот все, но веры у меня нет. Хочу верить. И, несмотря на все это, я дерзаю теперь идти поклониться Святому Гробу. Этого мало: хочу молиться о всех и всем, что ни есть в русской земле и отечестве нашем. О, помолитесь обо мне, чтобы Бог не поразил меня за мое недостоинство и удостоил бы об этом помолиться!»[516]516
Н. Гоголь – М. А. Константиновскому, письмо от 12 января 1848 – 31 декабря 1847 г.
[Закрыть]
Как ни странно, знаком свыше явились восстания в Италии. Почти во всех больших городах, словно по приказу, вспыхивали народные восстания. Вся часть полуострова, которая напрямую не подчинялась Австрии, требовала «конституцию». Это модное слово приводило Гоголя в крайнее раздражение. Даже в Неаполе ходить по улицам, казалось, уже небезопасно. У него не укладывалось в голове, что умами самого беспечного народа овладела политика. Взвесив сложившуюся ситуацию, Гоголь решил, людские бури более опасны, чем морские. Опасаясь новых беспорядков, он ускорил приготовления к отъезду. Перед тем как покинуть Италию, он сочинил молитву и послал ее матери и друзьям с просьбой читать ее самим и попросить священника читать ее во время службы, совершенной во имя его.
Приняв таким образом все меры предосторожности, больной от волнения и страха, он сел на маленький пароход «Капри», который должен был отвезти его на Мальту.
«Боже, соделай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным! восстанови тишину морей и укороти бурное дыхание ветров!
Тишину же души его исполни, благодатных мыслей во все время дороги его!
И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремленье сердец наших к прославленью святого имени Твоего!»
Глава III
Иерусалим
Несмотря на то, что море было немного беспокойным, монотонная качка судна прекратилась недомоганием Гоголя. Тошнота вывернула ему все внутренности. Пот градом катился по его лицу. «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость, сознаваясь, что не видывали, чтобы кто-то так страдал», – писал он графу Толстому,[517]517
Письмо Н. Гоголя – графу А. П. Толстому от 22 января 1848 г.
[Закрыть] описывая свое путешествие по прибытии в Мальту. Он едва переставлял свои ватные ноги, шагая по улице. Обессиленный, Гоголь запрятался в комнатушке, еще меньше и грязнее, чем была у него на Капри, и с ужасом ожидал возобновления морского путешествия, которое ему предстояло через пять дней на другом судне. В таком настроении он настрочил несколько писем, чтобы уведомить всех, что умирает, и попросил подобрать для него священников особенно ревностных для того, что совершить молебен о благополучном исходе путешествия.
27 января 1848 года он покинул Мальту, направляясь в Константинополь. В Константинополе он сел на австрийский пароход, принадлежавший компании Ллойда – «Истамбул», направляющийся в Смирну. В Смирне он пересел на новый пароход, той же компании, идущий в Бейрут. На этот раз море было до того спокойным, что Гоголь не испытал каких-либо неприятностей. На передней палубе толпились паломники всех национальностей, совершающих путешествие ко Гробу Господню. Среди них он встретил русского генерала Крутова, одетого в белый военный мундир с ремнем и красной феской на голове, а также скромного, небольшого роста священника с бородкой, отца Петра Соловьева. Сам Гоголь был облачен в белую поярковую шляпу с широкими полями и итальянский плащ.
«Маленький человечек, – отмечал священник Петр Соловьев, – с длинным носом, с черными жиденькими усами, с длинными волосами, причесанными a la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз».[518]518
Священник Петр Соловьев. Встреча с Гоголем. (Русская старина, 1883 г.).
[Закрыть] Познакомившись со священником по пути между Неаполем и Мальтой, Гоголь показал ему небольшую иконку Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца, которую он вез в своем багаже и которая неизменно находилась с ним. Она представляла собой копию в миниатюре со старинного образа епископа, хранящегося в Бари. Святитель Николай, – сказал Гоголь, – сопутствует ему в путешествиях и одновременно является общим покровителем всех путешественников на земле и на море. Отец Петр выразил некоторое сомнение в верности копии этой иконы, потому что не видел до этого ее оригинала. Однако Гоголь полностью доверился чудотворной силе этого святого изображения, тем более что перед судном вскоре показались очертания Бейрута.
В Бейруте генеральным консулом России был не кто иной, как его одноклассник по Нежинской гимназии Константин Базили. Искусный дипломат, большой знаток Ближнего Востока, автор ряда исследовательских трудов по Турции и Греции, он оставался до конца преданным друзьям своей молодости. Он с радостью встретил того, кого его товарищи прозвали когда-то между собой «таинственный карла» и, оказав ему гостеприимство, предложил устроиться у себя. В течение нескольких дней Гоголь отдыхал от усталости и дороги, расположившись в консульстве. Затем он вновь продолжил свое путешествие в сопровождении Базили, который вызвался быть ему гидом в пути через пустыни Сирии по направлению к Иерусалиму. Этот путь, медленный и однообразный, усыплял его сознание. Его энтузиазм время от времени становился все более притупленным.
«Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне, эту землю, – писал он В. А. Жуковскому. – Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей, в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по морскому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень – колодезь, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса, и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».[519]519
Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 г.
[Закрыть]
Благодаря К. Базили, который в глазах арабов представлял власть «великого падишаха» России и в этой связи был вынужден играть роль полномочного вельможи, путешествие проходило относительно нормально. Но даже в лучших домах в диванах водятся клопы. Вокруг вились сотни москитов. Песчаный ветер иссушал гортань, забивал глаза. Гоголь пребывал не в лучшем настроении, и Базили просил его не выказывать ему прилюдно своего раздражения. Они миновали выжженный солнцем Сидон, сонный Тир, который укрылся за своими средневековыми стенами, Святого Жан Дакра на людных базарах, десятки безымянных мертвых деревень. Их след растянулся по берегу моря. Повсюду простиралась безжизненная земля, камни, ослепительный свет и островки моха. Приближался Иерусалим. Гоголь ехал верхом на мулах и мысленно готовился к откровению. С высоты холма в прозрачной дымке появилась белесая раздробленная панорама святого города. Путешественники проехали через ворота Яффы и остановились в доме православного патриарха.
Утром следующего дня Гоголь отважился пройтись по узким извилистым улочкам, вдоль низеньких домов, соединяющихся сводами, посетил шумные рынки, смешался с плотной и медлительной толпой, которая осаждала лотки. В ней встречались и евреи, и турки, и армяне, и арабы, и греки. Возвращался с прогулки оторопевший от грязи, запущенности, беспорядка, который правил на этом месте, освященном памятью о Христе. Тот факт, что Иерусалим находился под османским гнетом, оскорбляло его память о Спасителе. Говея, он стал навещать Гроб Господень. Пять или шесть турецких охранников сидели, поджав ноги, среди подушек на площадке, покрытой ковром, курили и играли в шахматы, надзирая за входом. Массивные двери были распахнуты. Гоголь, перекрестясь, переступал через порог. Сначала он видел освященную лампами и свечами большую плиту из розового мрамора, именуемую «камнем помазания», на котором, согласно преданию, Христос был омыт благовониями после снятия с креста. Под центральной абсидой возвышалось святилище во всем окружающем его благоговении. Святая гробница была разделена на два отделения: первое представляет собой подобие вестибюля, который именуется приделом Ангела, благовестника радостного Воскресения Христова; во втором находится погребальное ложе, на которое было положено мертвое тело Господне. Последнее отделение имело такие низкие потолки, что приходилось нагибаться для того, чтобы туда войти, и было таким ограниченным, что там невозможно было находиться более трех посетителей. Его стены были облицованы белым мрамором. Погребальное ложе служит и престолом, и жертвенником. Сколько крипты в его строгой наготе, обнаженных скал, зияющее отверстие было более волнительно, чем пышное убранство и полированные стены. Гоголь полностью предался религиозной службе, проводимой православным священником.
«Я стоял в нем один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших „Господи, помилуй!“ и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молится; молиться же, собственно, я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моленья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщения меня, недостойного».[520]520
Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 6 апреля – 24 марта 1848 г.
[Закрыть]
Графу А. П. Толстому свои унылые чувства он описывал следующими словами:
«Удостоился говеть и приобщиться св. тайн у самого святого гроба. Все это свершилось силою чьих-то молитв, чьих именно – не знаю; знаю только, что не моих. Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность».[521]521
Письмо Н. Гоголя – графу А. П. Толстому от 25–13 апреля 1848 г.
[Закрыть]
Он покинул Гроб Господень в состоянии полной прострации. Чувство ужасного недоразумения отягощало его сердце. Это он, кто прибыл так издалека в Иерусалим, он так и не нашел встречи, которую искал. Он едва передвигался по Масличной роще, за закрытыми стенами которой царили только холод и безмолвие. И несмотря на все усилия над собой, он так и не мог представить себе ни Христа, ни Апостолов в сени этой палевой листвы, которая колыхалась, обдуваемая ветром. Но в какое-то мгновение ему вдруг предвиделось, что он заметил оттиск на камне следа ступни Иисуса, устремленного взлететь в небо, а также дворец Пилата, переделанный в казарму, и домик Вероники. Митрополит подарил ему даже небольшой фрагмент надгробного камня и деревянный обломок двери церкви Воскресения, сгоревшей при пожаре в 1808 г. Эти святыни он принял с притворным чувством радости. Он говорил, он молился, он крестился, но внутри же его самого висело одиночество. Единственные эмоции, которые производили на него впечатление, исходили от местного пейзажа. Он любовался окрестным пейзажом и берегами Мертвого моря.
«Ни одного деревца, ни одного кустарника, все ровное, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать, горы, внизу виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору… Не могу описать, как хорошо было это море при захождении солнца. Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая».[522]522
Гоголь по записи Л. И. Арнольди (Русский вестник, 1862 г.).
[Закрыть]
По правде говоря, он и не ожидал ничего от своего паломничества. Время уже стерло следы шагов Спасителя на этой каменистой земле и выжгло солнцем. Его истинное существование осталось только в книгах, описавших о том, что он ходил и не по земле, но и по тропам животных. Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Оливковая гора, Голгофа, Иордан и другие наименования, которые поражали воображение путешественника перед прибытием, а теперь их чудо развенчано, а глаза запеленал сумрак восточной нищеты.
«Что могут сказать, например, ныне места, по которым прошел скорбный путь Спасителя ко кресту, которые все теперь собраны под одну крышу храма, так что и св. гроб, и Голгофа, и место, где Спаситель показан был Пилатом народу, и жилище архиерея, к которому он был проводим, и место нахождения животворного креста – все очутилось вместе? Что могут все эти места, которые привыкли мы мерять расстояниями, произвести другого, как разве только сбить с толку любопытного наблюдателя, если только они уже не врезались заблаговременно и прежде в его сердце и в свете пламенеющей веры не предстоят ежеминутно перед мысленными его очами? Что может сказать поэту-живописцу нынешний вид всей Иудеи с ее однообразными горами, похожими на бесконечные серые волны взбугрившегося моря? Все это, верно, было живописно во времена Спасителя, когда вся Иудея была садом и каждый еврей сидел под тенью им насажденного древа, но теперь, когда редко-редко где встретишь пять-шесть олив на всей покатости горы, цветом зелени своей так же сероватых и пыльных, как и самые камни гор, когда одна только тонкая плева моха да урывками клочки травы зеленеют посреди этого обнаженного, неровного поля каменьев да через каких-нибудь пять-шесть часов пути попадется где-нибудь приклеившаяся к горе хижина араба, больше похожая на глиняный горшок, печурку, звериную нору, чем на жилище человека, как узнать в таком виде землю млека и меда? Представь же себе посреди такого опустения Иерусалим, Вифлеем и все восточные города, похожие на беспорядочно сложенные груды камней и кирпичей; представь себе Иордан, тощий посреди обнаженных гористых окрестностей, кое-где осененный небольшими кустиками ив; представь себе посреди такого же опустения у ног Иерусалима долину Иосафатову с несколькими камнями и гротами, будто бы гробницами иудейских царей. Что могут проговорить тебе эти места, если не увидишь мысленными глазами над Вифлеемом звезды, над струями Иордана голубя, сходящего из разверстых небес, в стенах иерусалимских Страшный день крестной смерти при помраченье всего вокруг и землятрясеньи или Светлый день воскресенья, отблеска которого помрачится все окружающее, и нынешнее и минувшее?…Никаких других видов, особенно поразивших, не вынесла сонная душа. Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дни, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции».[523]523
Письмо Н. Гоголя – В. А. Жуковскому от 28–16 февраля 1850 г.
[Закрыть]
Был ли он истинным христианином? Порой ему представлялось, что ясность его была дьявольской. Великий развратитель ступал по его следам. Это был Чичиков, посещавший Христа. Он страстно хотел вернуться назад, так же, как хотел избавиться от затруднительного недоразумения. Но К. Базили по своим делам должен был задержаться еще на несколько дней в Иерусалиме. Гоголь поехал один. По дороге он имел время обдумать свое разочарование. Сознание обиды терзало его до прибытия в Бейрут. Там жена Базили, желая растопить его замороженный вид, хотела познакомить его с элитой местного общества. Но он категорически отказался. Возможно ли было вести светские беседы после столь волнительного момента, который он пережил?
Немного погодя он сел на пароход, направляющийся в Константинополь. Одно лишь письмо от отца Матвея ожидало его в этом городе, в представительстве Российской миссии. Он ответил на него со всем своим чистосердечием.
«Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только разве что больше увидел черствость свою и свое себялюбье – вот весь результат».[524]524
Письмо Н. Гоголя – М. А. Константиновскому от 21 апреля 1848 г.
[Закрыть]
Теперь он был уверен, что отец Матвей достоин быть его духовником. Священник меньшей душевной широты никогда бы не проявил такой заботы, как это сделал он, послав Гоголю свое послание в Константинополь. Преисполненный благодарности Гоголь написал графу Толстому:
«Что вам сказать о нем (об о. Матвее)? По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, следствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду входить больше в их силу».[525]525
Письмо графу А. П. Толстому от 25–13 апреля 1848 г.
[Закрыть]
Пароход-фрегат «Херсонес» стоял на рейде Константинополя и должен был вскоре отплыть в Одессу. Гоголь поднялся на судно с таким чувством, что настоящая Святой землей для него могла быть прежде всего только Россия.








