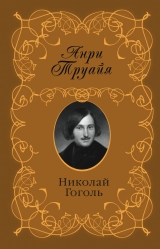
Текст книги "Николай Гоголь"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Но это состояние умиления, в которое пришел Чичиков, длилось недолго. Приобретя огромное количество покойников, он понимает, что выглядит человеком богатым и влиятельным. При этом он не чувствует себя виноватым. А что плохого он сделал? Как благонамеренный гражданин, он выполнил все требования закона и как следует оформил сделку. Если в присутственных местах считают, что купленные им крестьяне живы, значит, они живы, несмотря на службы за упокой души и кресты на кладбищах. Ведь если живые и здоровые крестьяне попадают по ошибке писаря в колонку умерших, это означает, что их больше нет в живых, хотя каждый может увидеть их за работой в своей деревне. Чичиков в вопросе жизни и смерти считает подлинным и более важным не тот учет, который ведет Бог, но тот, который ведут чиновники. Переход от жизни к смерти является не ужасным событием, происходящим по воле Всевышнего, но пустячной записью в книге, произведенной рукою бухгалтера, счетовода. Стирается граница между присутствием и отсутствием. Бытие и небытие меняются местами. И на этой-то чудовищной путанице Чичиков, кругленький, сияющий и бодренький, и обосновывает свою победу.
А между тем обман честного «приобретателя» грозит раскрыться. Болтун Ноздрев нечаянно смущает все общество. Затем, с первыми лучами солнца, в город приезжает Коробочка, чтобы попытаться разузнать, «почем ходят мертвые души» и уж не промахнулась ли она, продав их, может быть, «втридешева». Языки начинают работать, идут разные толки. Солидные чиновники приходят в недоумение. Светские дамы подозревают Чичикова в том, что он плетет козни с целью увезти губернаторскую дочку. Все что ни есть поднялось; как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город. Вылезли из нор все байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома. Показались в гостиных помещики, о которых и не слышно было никогда, которых и не видно было так давно, что их считали уже умершими. На улицах в большом количестве показались неведомые экипажи. В умах поднялось смятение. От этих забот и тревог чиновники даже похудели. Все стараются понять, кто же он такой. «Все поиски, произведенные чиновниками, – пишет Гоголь, – открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно… Такой ли человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных».
Итак, Чичиков спутал все карты, принес неприятности стольким помещикам, ошеломил стольких чиновников, что эта незначительная, довольная жизнью личность приобрела такие масштабы, поднялась так высоко, что в затуманенных умах горожан уже стала представлять собой какую-то угрозу. Самые толковые с виду люди собрались на совет, чтобы попытаться узнать, действует ли он в своих личных интересах или же государственных, является ли он врагом рода человеческого или же это – подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора, нужно ли его преследовать по закону или же искать его покровительства. Почтмейстер полагает, что это – не кто другой, как знаменитый разбойник, капитан Копейкин, и рассказывает во всех подробностях его историю: но суть в том, что Копейкин – без руки и без ноги, а у Чичикова руки-ноги – на месте. Некоторые чиновники забрели еще дальше и предположили, что Чичиков, это – Наполеон, выпущенный англичанами с острова Святой Елены, а то, может быть, и сам Антихрист. Толки усиливаются. Мистически настроенный малограмотный народ смущен. Прокурор так напуган всей этой суматохой, что ни с того ни с сего умирает. Когда прибегает врач, чтобы произвести кровопускание, он видит перед собой одно только бездушное тело. «Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал», – пишет Гоголь. Уже в некоторых домах Чичикова не приказано принимать. Предчувствуя грозу, он укладывает чемодан. Подобно Хлестакову из «Ревизора», он уезжает на тройке, оставляя позади себя целый мир, потрясенный собственными вздорными выдумками. Но если в «Ревизоре» автор остается в городе, чтобы описать смятение «жертв», то в «Мертвых душах» он сопровождает своего героя, который мчится по столбовым дорогам России. Бричка его несется так быстро, что кажется, будто неведомая сила подхватила ее на крыло к себе, и волшебные кони несутся вихрем. Летит с обеих сторон лес, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и спицы в колесах смешались в один гладкий круг.
«Не так ли и ты, Русь, – пишет Гоголь, – что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Это вдохновенное лирическое отступление, которым завершается книга, на самом деле – всего лишь ловкий трюк. Не так легко было избавить Чичикова от справедливого возмездия и в то же время сделать так, чтобы и читатель не был возмущен этой безнаказанностью. Летящая птица-тройка не только помогает Чичикову спастись бегством, она еще отвлекает наше внимание от причин, вынудивших его бежать. В самом деле, каким образом с помощью законов человеческого общества можно было бы оценить правовые последствия проделок посланца дьявола? Вот и пришлось устроить так, чтобы он ускользнул от тех, кто его изобличил, в облаке пыли, под звон бубенцов, неуловимый, неугомонный, неузнанный и готовый к новым похождениям. Впрочем, его самая удачная проделка состоит не в том, что он одурачил жителей губернского города N., а в том, что он провел цензоров Санкт-Петербурга. Обольщенные патриотическим тоном заключительных страниц «поэмы», эти господа не заметили покушения на традиционную мораль, каковым является сокрытие виновного от правосудия. Более того, они не обнаружили ничего странного в том, что Россия сравнивается с тройкой, увозящей плута, прохвоста! Магия слов позволила Чичикову дать тягу, а автору – выйти сухим из воды.
Это поэтическое отступление, посвященное тройке, не является единственным в романе. Очень часто Гоголь прерывает свое повествование взрывами красноречия, возвышенными размышлениями, которые звучат как музыкальные интерлюдии в устной речи. Подсчитано, что все отступления составляют одну восьмую часть первого тома, а чисто лирических отступлений – около десятка. Так, в связи с похождениями Чичикова, автор воспевает очарование поездок в дилижансе, незабываемые впечатления своей молодости, таинственные узы, которые связывают его с Россией, или же страдания автора, вынужденного описывать чудовищ, в то время как он предпочитает ангельские создания. С нетерпением ждет той минуты, когда, освободившись от безобразных масок, которые его окружают, он сможет, наконец, подобно А. А. Иванову, создавать лишь образы, озаренные и облагороженные явлением Христа. Он пишет:
«Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своей действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям и, не касаясь земли, весь повергался в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоколетающими… Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлеченьем; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать наконец от современного суда, лицемерно – бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта… И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченный в святый ужас и в блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей…»
Уведомив таким образом читателей о духовных радостях, которые ожидают их во втором томе «Мертвых душ», если им хватит мужества преодолеть грязь и муть первого тома, Гоголь возвращается к истории Чичикова: «В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь, со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотрим, что делает Чичиков».
Однако в конце той же главы[351]351
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава VII.
[Закрыть] – новое отступление. На этот раз удивительно прозаическое. Оставив среди ночи Чичикова с его мертвыми душами, автор внезапно заинтересовался освещенным окошечком гостиницы, за которым какой-то поручик, о котором мы ничего не знаем и которого мы больше никогда не увидим, примеряет пару сапог, которые он только что купил в Рязани. «Сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук».
Точно так же, когда скандал, связанный с Чичиковым, только разгорается, вдруг нежданно-негаданно возникают, словно по ошибке, какие-то приблудившиеся люди, призрачные, готовые раствориться и исчезнуть, унесенные ветром: «Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было». В разговоре с дочкой губернатора Чичиков упоминает добрую сотню второстепенных лиц, их имена слетают с уст, словно жемчужинки с ожерелья, чья нить порвалась. Но вершиной словоохотливости, суеты и тщеславия является беседа двух говорливых дам – «приятной дамы» и «дамы, приятной во всех отношениях», – которые вперемешку обмениваются мнениями о моде и о безобразном поведении Чичикова. Отголоски этого кудахтанья вскоре разнесутся по всему городу. Таким образом, два второстепенных действующих лица окажут влияние на судьбу главных действующих лиц. И такие второстепенные персонажи изобилуют в книге, и физиономия каждого описана, так же, как его привычки, и даже запахи. Некоторые из них описаны в нескольких словах, как, например, губернатор, который «был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде», или прокурор, «с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: „Пойдем брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу“».
Не только люди, но и предметы, на которые смотрит Гоголь, становятся какими-то необычными. Они участвуют в жизни действующих лиц и помогают лучше их понять. Табакерка Чичикова «серебряная с финифтью», на дне которой лежат две фиалки «для запаха», его фрак «брусничного цвета с искрой», жареная курица, которую он ест в дороге, его флакон одеколона и шкатулка со множеством отделений, – все это таинственным образом помогает нам проникнуть в его внутренний мир. Дом Собакевича, этого мужлана, подобен своему владельцу – крепкий, приземистый, прочный, а в гостиной висят картины, на которых изображены греческие полководцы «с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу». В клетке сидит дрозд темного цвета с белыми крапинками, «очень похожий на Собакевича». И чем больше Чичиков разглядывает комнату, тем больше он убеждается в том, что все, что в ней ни было, – «все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома: в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах: совершенный медведь. Стол, креслы, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства; словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: и я тоже Собакевич! Или: и я тоже очень похож на Собакевича!» А у мягкого, ленивого Манилова, беспомощного мечтателя, обстановка дома сразу говорит о том, что он так себе человек, ни то ни се: «В гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: „Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы“. В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: „Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель“. Кабинет Ноздрева, фанфарона и дуэлиста, был материализацией его собственной души; в нем не было ни книг, ни бумаг, но висели сабли, кинжалы, ружья, находилась коллекция трубок, чубук с янтарным мундштуком и „кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбившеюся в него по уши“. Заброшенный парк Плюшкина, ветхие избы его крестьян, клочки бумаги, высохшие перья, кусочки сургучика, которые он бережет, чернильница с какою-то заплесневшею жидкостью и множеством мух на дне рассказывают нам о его скупости лучше, чем любая исповедь. А странный экипаж Коробочки, наполненный ситцевыми подушками и всякой снедью, кажется неотъемлемой частью этой туповатой и бережливой женщины, чем-то вроде кокона безобразной личинки».
Если Гоголь сурово судит помещиков, то не менее суров он и к простому народу. Идет ли речь о Петрушке, лакее Чичикова, ленивом малом, молчаливом и обладающем каким-то собственным запахом, или о Селифане, кучере с куриными мозгами, или о глупых дядюшках Митяе и Миняе, или о двух мужиках из первой главы, сделавших кое-какие замечания относительно прочности колес брички, или о Прошке, лакее Плюшкина, «глупом как дерево», или о Пелагее, крепостной девчонке Коробочки, которая «не знает, где право, где лево», – ни один крестьянин, ни один слуга не избежал иронии автора. И смех его безжалостен; он судит свысока людей любого сословия; одним словом, он не любит себе подобных. Он полагает, что его задача состоит в том, чтобы выявить низкие свойства их природы, выставить их на осмеяние, чтобы заставить в дальнейшем исправиться. Бичуя людей, он никогда не критикует государственные учреждения. Крепостное право он считает традицией уважаемой и полезной. Тем не менее, независимо от его желания, этот ряд насмешек, осмеяний приводит к ужасному выводу. Описывая тупую, животную глупость крестьян и традиционное бесчувствие хозяев, он тем самым выносит приговор российскому общественному укладу, всему государственному строю России. Все эти прошки, пелагеи, селифаны – все это печальные плоды крепостного строя. Забавная фабула «Мертвых душ» отражает всю мерзость крепостного строя, и эти ужасы бросаются читателю в глаза.
Точно так же, как, мечтая изображать ангелов, он пишет одних лишь свиней, точно так же, будучи махровым консерватором, он, вопреки собственному желанию, придает своему произведению подрывной характер. Выходит так, что у этого архитектора душа разрушителя. Впрочем, он и сам отдает себе в этом отчет и страдает от этого. Никто больше него не пытался найти себе оправдание во всякого рода предисловиях, открытых письмах, обращениях к читателю и комментариях к собственным произведениям. Говоря о замысле «Мертвых душ», он напишет в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них было желание быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств. По мере того как они стали открываться, усиливалось во мне желание избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует. С тех пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего в начале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся – пошлость и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, вот и все!.. Еще вся книга не более, как недоносок… Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра… Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что предал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться».
Конечно, объяснения и оправдания Гоголя, написанные после опубликования книги, вызывают некоторые сомнения. Когда он с радостью начал писать «Мертвые души», у него не было никаких намерений читать нравоучения. Лишь постепенно, поскольку он задавался вопросом о смысле и пользе своего произведения, ему пришла в голову мысль об этой двойной манипуляции. Утешительной кажется ему мысль о том, что работает он над исправлением своих современников, заставляя их смеяться над собою, и в то же время самосовершенствуется, наделяя своими собственными недостатками придуманных им персонажей. Можно усомниться в том, что он действительно очистил таким образом свою душу. Но он несомненно искренен, когда утверждает, что наделил той или иной чертой своего характера персонажи «Мертвых душ». Наделенные его собственными грехами, они стали козлами отпущения. Каждый из них – часть его самого, – «история моей души», – пишет он. Скорее, ее география. Публичное покаяние в иллюстрациях, mea culpa. Одному он подарил свое бахвальство, свою склонность ко лжи, свою болезненную скрытность, другому – свою привязанность к материальным удобствам, свое непомерное чревоугодие, а третьему – предрасположенность к безделью и мечтательности. Но ни с одним из созданных им персонажей он не поделился своей досадной склонностью читать проповеди своим ближним. В этой галерее гротескных образов не хватает самозваного духовника, который полагает, что ему помогает Бог. Считал ли он эту свою склонность недостатком? Видимо, нет, поскольку, по его собственному признанию, «Мертвые души» – прежде всего поучение, обращенное к людям, которые сбиваются с пути истинного. Разумеется, чтобы создать все эти образы, он позаимствовал также некоторые психологические детали у друзей и знакомых, но только те, что соответствовали его умонастроению. Он уделял меньше внимания тому, что происходило вокруг него, чем тому, что происходило в нем самом. В «Мертвых душах» мы находим отражение его внутреннего мира. Увидев, в основном, их в собственной душе, всем своим героям и второстепенным персонажам, всем животным и людям, предметам мебели и картинам природы он придал нечто общее – что-то тяжеловесное, вялое и испорченное.
Замечательное единство стиля еще больше подчеркивает этот дух семейственности. Захочет ли автор описать лицо, или шкатулку, взмах руки, или рисунок листвы, он это сделает все с той же язвительной точностью, используя все словарное богатство языка. Само собою разумеется, что никакой перевод не в состоянии передать яркость и сочность этого языка, изменчивого, богатого эпитетами. При переводе на французский язык, как бы близко к оригиналу мы ни подходили, колорит теряется.
Что же до метафор, которые часто встречаются в тексте, они имеют ту особенность, что всякий раз вводят картину, не имеющую прямого отношения к рассказу. Это – как бы прорыв в иное измерение. Маленькие зарисовки, окружающие большую картину. Так, говоря о вечере в доме губернатора, в начале романа Гоголь пишет:
«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая клюшница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами».[352]352
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава I.
[Закрыть]
Внезапно удивленный читатель перенесен с домашней вечеринки у губернатора в незнакомый дом в деревне, в летний день, к какой-то старой ключнице, рубящей рафинад. Или же, когда автор сидит рядом с Чичиковым в бричке, направляющейся к дому Собакевича, неожиданное сравнение порождает в его мозгу образ балалаечника: «Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшее из окна почти в одно время два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные, легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья».[353]353
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава V.
[Закрыть]
А две дамы, которые в одной и той же фразе становятся девочками! «Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой».[354]354
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава IX.
[Закрыть]
А глаза Плюшкина, о которых мы вдруг забываем, чтобы заинтересоваться мышами!
«Маленькие глазки его еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух».[355]355
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава VI.
[Закрыть]
А это небо, неопределенного цвета, которое приводит нас каким-то странным обходным маневром в гарнизон:
«Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светлосерого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням».[356]356
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава II.
[Закрыть]
Если эта лавина метафор несколько смущает читателя и вызывает улыбку на губах, то в диалогах Гоголь наиболее остроумен. Не только Чичиков, как мы это уже видели, говорит, применяясь к обстоятельствам, но и каждый из его собеседников наделен своей собственной индивидуальной красочной речью. Как главные персонажи, так и второстепенные, говорят так, что сразу виден их характер. Резкая и тяжеловесная речь Собакевича ничуть не напоминает медоточивую и вычурную манеру изъясняться Манилова, которая, понятно, отличается от веселого ржания Ноздрева, и их невозможно спутать со старческим лепетом Коробочки или с сухими и недоверчивыми репликами Плюшкина.
У крестьян тоже характерный сочный говор, отличающийся от щебетанья городских дам, чьи пустые пересуды явно позабавили автора:
«Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете».
«Милая, это пестро».
«Ах, нет, не пестро!»
«Ах, пестро!»
«Да, поздравляю вас: оборок более не носят».
«Как не носят?»
«На место их фестончики».
«Ах, это нехорошо, фестончики!»
«Фестончики, все фестончики: пелеринка из фестончиков, на руковах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».[357]357
Н. В. Гоголь. «Мертвые души», глава IX.
[Закрыть]
Какой читатель, не открыв еще «Мертвые души», мог бы предположить, что пошлость человеческая может иметь столько разных обличий? И этот парад образчиков пошлости автор развернул перед нашими глазами с каким-то жестоким наслаждением. Однако, закончив чтение книги, теряешься – а что же, собственно, он хотел сказать? Полагая, что он высмеял духа тьмы, он воспел его победу; пытаясь прославить величие России, он показал ее слабости; борясь за право наставлять себе подобных, он их рассмешил, и вот они хохочут, вместо того чтобы содрогнуться от стыда. И все-таки, несмотря на непродуманную основную мысль, несмотря на противоречия и отклонения от темы, «Мертвые души» представляют собой наиболее завершенное произведение Гоголя. Это – особый мир, закрытый со всех сторон и полный тайны. Стоит туда проникнуть, и тебя охватывает его удушающая атмосфера и фальшивое освещение. На этой мрачной планете еще надо научиться дышать. И предметы, и лица тут искажены. Голоса звучат, как из бочки. На каждом шагу тебя ожидает западня. Расставаясь с Чичиковым, которого тройка уносит, может быть, прямо в ад, читателю нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы вернуться в реальный мир. Отныне он не сможет по-старому смотреть на свое окружение – на вещи и на людей. Ему было дано шестое чувство, и это позволит ему различить хаос за красивой ширмочкой. Он теперь свой человек в мире иррационального. За что он полюбил «Мертвые души»? К чему этот вопрос? Разум тут ни при чем. Эта книга, изобилующая ненужными подробностями, многослойная по своему замыслу, на первый взгляд смешная, а на самом деле – исполненная трагизма, являющаяся одновременно эпопеей и памфлетом, сатирой и кошмарным наваждением, исповедью и заклинанием бесов, не поддается однозначному определению. Она не создана для того, чтобы спокойно стоять на библиотечной полке. Она царит, окруженная ореолом, оказывающим пагубное влияние, в самых дальних высях, где-то между «Дон Кихотом» и «Божественной комедией». Какой-то странный масонский заговор объединяет по всему миру людей, которые однажды вечером нашли на ее страницах повод посмеяться или причину для беспокойства.
Шесть лет прошло со времени первого представления «Ревизора». Шесть лет молчания. И вдруг – «Мертвые души». Публикация этого произведения словно бы разворошила муравейник. Безвестную массу читателей охватил безумный ажиотаж. В книжных магазинах стопки книг быстро уменьшались. Приверженцы и хулители книги спорили в светских гостиных с еще большим жаром, чем во времена «Ревизора». Они были не только за или против Чичикова, но еще и за или против Гоголя.
«Удивительная книга, – писал А. И. Герцен в своем дневнике 11 июня 1842 г., – горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его хороши, жизнь сохранена во всей полноте; не типы отвлеченные, а добрые люди, которых каждый из нас видел сто раз. Грустно в мире Чичикова, так, как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее».
Мнения критиков немедленно разделились. Всегдашние противники Гоголя встали плечом к плечу против группы решительных сторонников социально-критической линии в русском реализме, получившей название «гоголевского направления».
По мнению Ф. В. Булгарина, всемогущего директора «Северной пчелы», «Мертвые души» было произведением поверхностным, халтурным, «карикатурой на реальную русскую действительность», а его автор – фельетонистом, «уступающим Полю де Коку». В журнале «Библиотека для чтения» О. И. Сенковский высмеивал Гоголя за то, что он представил в качестве «поэмы» эту вульгарную сногсшибательную историю: «Поэма? Полноте! Сюжет взят от Поля де Кока, стиль от Поля де Кока… Бедный, бедный писатель, кто использовал Чичикова для реальной жизни!» Страницу за страницей критик придирчиво разбирал текст «Мертвых душ», отмечая синтаксические ошибки, солецизмы, плеоназмы, неправильное употребление слов… Со своей стороны, Полевой в журнале «Русская смесь» во имя романтической и патриотической литературной концепции отказывал роману Гоголя в праве называться «произведением искусства». «Мертвые души», – писал он, – представляют грубую карикатуру, персонажи все без исключения неправдоподобными, преувеличенными, составляющими сборище отвратительного сброда… и пошлых дураков. Содержание перенасыщено столькими описаниями, что порой невольно отбрасываешь книгу. Зато критики, друзья Гоголя, как западники, так и славянофилы, принялись дружно его восхвалять. В. Г. Белинский, представитель западников, приветствовал «Мертвые души» как бессмертный шедевр и высмеял бледных газетных писак, которые осмеливались ставить автору в упрек избитость описаний и шероховатости стиля. Он писал с обычным для него пафосом:








