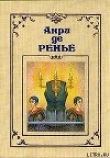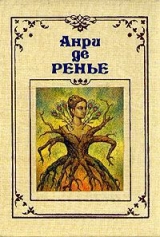
Текст книги "Дважды любимая"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
III
В довольно уединенном уголке Рима находилось здание, которое полюбилось г-ну де Галандо. То была тяжелая и круглая масса, сложенная из камней и окруженная колоннами с капителями, подпиравшими крышу в виде гриба. Небольшая и неправильная площадь расстилалась там, вымощенная крупными каменными плитами, поросшими травою. На ней в стороне журчал фонтан. Он состоял из круглого бассейна, откуда поднимался камень, на котором два морских чудовища сплетали свои чешуйчатые хвосты и, обнаженные, на поднятых руках высоко держали раковину. Обе бронзовые фигуры были изящны и гибки, без напряжения в их двойном и недвижном жесте. Вода ниспадала вокруг них с высокого водоема. Голуби прилетали и садились на его края, чтобы напиться. Их шеи с разноцветными отливами вспухали от наслаждения, потом они плавно улетали, садились на теплую черепичную крышу маленького храма и там ворковали.
Г-н де Галандо присаживался на край бассейна или на одну из окружавших его неравных тумб. Он следил за полетом голубей и прислушивался к шуму фонтана. Засоренные трубы фонтана издавали мягкий и хриплый звук, он перемежался, то слабея, то усиливаясь, с неравными промежутками. Г-н де Галандо так хорошо изучил этот привычный шум, что порою он слышался ему ночью, во сне. Он приходил сюда предпочтительно на склоне дня. Мало-помалу спускался вечер. Бронзовые фигуры словно коченели. Очертания верхней раковины чернели на светлом еще небе. В последний раз проворкует последняя голубка. Тогда г-н де Галандо вставал, чтобы идти домой; его день был окончен.
Так прожил он несколько лет, и ни один из них не принес ему никакой перемены, кроме перемены времен года. Он износил уже пять костюмов из двенадцати, купленных им в Париже, и столько же париков. Когда швы начинали белеть, ткань изнашивалась, а локти продырявливались, он отпирал один из своих дорожных сундуков, по-прежнему стоявших у стены, и вынимал новое платье, точь-в-точь похожее на предыдущее. Старая Барбара бережно подбирала негодное тряпье. Она вешала его в чулане и время от времени приходила туда с ножницами, чтобы отрезать кусок материи, понадобившийся для какого-нибудь хозяйственного употребления. Что касается до старых башмаков, которые выбрасывал ее хозяин, то она делала из них кормушки для птицы; их можно было увидеть на дворе, до половины наполненные зерном, меж тем как из вывороченных париков г-на де Галандо она устраивала гнезда для несения яиц и для высиживания птенцов курам и голубям.
Столь правильная и скромная жизнь, почти без всяких расходов, не мешала, однако, г-ну де Галандо отправляться к г-ну Дальфи и получать часть тех денег, которые его управляющий присылал тому из Франции. Истратив из них небольшую сумму, которая была ему необходима, остальное он методически опускал в глиняные амфоры, которые отыскала для него Барбара и которыми была уставлена длинная полка над его кроватью. У каждой из них теперь брюхо было набито золотом. Барбара и не подозревала, что хранили в себе их выпуклые бока, иначе она лишилась бы сна и покоя, опасаясь воров, так как двери плохо запирались, несмотря на огромные ключи, и вилла, стоявшая в глухом местечке, среди садов и виноградников, была достаточно уединенна; но она казалась столь пустынною и разрушенною, что никому ни разу не пришло в голову, чтобы в ней могло храниться что-либо, кроме паутины и пыли.
Итак, г-н де Галандо, ничем не интересуясь, ни во что не вмешиваясь, жил в полной неизвестности. Никто не занимался им, и Рим с избытком давал ему все, чего он от него требовал, – покой и свободу. Мало-помалу он утратил даже вкус к древностям, которому он, в простоте души, приписывал цель своего путешествия, так как г-н де Галандо не любил углубляться в размышления и довольствовался наиболее непосредственными мыслями, наивно полагая, что совершил путешествие из любознательности. Полезная страсть, привитая ему аббатом Юберте и его друзьями, вместо того чтобы возрастать среди остатков старины, где он мог ее удовлетворять, уменьшилась до того, что почти исчезла из его ума. Урна зеленой бронзы, найденная им у ворот Салариа и отправленная аббату, казалось, унесла с собою прах Галандо-антиквария, чему лучшим доказательством послужило то презрение, с которым он превратил вазы старой Барбары в глиняные мешки для денег.
Так жил г-н де Галандо, более праздно и более бесцельно, чем когда-либо, и его жизнь, по тому течению, которое она принимала, рисковала окончиться без того, чтобы он узнал не только то, чему она должна служить, но хотя бы то, на что ее употребить. Он, на самом деле, ни в чем не принимал участия; даже религии, которая есть занятие, у него не было. Он входил в церковь только с целью укрыться там от дождя или от ветра. Он держался в стороне от всяких практических дел. Жизнь в Риме ничего не изменила в этой привычке. Аббат Юберте, знавший Николая в молодости за ревностного участника таинств и за доброго христианина, при виде его образа жизни не мог удержаться, чтобы не сказать в тесном кругу, пожимая плечами, что, «если человек похож на Николая, то не стоит трудиться отрицать Бога», подразумевая, вероятно, под этим, что на самом деле жаль, когда люди не пользуются тем, что отсутствие всяких страстей делает им спасение столь легким, и, таким образом, сознательно лишают себя стольких шансов без труда прийти к своему спасению.
Если он оставался чужд одиноких радостей, то он не искал и тех, что доставляют театральные представления и народные торжества; равным образом держался он вдали и от городских удовольствий. Он боялся их шума и распущенности. Он ненавидел толпу, теснящуюся на проходе какой-нибудь процессии, и толкотню, сопровождающую карнавалы. Равным образом старался он избегать пения псалмов и криков простонародья. Его приключение во время карнавала не выходило у него из памяти, и время от времени он осведомлялся у Коццоли, не скоро ли наступят вновь маскарады. Коццоли успокаивал его.
Он чувствовал к г-ну де Галандо огромное уважение с тех пор, как узнал, что тот богат; однажды он встретил его у г-на Дальфи, когда относил тому работу. Коццоли узнал там, что хотя г-н де Галандо и жил в Риме весьма скромно, но он без труда мог бы занять и несравненно высшее положение, и разъезжать в каретах по тем самым улицам, по которым он шагал своею вялою походкою. На этом основании Коццоли расфантазировался, так как его воображение было склонно все преувеличивать, и вскоре он наконец почти поверил тому, что г-н де Галандо играет какую-то тайную роль и выполняет какие-то секретные поручения. Не то чтобы в глубине души он верил этому действительно, но ум его, склонный ко всему призрачному, побуждал его убедиться в этом. Эта мечта нравилась его природной склонности к выдумкам. Поэтому он обращался с г-ном де Галандо то глубоко почтительно, как с высокими особами, то с фамильярностью, которую можно себе позволить с человеком добрым, безобидным и чудаковатым.
Напрасно добряк г-н де Галандо отрицал то, что предполагал за ним выдумщик маленький портной, и утверждал свою непричастность к каким бы то ни было интригам и делам, – но Коццоли не отставал от него. Г-н де Галандо предоставил бы ему болтать, не пытаясь его переубедить, если бы ему не пришлось выдерживать полусерьезные, полушутливые упреки от маленького человечка. Коццоли любил читать ему наставления. Он говорил ему, что он не прав, живя не так, как соответствовало бы его рождению и его средствам, и порицал его, между прочим, за то, что тот не заказывает себе парадного платья, которое с минуты на минуту может ему понадобиться, если ему внезапно придется раскрыть свое инкогнито.
– Ах, сударь, – говорил швейный гном, – если бы ваша светлость разрешили, вы были бы одеты лучше всех в Риме. Как, – прибавлял он, обращаясь к своим манекенам, – вот г-н де Галандо, – он высок ростом и хорошо сложен. У него под рукой есть Коццоли, но он не одевается, так как не значит одеваться, когда человек круглый год носит простое серое платье с полами в локоть длиною и грубые чулки. Не правда ли, такое унижение себя не может продолжаться. Ты, Коццоли, должен положить ему конец! Раскинем этот великолепный бархат и скроим из него что-либо, достойное его светлости! Давайте шить, подрубать, нашивать галуны! Живо, один рукав, другой рукав, покрой хорош! Платье сидит хорошо. Соберите жабо, натяните подколенок! Ах, какой молодцеватый и достойный господин! Куда он едет? К папе? Или к французскому посланнику? Да нет же, сегодня собрание у князя Луккано. Будет предложен шербет. Будут играть в фараон. Игра начинается, милостивые государи! Красный проигрывает! Ставьте больше! Банк сорван! А кто выиграл? Это – граф де Галандо, французский дворянин, приехавший в Рим в прошлом году. Его карета подана. «Ах, что за молодец! И как сложен! Черт побери, это ведь Коццоли его одевает!»
Разыграв эту сцену, Коццоли не оставался в убытке. Г-н де Галандо отстаивал свое грубое серое платье и не хотел его менять, но он награждал рвение Коццоли каким-нибудь подарком его жене или дочерям. Синьора была некрасива и кокетлива, но Мариучча и Тереза были недурны собою и полны обещаний. Одной было двенадцать, другой – четырнадцать лет. Они относили работу заказчикам и возвращались из города поздно, с плутоватыми рожицами, подталкивая локтем друг друга и посмеиваясь украдкой. Мариучча говорила, что ветер растрепал ее волосы, а Тереза, что пуговицы у ее лифчика не застегиваются, когда они возвращались домой, одна – всклокоченная, другая – еле одетая. Однажды, когда Мариучча отправилась во дворец Лампарелли с работою для кардинала, она там так замешкалась, что сели обедать без нее. Разговор был столь оживленный, что она скользнула на свое место незамеченною. Говорили о г-не де Галандо, который нередко служил предметом бесед в семье Коццоли. Г-жа Коццоли, весьма суеверная, считала его колдуном. Она знала от г-жи Барбары, что хозяин ее никогда не ходит к обедне. Что же делал он с тем золотом, которое он брал у г-на Дальфи, если не тратил его на заговоры? Разве Барбара не поведала ей и то, что он нередко разговаривал вслух, когда в комнате не было никого, чтобы его выслушать, и что три цыпленка околели, когда он однажды бросил им зерна левою рукою? Наконец тетка сообщила ей под большим секретом, что г-н де Галандо хранил у себя над кроватью на длинной полке, где они были выстроены в ряд, не менее полдюжины глиняных ваз, расписанных дьявольскими изображениями, где, по всей вероятности, он держал взаперти духов.
Коццоли, боязливый от природы, начал с беспокойством оглядываться по сторонам.
– Не говоря уже о том, что он по пальцам считает птиц небесных, – серьезно заметила Мариучча, щипавшая себе щеку, чтобы не расхохотаться, и ногою толкавшая под столом Терезу, которая, чтобы не фыркнуть, сидела, опустив глаза в тарелку.
И Мариучча, откинув со лба непокорную прядь волос, щекотавшую ей глаз, одним духом рассказала, как, возвращаясь из дворца Лампарелли, она встретила на перекрестке г-на де Галандо, стоявшего с запрокинутою головою и следившего полет стаи галок, кружившихся над Колизеем.
Г-н де Галандо действительно нередко забавлялся, наблюдая голубей и ворон, носившихся в римском небе. Быть может, по примеру древних, гадал он таким образом о своей судьбе или же, проще, в их воздушных забавах искал развлечения во время своих однообразных прогулок.
IV
К концу четвертого года пребывания г-на де Галандо в Риме ему минуло пятьдесят пять лет. Было лето, стояла жара. В утро этой годовщины, которой он, впрочем, не придавал никакого значения, он встал, по обыкновению, рано. Вышел из дому. В руке у него была пригоршня сушеных оливок, которые он грыз на ходу, бросая на пыльную землю косточки.
Рим еще дремал, окутанный легким туманом; то не был пар, а какая-то пасмурность воздуха. Предметы при этом казались мягкими по очертаниям и резкими по краскам. Груда разбросанных городских зданий казалась словно скученною. Соборы с меньшею силою вздымали свои черепашьи щиты из красных черепиц, колокольни казались ниже, а кампаниллы как бы осели. Предметы испытывали заранее тяготу этого знойного дня. Г-н де Галандо чувствовал себя усталым. Он остановился и оперся на трость, окидывая взором огромный город, смесь его бурого камня и темной зелени.
Вдали против него высокие деревья Пинчио стояли недвижные и четкие.
Он направлялся в ту сторону; ему захотелось посетить тот участок земли, который он купил по приезде в Рим при посредстве банкира Дальфи и где, заставив рыть землю, он нашел большую вазу из зеленой бронзы, отосланную аббату Юберте. Эта земля находилась за стенами города, у ворот Салариа. Она состояла из необработанного участка, с росшими на ней несколькими высокими кипарисами, среди которых виднелась еще часть старой обвалившейся стены. Г-н де Галандо сел в ее короткой тени. От начатых им раскопок осталось нечто вроде огромной раскрытой ямы, близ которой валялась забытая кирка. Лопата, воткнутая рядом, стояла отвесно в выемке затвердевшей земли. Острия кипарисов чернели на ярко-голубом небе.
Г-н де Галандо подошел к яме. Немного сухой земли осыпалось в нее. Заворковал невидимый голубь, и вдруг, путем какого-то внезапного возврата памяти, г-н де Галандо увидел себя стоящим над ямою, где некогда схоронили старика садовника Илера. Ему почудилось, что он находится на маленьком кладбище Понт-о-Беля. Это длилось с секунду и было неожиданно. Ворковавший голубь улетел, громко шумя крыльями. Иллюзия исчезла, но она была так жива, так определенна, что г-н де Галандо был потрясен ею, тем более что никогда не вспоминал о своей прошлой жизни. Она для него умерла в тот день, когда, держа в руке ключи от всех комнат опустевшего Понт-о-Беля, он в последний раз запер входную дверь замка, чтобы никогда более туда не возвращаться. Он оставил там свое детство, свою юность, все любимые вещи далеких лет, последний вздох матери, последний смех Жюли…
Солнечные лучи падали отвесно, г-н де Галандо снял парик, отер лоб, вынул часы и решил направляться домой. Ему было не по себе, но тем не менее он хотел зайти по дороге к Коццоли, чья болтовня несколько рассеивала его. К тому же портной учил говорить свою сороку, и г-н де Галандо интересовался успехами болтливой птицы.
Чтобы дойти до улицы Дель-Бабуино, г-ну де Галандо надо было обогнуть сады виллы Людовизи, потом ему оставалось спуститься по лестницам Троицы-на-Горе, и он должен был уже очутиться на Испанской площади. Он шел тихо, так как жара была изнурительна. Дойдя до перекрестка двух улиц, он остановился в нерешительности, не зная, по какой пойти. Прямо перед ним лежал крупный, неправильной формы булыжник, словно дремавший в пыли. Г-н де Галандо подтолкнул его концом трости. Камень тяжело покатился по направлению к улочке налево, и г-н де Галандо пошел за ним, не подозревая того, что этим движением сейчас он определил судьбу своей жизни. Он шел, продолжая подталкивать ногою камень. Шел, опустив голову и сгорбившись, как с ним нередко случалось. Легкий шорох заставил его поднять глаза.
В этом месте на улицу выходила терраса, окаймленная перилами и колонками, над которыми виноградные лозы образовали беседку и свешивали вниз свои ветви, к которым примешивались и виноградные гроздья. На перилах лежала женщина. Она вытянулась на теплом камне и, казалось, спала, повернувшись несколько боком. Были видны ее волосы, приподнятые над жирною шеею, ее гибкая спина, выступы ее бедер. Одна из поджатых ног приподнимала край ее платья, и маленькая ножка высовывалась за перила. Она была обута в желтую шелковую туфельку, державшуюся на большом пальце, и легким движением она тихонько постукивала ее каблуком.
Вероятно, шум камня, который г-н де Галандо катил кончиком своей трости и который ударился об стену террасы, прервал легкий сон красавицы, так как она медленно встала, потянулась и села спиной к улице. В этой позе она была очаровательна. Приподнятыми руками она поправляла локон в прическе. На шее у нее было ожерелье из красных кораллов с крупными, неровными зернами, а в ушах сверкали длинные серьги.
В эту минуту она, без сомнения, заметила присутствие г-на де Галандо. Она полуобернулась, потом, не обращая на него внимания, сорвала ветку винограда, висевшую на шпалере на высоте ее руки. Лозы зашелестели.
Она ела виноградинку за виноградинкою, медленно, наслаждаясь, держа тяжелую, пышную кисть перед глазами и то спеша, то останавливаясь, чтобы повернуть кисть в руке.
Г-н де Галандо снизу тревожно следил за ее движениями. Всякий раз, когда она отправляла в рот сочную, душистую ягоду, он ощущал у себя во рту восхитительную свежесть; ему казалось, что он вкушает нечто таинственное и запретное; он чувствовал какое-то жгучее волнение и истому. Мертвая тишина висела в душном воздухе.
Николай глядел. Рука его дрожала на набалдашнике его трости. Холодный пот струился по его лицу. Он чувствовал, как со дна его души поднималось тонкое и знакомое волнение и мало-помалу охватывало его всего. Эта молодая женщина с поднятыми руками и обнаженною грудью, евшая виноград, словно выплывала из глубины его прошлого. Час далекий и забытый возрождался в настоящей минуте. Он стоял ошеломленный, прислонясь спиною к стене. Губы его шептали имя, которое он не повторял уже долгие годы: «Жюли! Жюли!..»
– Олимпия! Олимпия! – раздался в ту же минуту сильный и веселый голос.
В саду, ниже террасы, открылась калитка. Залаяла собака.
– Олимпия, иди же взглянуть на платье, которое принес мне Коццоли! – продолжал голос.
– Придите, синьора, – произнес в ту же минуту высокий фальцет, по которому г-н де Галандо узнал маленького портного.
Синьора не двигалась с места. Она быстро поворачивала в руке виноградную кисть. На ней оставалась всего одна ягодка; она оборвала ее, с минуту покатала в пальцах, потом обернулась и с громким хохотом бросила ее в г-на де Галандо, стоявшего с раскрытым ртом, выпученными глазами, дрожавшими коленами и протянутыми руками; ягода попала ему прямо в щеку, отскочила и упала на землю, где и осталась лежать, сочная, золотистая и, словно сахаром, обсыпанная пылью…
V
Олимпия была названа при рождении Лючией. Отец ее был одним из тех лодочников на Тибре, которых видишь причаливающими свои лодки к порту Рипетта и у которых на загорелой коже словно лежит желтый отсвет древней реки. Трудно было сказать с точностью, звали ли его Джузеппе или Габриэле, так как мать Лючии отдавалась поочередно многим мужчинам, и из тех, что водою прибывают из Остии в Рим, не было ни одного, который не сжимал бы в своих объятиях ее тощую грудь и не опрокидывал бы ее на мешки с зерном или на кучи овощей. В дни получек она обходила в гавани все кабачки. Ее резкий голос сливался с бранью и с хохотом, со стуком кружек и звоном стаканов. Ее губам не было чуждо дыхание с запахом вина и чеснока, сливающее поцелуй с отрыжкою и икотою.
Обыкновенно она стояла на набережной рядом с корзиною апельсинов и лимонов, которые она продавала рабочим. Они останавливались перед нею с тяжестью на плечах, выбирали плод, и, глубоко закусив его, шли дальше. Все знали ее. Жила она в комнате, в жалкой велабрской лачуге. В ее конуре пахло воском и корками, так как она не забывала, чтобы лучше продавать свои фрукты, затепливать тоненькую свечечку перед изображением Мадонны. Она была набожна. Ходили слухи, что низшие церковнослужители Сан-Джорджио не опасались оспаривать ее у лодочников и что она попеременно переходила от возжигателей кадил к продавцам свежей рыбы.
От одного-то из них родилась Лючия. Шесть лет спустя римлянка скончалась вследствие того, что была нещадно избита во время ссоры в одной таверне, где ее таскали за волосы по каменному полу, липкому от винной жижи, которую она разбавила кровью из широкой раны, нанесенной ей в голову; рана эта не была излечена, и наконец она скончалась от нее, всеми покинутая, на своем нищенском одре, меж тем как маленькая Лючия, закусив зеленый лимон, отгоняла жужжавших мух, роившихся над кровоточившею раною.
Эта смерть превратила маленькую Лючию в бродяжку. Она спала на каких-то полатях, которые ей оставили из жалости. Соседки снабжали ее кое-какими лохмотьями и время от времени скудною пищею. Вне этого она промышляла где могла. Нередко целыми днями она не возвращалась в свое жилище. Она вела жизнь маленьких римских нищих, которые похожи на странствующих червей старых стен этого города. Она выпрашивала милостыню у прохожих, бегала за каретами, приставала к иностранцам, надоедала прихожанам при выходе из церквей и, словно чудом, ускользала от колес экипажей, от шлепков лакеев, от ударов тростью гуляющих; она влачила повсюду свои лохмотья, смотрелась, как в зеркало, в водоемы, играла на ступеньках часовен и показывала прохожим на запачканном лице, из-под взлохмаченных волос, сверкающую свежесть губ и лукавый блеск черных глаз.
Особенно льнула она к иностранцам. Она нередко бродила пр Испанской площади, где они останавливаются в гостинице Мон-Дор, славящейся своим комфортом и отменным столом. Сантиментальные белокурые немецкие графини, приезжающие в Рим с юными и румяными членами верховного совета, не отказывали ей в небольшой милостыне, когда они выходили из-за стола, с полными еще ртами. Ее тщедушная фигурка возбуждала жалость. Она показывала, сквозь лохмотья, свои острые локти. Добродушные французские дворяне, гуляющие по Риму, подняв нос кверху, поспешно опускали руку в карман, чтобы отделаться от ее приставаний. Но она предпочитала поджидать английских милордов. Она узнавала их по их апоплексическому сложению или по угловатым чертам лица, по их дородной представительности или по их поджарым фигурам. Она подметила, с каким особенным выражением наиболее пожилые из них разглядывали ее подвижную худобу тринадцатилетней девочки. Она следовала за ними во время их прогулки, и, когда кто-нибудь из них находился вдали от прохожих, за поворотом стены или в тени дерева, она вдруг приподнимала платье вокруг своего маленького тела и отважно показывала милорду свою хрупкую и нежную наготу, с янтарным отливом, и уже покрытую тенями. И этот фокус всякий раз приносил ей несколько монет.
Она честно делила свою добычу с товарищем, который никогда, с нею не расставался. Сирота и нищий, как и она, он звался Анджиолино. Он был годом старше ее, и они вели общее хозяйство. Неразлучные и вечно ссорившиеся, они никуда не ходили один без другого. К тому же Анджиолино бил ее, воровал у нее деньги. Она топала ногами, плакала, но кончала тем, что соглашалась на все, чего требовал этот бездельник. У него было бледное лицо, и он был красив.
Меж тем Лючия вырастала. Одна римская дама увидела ее при выходе из церкви. Она сидела, скорчившись, на ступеньке и плакала. Анджиолино во время ссоры жестоко избил ее; поэтому девочка согласилась последовать за своею покровительницею, сулившею ей всяческие блага. Г-жа Пьетрагрита жила в доме опрятном и спокойном. Образцовый порядок царил там. Г-жа Пьетрагрита слыла набожною и милостивою. Она была на хорошем счету у духовенства своего прихода. Она обращалась с Лючией как нельзя лучше, отмыла и одела ее, обучила грамоте и пению, приучила ее к некоторому уходу за своим телом, дотоле ей неизвестному. Потом, в один прекрасный день, когда та была в самой поре, она продала ее кардиналу Лампарелли. Кардинал любил молоденьких девушек, и г-жа Пьетрагрита тайком снабжала его ими.
Дворец Лампарелли был расположен среди роскошных садов в квартале Монте-Веминале. Лючию ввели в павильон на краю этих садов. Г-жа Пьетрагрита сама довела ее до низенькой двери, открывавшейся в стене, шедшей вокруг сада, и передала ее на руки слуге, с видом дьячка, который и провел ее в павильон, оставив ее там одну. То было уединенное место, и безопасность его не раз была испытана кардиналом. Лючия нашла плотно запертые окна и зажженные канделябры. Она поняла, чего от нее желали и что г-жа Пьетрагрита дала ей понять обиняками. В ожидании, она отведала угощения, приготовленного на маленьком столике; кардинал застал ее с набитым ртом. Он так торопился увидеть это диво, о котором ему столько наговорила г-жа Пьетрагрита, что по исходе аудиенции он прибежал, не задержавшись даже, чтобы переменить свое парадное одеяние на платье, более соответствующее обстоятельствам. Поэтому Лючия, при виде того как из пышной красной одежды, упавшей на пол, вышел аббат в штанах, потом господин в рубашке и наконец мужчина, совершенно голый, была охвачена такою веселостью, что, когда она отдалась требуемому, грудь ее колыхалась от смеха, а во рту оставался сладкий вкус от недоеденного варенья.
Лампарелли был в восторге от веселого характера этого приключения и весьма горд своим подвигом, так как г-жа Пьетрагрита уверила его в нетронутой добродетели Лючии, и он думал, что в этом деле проявил удаль, делавшую ему честь всецело. На самом деле доверчивый кардинал в лучшем случае лишь довершил то, что было прекрасно начато Анджиолино под галереями, на краю дорог, вдоль стен, в сумерки или ночью, в каком-нибудь укрытом месте, привычном им, где они прятались, как молодые, гибкие и смелые звери; но Лампарелли не подозревал обмана и был доволен всем не менее того, как если бы имел к тому большие основания.
Лючия часто приходила в маленький садовый павильон. Кончилось тем, что Лампарелли поселил ее там. Его каприз превратился в пристрастие. Из павильона Лючия переселилась во дворец, на первых порах под кровлю; потом открыто получила там помещение. Кардинал сходил с ума от своей новой страсти. Он делал ради нее тысячи глупостей и питал к ней такую необъяснимую слабость, что в конце концов разрешил доступ во дворец Анджиолино.
Анджиолино превратился в необыкновенно красивого малого. Он явился к кардиналу со смиренным и кротким видом и удовольствовался самою скромною должностью. У него были хорошие манеры, которыми он был обязан одному французскому дворянину, г-ну де ла Терруазу, который, будучи поражен его красотою, приблизил его к себе и даже сделал из него как бы товарища. Анджиолино сохранил от этого чисто итальянского приключения несколько богатых перстней, подаренных ему господином, которые он носил на пальцах алмазами внутрь, чтобы снаружи не слишком были заметны вставленные в них драгоценные камни.
Как только молодой человек устроился на месте, он стал вести себя с такою гибкостью и таким искусством, что приобрел некоторое влияние на кардинала. Лючия и Анджиолино беспрепятственно возобновили свои былые вольные отношения; но, вместо того чтобы бродить в лохмотьях по улицам Рима, они наслаждались теперь, будучи вполне сыты и пользуясь довольством, за спиною кардинала, ничего не видевшего. Эта беспечальная жизнь тянулась несколько лет, пока, ввиду пошатнувшегося здоровья папы, Лампарелли, имевший виды на тиару и опасавшийся того, как бы его образ жизни, хотя и свойственный многим из конклавистов, не повредил ему перед их ханжеством, употребил то небольшое количество здравого смысла, которое у него оставалось, на полную очистку своего дома, рассчитывая этим помочь делу своего избрания.
Лючия подняла шум, грозила произвести скандал и кричать на улицах о том, как понимал кардинал любовь. Ей было известно многое по этому предмету, так как она присутствовала при последних вспышках страсти старика и была свидетельницей тех причуд, которыми он старался если не оживить ее пыл, то, по крайней мере, раздуть ее пепел. Поэтому она могла занять общество различными подробностями и анекдотами, которые могли бы скорее пролить свет на фантазии кардинала, нежели осведомить о его добродетели, и которые не преминули бы позабавить слух конклава.
В ту минуту, когда он открылся, в 1769 году, Лючия, под именем Олимпии, была уже несколько месяцев как водворена в красивом доме вблизи виллы Людовизи, приобретенном для нее на средства кардинала Лампарелли, который в дополнение к этому дару присоединил, большую сумму денег и обстановку. Кардинал предоставил Олимпию ее делам, а сам перешел к своим. Он торопился сменить кардинальскую шапку на тиару.
Из этого ничего не вышло. Лампарелли необычайно волновался, интриговал, злоумышлял, подстраивал голосования, набирал приверженцев, составил свою партию. Ум его был разгорячен этими искательствами и этими мечтами, а тело его страдало от неудобства келий, от дурного воздуха и от всех затруднений этой избирательной темницы. Избрание тормозилось, ему так мешали всевозможные происки, что оно грозило затянуться навек, если Дух Святой не введет настоящего порядка. Двое кардиналов скончалось от трудов. Остальные продолжали их таинственную работу. Запертые в узкие помещения Ватикана, выстроенные из досок в меру ширины и высоты галерей и зал, они упорствовали. Интриги запутывались, всех изнуряя, пока в один прекрасный день избрание не произошло неожиданно. Лампарелли покинул собор, преисполненный ярости и уничтоженный, и вернулся к себе полубезумным и не способным впредь ни к какому делу.
Наоборот, дела Олимпии процветали. Она была в достаточной мере снабжена деньгами, чтобы выждать какого-нибудь счастливого улова. Кроме выгод в виде дома и денег, полученных ею от Лампарелли, при ней оставалась еще постоянная и реальная ценность ее тела, которому ее зрелая юность придала красоту роскошную и сладострастную. Она была гибкая, крепкая и довольно полная, у нее была красивая грудь, нежный живот, упругие бедра и тонкие ноги. Эта красота являлась живым источником, правильная эксплуатация которого не замедлила бы принести ей состояние. Сверх того, она имела возле себя, чтобы устанавливать пользование им и обращаться с ним осторожно, драгоценную, бдительную и разумную помощь несравненного Анджиолино.
Он покинул дворец Лампарелли вслед за Олимпиею. Первые недели их новой свободы были каким-то медовым месяцем; большую часть его они провели в постели. Они любили друг друга неизменною и своеобразною любовью, состоявшей из товарищества и разврата, из какой-то неблагородной и пылкой нежности, в которую входили и шаловливые игры и ярость любовников. Ласки и побои перемежались, а после их объятий и ссор в их взглядах было нечто и мрачное, и нежное.
Когда возврат этой страсти улегся, Анджиолино вернулся к своим делам. Во время своей бродячей жизни он приобрел самые разнообразные и полезные таланты. Он уже начал во дворце Лампарелли развивать некоторые из них; но теперь он находился в таком положении, что мог проявить все свои способности и всю широту своих достоинств. Плут сверх того имел весьма приличный вид. Он был хорошо одет и приятной наружности. Можно было, до известной степени, обмануться в его качествах, если бы что-то сомнительное не предупреждало и не заставляло настораживаться. Некоторая гибкость спины заставляла его кланяться чересчур низко. Его учтивость была слишком рабски почтительной, чтобы в ней можно было видеть только следствие его природной любезности. От пошлости он быстро переходил к заносчивости, от наглости к подлости. Он умел прекрасно разыгрывать шута и учитывал ту пользу, которую можно получить, если быть забавным. Этим он завоевал кардинала Лампарелли, проявлявшего особую склонность к проказам и притворству. Он восхищался в Анджиолино его искусством вывертываться из затруднения шуткою. Он смеялся и забывал, что плут только что подглядывал в замочные скважины и подслушивал у дверей.