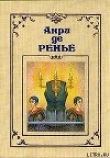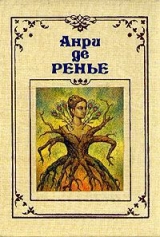
Текст книги "Дважды любимая"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Если смотреть с улицы, то дворец г-на де Галандо поднимался, четырехугольный, на высоком каменном фундаменте. С задней стороны низкая дверь, в уровень с землею, открывала доступ на кухню; но настоящий вход был с фасада. Колонны поддерживали крышу с фронтоном. Окна открывались на уровне с террасою, украшенною античными вазами. Двойная лестница вела на нее с каждого конца. Внизу террасы в каменной нише стояла статуя над небольшим фонтаном. Все это было в сильном запущении.
Позади дворца расстилался довольно обширный сад, почти невозделанный. Голуби старой Барбары садились там на многие кипарисы и на старые буксы, некогда подстригавшиеся, а теперь полузасохшие, редкая зелень которых обнажала поддерживавший ее внутри сухой ствол.
Г-н де Галандо нередко уходил и садился в конце этого сада в ожидании ужина; там стояла мраморная скамья, на которой он отдыхал. Он вдыхал там морской ветер, который по вечерам долетает порою, чтобы своим соленым запахом освежить и очистить римский воздух. Часто также, опустив голову, он тростью чертил на песке кружки и на этих земляных медалях рисовал концом палки наобум придуманные неясные фигуры и надписи, разобрать которые было невозможно. Сумерки спускались медленно; поднималась луна и округляла в небе свой сверкающий воздушный лик. Он сидел там, пока старая Барбара не принималась кликать его на своем странном жаргоне. Тогда он вставал и медленными шагами направлялся к дому.
Усевшись за стол, он наливал себе большой стакан воды и проглатывал его с наслаждением. Затем он наполнял свою тарелку, чаще всего щербатую, ибо никакая посуда, как бы прочна она ни была, не могла ужиться в неловких руках Барбары. Что касается хрусталя, то он утекал у нее из рук как вода, так что в один прекрасный день, перебив один за другим все графины, она вместо графина поставила на стол небольшую амфору из желтой глины.
Она нашла их несколько, различной величины, в углу подвала и стала употреблять их на хозяйственные нужды. Г-н де Галандо, приказав показать их себе на следующий день, заставил опорожнить их от содержавшихся в них масла и оливок. Они относились к глубокой древности и были необыкновенно изящной формы. Те места, где прикреплялись ручки, изображали головы баранов или маски поселян. Бока их были украшены гирляндами из виноградных листьев или буколическими сценами, написанными сильно и щегольски. Г-н де Галандо приказал поставить их на длинной доске над своею кроватью. Он стал прятать в них деньги, которые получал от г-на Дальфи и которые присылались ему в виде доходов от его имений в Франции; и так как он был далек от того, чтобы тратить все, что банкир получал для него, то амфоры, одна за другой, все более и более отягощались золотом.
На этот-то запас и рассчитывал г-н де Галандо для оплаты того участка земли, который г-н Дальфи, верный своему обещанию, доставил ему. Банкир сдержал слово тем охотнее, что находил для себя выгоду в этой покупке.
То был пустынный участок, лежавший за стенами города, у ворот Салариа. Кое-какие остатки маленького храма и обломки гробниц виднелись там еще до сих пор. Г-н Дальфи одновременно доставил и артель рабочих, которые копали землю. Г-н де Галандо некоторое время интересовался этими работами, которые, однако, не дали больших результатов, ибо, кроме нескольких камней, покрытых полустершимися надписями, там нашли только высокую урну зеленоватой бронзы, которую Николай отослал в подарок г-ну Юберте.
То была единственная весть, которую он послал о себе своему бывшему учителю. Аббат, со своей стороны, не знал, куда адресовать письма. Кардинал Лампарелли, которому аббат написал о пребывании своего ученика в Риме, ответил, что французский дворянин ни разу не явился к нему на аудиенцию и что он никогда ничего не слыхал о вельможе по имени де Галандо. Впрочем, письмо доброго кардинала было довольно смутно и указывало на несколько ослабленное состояние ума; почерк был неразборчив, и прочесть его было трудно, а местами так неясен, что аббату Юберте пришлось отказаться от мысли разобрать точно смысл всего письма, и он должен был удовольствоваться лишь отдельными неиспорченными местами.
II
Разумеется, г-ну де Галандо нетрудно было бы разузнать о дворце, где жил кардинал Лампарелли. Всякий указал бы ему монументальное здание близ Монте-Кавалло, и он, по всей вероятности, не раз во время своих прогулок проходил мимо высокой двери, где два согбенных исполина поддерживают с двух сторон ношу длинного балкона с железною решеткою, посреди которой виднеется щит с тремя золотыми светильниками в виде пастей, которые являются гербом сановника.
Итак, всякий мог бы, наряду с указанием жилища кардинала, осведомить его о доступе к прелату. Рим, в сущности, гордится своими кардиналами. Их личности, характеры и привычки являются излюбленной темой обсуждения как в публике, так и у частных лиц, как в высшем обществе, так и в народе, который любит знать, что они делают, и, по меньшей мере, любит повторять то, что о них говорят. Население города, переполненного священниками, пономарями, монахами, где все близко или отдаленно связано с церковью, естественно весьма интересуется духовными лицами, и особенно теми, которые в папском городе, в силу занимаемых ими должностей, участвуют в его управлении и в управлении всем государством.
Итак, г-ну де Галандо ежедневно приходилось встречать на улицах эти огромные кареты, запряженные большими парадными лошадьми, причем один из лакеев при карете держит всем хорошо известный красный зонтик. Он осторожно отходил к сторонке, чтобы дать карете проехать. Сквозь зеркальные стекла, поднятые или опущенные, виднелась сидящая в глубине кареты фигура того или иного из Порпорати, ехавшего по какому-либо делу или отправлявшегося на какое-либо торжество.
Среди них были люди самые различные по внешности: толстые, с видом жизнерадостных кутил, тощие, с видом недобрых покойников, физиономии то блаженные, то лукавые, то пухлые, то костлявые. Порою большой гордый нос дополнял чей-нибудь острый профиль. Тонкие или сухие ноздри говорили о хитрости или осторожности. Иностранцы чванились французскою суетностью, выставляли испанскую спесь, утверждали германскую флегму. Большинство из них, однако, были итальянцы, и даже римляне. Эти под красною мантиею хранили приметы своего сельского, городского или вельможного происхождения. Иные из них родились в лавочке, другие увидели свет во дворце. Некоторые ранее носили одежду проповедников, нищих или политических деятелей. Иные вошли в кардиналат сквозь широко распахнутые двери, другие же проникли туда низменными путями. Дворцовые переговоры или интриги в прихожих доставили кардинальское достоинство иным. Низменное происхождение и знатное рождение уживались рядом в добродетели или в честолюбии, но тот же вид надменности и лицемерия подбирал эти разнообразные лица в какое-то тайное родство.
Г-н де Галандо, в качестве доброго римлянина, стал, в конце концов, узнавать их по виду. Даже имена их из уст народных достигли его слуха; он слышал, как эти имена народ бормотал вполголоса, при проезде их по улицам, расступаясь перед высокими колесами их раззолоченных карет. Некоторые из этих имен произносились с уважением, другие с оттенком насмешки, иные заменялись фамильярным прозвищем, дружеским или презрительным, сообразно свойствам, которые народ приписывал данной личности, ибо скромность духовных лиц не могла помешать распространению по городу многих историй, в которых народ инстинктивно и довольно верно различал заслуги или недостойность тех, которые, в конце концов, могли быть в один прекрасный день призваны управлять им, так как всякий кардинал носит в себе зародыш папы, а зерно ответственно и за цвет и за плод.
Не разделяя под этим углом любопытства, публики, г-н де Галандо мало-помалу научился, однако, узнавать этих величавых проезжих, могущих в один прекрасный день стать папами. Он узнавал кардинала Бенариву по его упряжке вороных и кардинала Барбиволио по его четверке рыжих жеребцов. Из гнедых кобыл кардинала Ботта одна хромала, и скупой старик отнюдь не собирался заменить ее, равно как и кардинал де Понте-Санто довольствовался, чтобы тащить свой старый, изъеденный червями экипаж двумя парами старых карих лошадей, на которых остались лишь кожа и кости.
Что касается кардинала Лампарелли, то его уже нельзя было встретить, так как он и раза в год не выходил из своего дворца. О нем говорили, что он очень слаб, и в шутку заявляли, что если светильникам его герба и суждено гореть, то его светильник не замедлит погаснуть или превратиться в пышную надгробную свечу. А г-н де Галандо преспокойно позабыл на дне своего дорожного сундука то изящное и почтительное послание, которое аббат Юберте дал ему перед отъездом для вручения кардиналу в собственные руки; и за тот год, который он прожил в Риме, не сделав из него никакого употребления, воск печатей должен был распуститься, а надпись – стереться.
Итак, г-н де Галандо вел самую правильную и самую однообразную жизнь, обычным увеселением которой продолжала служить прогулка. Ни одно событие не смущало ее, если не считать карнавала, когда с ним случилось приключение, о котором он сохранил довольно неприятное воспоминание.
Незнакомый с обычаями города, он вышел в этот день, как всегда, не замечая вокруг ничего особенного, как вдруг, по несчастной случайности, попал на Корсо именно в ту минуту, когда безумие масок достигло своего апогея. Улица кишела ими во всю длину. Кареты ехали по ней в два ряда и держались колесо к колесу. Сквозь спущенные окна карет переряженные мужчины и женщины обменивались любезностями и шутками. Кучера, сидя высоко на козлах, помахивали бичами, украшенными лентами. Из окон домов свешивались группы людей, развертывая длинные ленты или разбрасывая дождь мелких разноцветных бумажек, падавших и кружившихся как бесчисленный рой легких, переменчивых бабочек.
Порою проезжала высокая колесница, в которой стояли комические фигуры. Там были гротески и бергамаски. Физиономии, осыпанные мукою, смеялись нарумяненным лицам. Некоторые из них надели на себя маски животных. Птичьи клювы и свиные рыла смешивались в кучу. Непомерные петушиные гребни раскачивались наряду с исполинскими ослиными ушами. Громкие взрывы хохота приветствовали самые неожиданные выдумки. Гримасами отвечали на балагурство.
В одно мгновение г-н де Галандо, оглушенный криками и ослепленный солнцем, превращавшим всю улицу в сплошной цветной водоворот, был осыпан конфетти, опутан лентами, затормошен, затолкан, осыпан мукою. Он был средоточием всех движений, предметом всех взрывов хохота. Его неожиданное появление отвечало, неизвестно почему, тому ожиданию чего-то необыкновенного, что составляет затаенное чувство всякой толпы. Оторопелый вид его только усиливал общее веселье. Он бросался то в одну сторону, то в другую, не зная, как выйти оттуда, затерянный в сумятице, которую он вокруг себя производил. Восхищенная толпа топала ногами. Мальчишки принялись было щипать его за икры, как вдруг он почувствовал, что кто-то набросил на него широкое домино и надел ему на лицо картонную маску. Какой-нибудь прохожий захотел, вероятно, таким образом положить конец перепугу мирного человека, казавшегося упавшим с луны; это неожиданное переодеванье имело счастливое следствие, смешав его с окружающим маскарадом, а г-н де Галандо воспользовался им, чтобы, достигнув перекрестка улиц, убежать со всех ног.
В этом странном наряде явился он домой. Старая Барбара при виде его от изумления уронила из рук миску, очутившись лицом к лицу с картонною козлиною головою, которая представилась ее глазам на плечах ее достопочтенного господина; и пришла в себя, только увидев, что из-под снятой маски появилось перепачканное, потное и расстроенное лицо г-на де Галандо, так как он едва мог прийти в себя, почти заболел от перенесенного испуга и более недели не решался выйти из дому.
Во время этого уединения он большую часть времени проводил вблизи Барбары. Уже раньше почти ежедневно спускался он на кухню, где добрая женщина, с четками на пальцах, расхаживала взад и вперед по обширному полутемному помещению. Воздух там был пропитан запахом увядших овощей и прогорклого масла, к которому примешивался аромат остывшей золы и сгоревших дров. Г-н де Галандо любил садиться перед очагом. Слабое и словно ленивое пламя нагревало дно старого чугунного котелка. Сажа делала его бархатным и приятным на взгляд. Вода кипела с живым и звучным шумом. С потолка свешивались венки луку и гирлянды чесноку. Порою входила курица и осторожными шагами приближалась к очагу. Блеск огня отражался в блике ее маленького круглого глаза. Она склевывала зернышко и убегала со всех лапок. Ее коготки сухо царапали мощеный пол.
Барбара была само движение; она никогда не переставала тормошиться, не производя, однако, при этом никакой большой работы. Ее начальная кипучая деятельность, которую она проявила при чистке виллы – после водворения в ней г-на де Галандо, – не возобновлялась. Она предоставляла пыли вновь завоевывать пространство, которое она у нее не оспаривала. Вся ее работа заключалась в подметании кое-как пола в комнате ее хозяина, чью постель она быстро взбивала и который, тем не менее, не обращал к ней никаких упреков в лени. Когда он встречал ее на дворе, возвращавшуюся с ближайшего рынка, нередко случалось, что он брал у нее из рук корзину и сам относил ее на кухню, где он присаживался, чтобы посмотреть, как она вынимала из нее содержимое. Она ежеминутно требовала от него внимания. Он должен был отмечать отменную свежесть овощей и, нюхая кожуру, наслаждаться ароматом дыни, принесенной ею с рынка.
Он любил дыни желтые, шероховатые, с выпуклыми боками, с сочною мякотью. Ему также доставляло удовольствие смотреть, как старая женщина взвешивала на руке апельсины и лимоны и вдавливала пальцами спелую и дряблую кожу крупных смокв. Подобно тому, как некогда в Понт-о-Беле, в просторных сводчатых кухнях замка, любил он сидеть в обществе молчаливого садовника Илера, так и здесь он любил скромную компанию этой престарелой служанки, болтливой и безобразной. Он начинал хорошо понимать ее язык. Для этого ему было достаточно исказить свой латинский язык, который у него с детства был чист, богат и изящен, благодаря стараниям аббата Юберте, и который некогда удостоился похвалы г-на де ла Гранжера, при выходе из кареты во дворе Понт-о-Беля, в тот день, когда он привез туда Жюли де Мосейль. Этим же смешанным языком пользовался он во время своих посещений портного Коццоли, когда он садился в его лавочке, в улице Дель-Бабуино, куда он заходил порою для кое-каких починок, так как он был очень заботлив к своей одежде; как ни проста она была, он требовал, чтобы она была безупречно чиста и в полном порядке.
Г-н де Галандо познакомился с Джузеппе Коццоли по поводу этого рокового маскарада в 1768 году.
Когда, по возвращении его из этой сутолоки, старая Барбара сняла с него маску, в которой он прибежал домой, и несколько раз вымыла ему лицо, на котором пот образовал кору из покрывавшей его муки, г-н де Галандо, оправившись от волнения, заметил, что главным образом во время сумятицы пострадали полы его платья. Одна из них была почти оторвана. На местах нескольких оторванных пуговиц висели жалкие нитки. Ткань, помятая и изорванная местами, весьма нуждалась в починке. Тут Барбара дала своему расстроенному господину адрес Джузеппе Коццоли.
То был внучатный племянник этой старой женщины. По ее словам, он превосходно умел кроить и чинить; но г-н де Галандо, прежде чем отправиться, как он намеревался, за помощью иглы и ножниц для починки понесенного ущерба, осторожно выждал конца карнавала. Только тогда решился он выйти на улицу, чтобы изгладить следы своего приключения, оставившего в нем довольно горькое воспоминание, в первом пылу которого он решил было бежать без возврата из города, представляющего такие опасности для приезжих. Словом, в настоящую минуту он думал ни о чем ином, как о том, чтобы покинуть Рим. Он думал об этом, бродя вокруг своей дорожной кареты, все еще стоявшей на том же месте, под открытым небом, во дворе виллы, но уже столь разрушенной и столь загрязненной куриным пухом и голубиным пометом, что мало-помалу ему пришлось отказаться от мысли запрячь в нее лошадей и пуститься галопом по дороге во Францию. Его недоброе чувство утихло, но осталась какая-то странная досада против Корсо. Он тщательно избегал проходить по нему и всякий раз, идя к Коццоли, делал крюк.
Коццоли занимал в глубине двора две темные комнаты с низким потолком. В одной из них, что была посветлее, он шил, постоянно сидя на столе и поджав под себя ноги по-турецки. Он болтал без умолку, вкалывая иглу и вытягивая нитку. Его обычными слушателями были четыре или пять высоких безголовых манекенов, плотно набитых и одетых в разные принадлежности костюма. Они служили портному для примерки отдельных частей его работы и для проверки правильности его кройки. Он считал их вполне за человеческие существа, и во время его речей они заменяли ему недостававшую публику. Он их спрашивал, отвечал им и прислушивался к ним. Г-н де Галандо, слушая его, проявлял не менее внимания, чем эта немая и постоянная публика. Усевшись на стуле и поставив свою трость между ногами, как он делал неуклонно в каждый из своих визитов, ставших вскоре почти ежедневными, он весь превращался в слух, и Коццоли мог угощать его всевозможными глупостями, которые только приходили ему в голову.
Можно было быть почти уверенным застать болтливого портного всегда дома; он отлучался только для того, чтобы сделать у суконщиков закупки или подобрать у басонщиков приклад, необходимый ему для работы, или же чтобы снять мерку с какого-нибудь важного заказчика, так как он в своем деле был искусен и работы у него было много. Нужны были по меньшей мере подобные случаи, чтобы заставить его разогнуть ноги и сойти со стола, залосненного от употребления. Коццоли, стоя, всегда бывал смущен и почти мрачен, показывая себя людям, со своими короткими ногами, с длинным туловищем и большою лохматою головою, с живыми глазами. Поистине хорошо чувствовал он себя только сидя на скамеечке, с наперстком и иглою в руках. Расположившись таким образом, он начинал говорить. В интересных местах он останавливался с поднятою иглою.
Внимание и доверие, которыми облекал его г-н де Галандо, пробуждали в нем гордость. Коццоли знал невероятно много, причем никто не мог сказать доподлинно, как и откуда он это узнавал. Можно было подумать, что маленький человечек каким-то волшебным образом присутствовал при совещаниях вельмож, при сокровенных тайнах сановников и в мыслях каждого человека, – так много убедительных подробностей и столько заразительной уверенности вкладывал он в свои рассказы. Он повелевал хроникою улицы и дворцов, делами государства и религии, игрою честолюбий, хитросплетениями интриг, подробностями любовных чувств и страстей, причинами событий и источниками катастроф, как общественных, так и частных.
Коццоли никогда не иссякал. Г-н де Галандо слушал этот поток слов, как он внимал во время долгих прогулок неясному шуму водометов. Из них он почерпал смутное и зыбкое представление о том, что происходит у людей, о бесчисленных событиях, крупных и мелких, которые разнообразят судьбы, оживляют их своею неожиданностью и вносят в них непрестанные перемены, составляющие жизнь. Пока Коццоли говорил, манекены, казалось, молча одобряли его, словно они-то и были героями того, о чем рассказывал маленький человечек, а г-н де Галандо, широко раскрыв глаза и упершись подбородком в рукоять своей трости, выслушивал, не уставая, все странные, любопытные и поразительные истории, для которых он, по правде сказать, был так мало создан.
Г-н де Галандо, очевидно, был рожден на свет специально с тем, чтобы с ним не случалось ничего чрезвычайного. В нем всегда было все, чтобы справляться с самыми обычными, самыми будничными и самыми легкими обстоятельствами жизни. Он был создан, чтобы двигаться по ее слегка наклонному скату из конца в конец, не запинаясь, не оступаясь; но он был мало приспособлен к тому, чтобы избегать ее ловушек и прыгать через ее пропасти. Провидение – если можно этим именем назвать ту насмешливую силу, которая забавляется расстраиванием человеческих замыслов, – устроило его особым образом. Достаточно было улыбки девочки и жаркого дыхания ее детского ротика, чтобы расковать ту бурю, из которой бедняга Николай де Галандо вышел навсегда оглушенным и ошеломленным.
Этой буре он был обязан тем, что вместо того, чтобы мирно стариться в тени прекрасных деревьев Понт-о-Беля, он очутился в Риме, одинокий, блуждающий, всем чужой, обреченный на уход старой служанки-итальянки, кривой, черной ворчуньи, и на беседы с маленьким балагуром портным, так как г-н де Галандо несколько раз на неделе приходил в лавочку Коццоли. Коццоли шил; он вдевал в иглу нитку, прищурив глаз и подняв руку, на которой блестел медный наперсток. Вокруг него летала его сорока. Она припрыгивала по полу, стуча клювом, на котором виднелись еще комочки белого сыру, или же, хлопая крыльями, садилась на того или другого из безголовых манекенов, составлявших, вместе с г-ном де Галандо, снисходительную аудиторию маленького портного с улицы Дель-Бабуино.