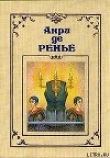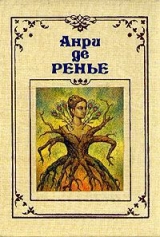
Текст книги "Дважды любимая"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Обычная прогулка Николая де Галандо нередко приводила его к скамье, где Жюли играла некоторое время днем. Эта скамья опиралась спинкою о трельяж, отделявший аллею от площадки, обставленной высокими деревьями. Углубление образовывало нишу, и несколько планок трельяжа, поломанных в этом месте, давали ребенку возможность проходить. Плющ устилал почву под деревьями своими листьями, сжатыми в темно-зеленую чешую; он взбирался на стволы мускулистыми и мохнатыми жилками. В этом месте было темно и прохладно; что нравилось малютке.
Нередко она пряталась в чаще этого убежища, заслышав издали неровную на песке походку Николая. Она замечала, что он никогда не забывал, проходя мимо, искать ее там глазами; потом он удалялся, обычно не оглядываясь; но однажды, быстро обернувшись на легкий шум, он заметил выглядывавшее из-за трельяжа, позади которого Жюли тайком наблюдала за ним, ее шаловливое личико; смеясь и застигнутая врасплох среди своего любимого развлечения, она непочтительно показывала ему язык, высунутый чуть не на аршин.
Жюли, размышляя о последствиях своей дерзости, сидела на скамье, смущенная и тихая. Как ни ловко умела она предупреждать порывы дурного настроения тетушки Галандо, ей не всегда удавалось их совсем избегнуть. Она была знакома с розгами.
Это бывала целая церемония, и те три раза, что она их уже получала за время своего пребывания в Понт-о-Беле, оставили в ней воспоминание очень жгучее. Торжество происходило так. Старый садовник Илер, за которым посылали для этого случая, входил, держа свои сабо одною рукою, а другою пучок веточек, в залу, где г-жа де Галандо восседала с очками на носу, прислонясь к спинке большого кресла. Илер, добрый малый, выбирал из связки самые сухие хворостинки, которые тотчас же ломались; но у Жюли тем не менее, когда она опускала юбку, слегка горел зад, а щеки пламенели от того, что она плакала заранее, без слез и без страха, лишь бы дать тетке высокое понятие о строгости наказания. Поэтому, завидя, что Николай, возвращаясь, замедлил шаг и остановился перед скамьею, она стала бояться к вечеру обычного наказания.
На самом деле Николай чувствовал себя весьма смущенным; он шевелил песок концом своей трости, чтобы придать себе духа. Жюли, которая уже решила, что ей теперь делать, лукаво поглядывала на него; потом внезапно счистила своею маленькою рукою листья и песок, покрывавшие скамью, и, отодвинувшись на край, как бы давая место пришедшему, она оправила на себе платье и внимательно посмотрела на нетерпеливые кончики своих ножек, висевших, не касаясь земли.
Смущение Николая де Галандо возросло до того, что, не зная, ни что делать, ни как уйти, он уселся, ничего не говоря, на самый краешек скамейки, размахивая руками, и его доброе лицо было красно от неловкости положения.
Жюли не говорила ни слова. Она сидела очень прямо, очень скромно, сдержанная и лукавая. Слышно было только постукиванье друг о друга ее каблуков. В промежутке этих звуков дерево иногда вздрагивало своею верхушкою. Сухая веточка упала с вершины, словно из невидимого пучка розог. Николай осторожно поднял ее и положил между ними обоими, потом он встал, снова сел и, наконец, внезапно удалился, не без того, чтобы отвесить низкий ггоклон кузине Жюли.
Николай стал приходить почти каждый день. Жюли больше не убегала. Он с интересом наблюдал, как она предавалась забавам, которые она для себя изобретала. Иногда ее там не было, но она вскоре выходила из-за трельяжа. Она приносила листья или корни плюща, камешки, сухие ветки, которыми играла при нем, мало-помалу освоившись с этим молчаливым посетителем. В Понт-о-Беле почти не говорили. Николай отвечал односложными словами на вопросы матери. Жюли, найдя в своем большом кузене благосклонного слушателя, болтала. Он внимал ей почтительно и покорно, не всегда отвечая на бесчисленные вопросы девочки, потому что он был ленив умом и так рассеян, что быстрые скачки ее мысли застигали его врасплох.
Жюли была бойка на слова и чиста сердцем. Она подружилась с этим большим мальчиком, бывшим на пятнадцать лет старше ее; но из тонкой детской прозорливости она приберегала эту дружбу для тех минут, когда они бывали в саду одни. При г-же де Галандо она оставалась равнодушною и ничем не обнаруживала этого товарищества. Разве только обменяется с Николаем понимающим взглядом, так что почтенная дама, сидя весь день взаперти у себя в комнате, ни за что на свете не подумала бы, что воспитанник аббата Юберте предпочитал великим авторам библиотеки общество девятилетней девочки и забавлялся с нею, сидя на старой скамье в конце парка, плетением гирлянд из плюща, выравнивая его словно лощеные листья, между тем как Жюли смеясь поглаживала своими робкими пальчиками его гибкие и мохнатые стебли.
Надо сказать, что Николай и Жюли не всегда оставались на том же месте, где они встретились. Часто они обходили кругом по парку, вдоль внешней ограды. Жюли шла впереди, а он послушно следовал за нею всюду, куда ей хотелось, на солнце, которого он очень боялся, и даже под дождь, который пугал его еще более и под которым Жюли любила гулять, чтобы чувствовать, как его капли смачивают ее волосы и текут по шее; погода, которая более двух месяцев была прекрасною, начала портиться. Приближалась осень и время, когда Жюли должна была возвратиться во Френей, чтобы провести там зиму и весну.
То был дурной день для Николая, когда г-н дю Френей приехал за Жюли. Г-жа де Галандо приняла его холодно и сухо простилась с племянницею. Николай не смел ничем обнаружить своего сожаления о своей маленькой подруге. Он проводил ее до кареты и, простясь с нею, убежал в сад и сел на опустевшую скамью. Мох и мрамор ее были влажны и сыры. Только что шел дождь, и Николай, опустив голову под листьями, которые сыпались густо, отяжелелые, поднял у ног между ними сердечко плюща, еще зеленое и блестящее, на котором трепетала дождевая капля, потом, когда опять начался ливень, он встал и медленно возвратился в замок.
VIII
Когда через год приближалось время возвращения Жюли в Понт-о-Бель, г-жа де Галандо начала горько жаловаться. В течение года она не выказала никакой заботы, чтобы иметь сведения о своей племяннице, и Николай, раб всех настроений матери, ни разу не посмел предложить ей, что он съездит за вестями во Френей, чего он весьма желал.
Г-жа де Галандо резко порицала тамошний образ жизни и тужила о том, что Жюли переймет там, должно быть, такие привычки, которые, конечно, заставят ее утратить то немногое из добрых правил, что она старалась ей внушить. Все это, разумеется, должно было испариться при звуках скрипки и клавесина и среди ароматов печений и варений, и г-жа де Галандо ворчала на этих людей за то, что они взялись воспитывать девочку, обучая ее вместо всякого дела пенью и приготовлению сладостей, не позаботившись, наверное, показать ей хотя бы цифры или азбуку. Дело не в том, конечно, чтобы сделать из Жюли ученую. У нее не будет ни времени, ни случая читать или считать, ибо, выросши, она не должна будет блистать умом или искусством управления. Ее ждет скромный брак с малым достатком и со множеством хозяйственных забот. Приданым ее будет только ее часть в Ба-ле-Прэ, доходы с которого невелики, да и те ей придется делить с теткою Армандою, а это может подойти лишь мужу посредственного положения.
Поэтому г-жа Галандо находила полезным учить племянницу порядку, бережливости, хозяйству и шитью, всему, что прилично для бедной девушки, да еще нескольким религиозным истинам, чтобы она могла принять свою судьбу такою, какою устроит ее Бог, насколько он позволял, по-видимому, ее предвидеть.
Николай не мешал матери говорить. Про себя он предполагал обучать Жюли. Не считая себя настоящим учителем, он находил себя способным преподать ей начала чтения и письма и открылся в этом плане матери. Это пришлось ей по вкусу, так как она видела в этом больше занятие для сына, чем пользу для племянницы. Согласие было дано, и теперь можно было видеть Николая в аллеях парка с книгою в руках, повторяющим грамматику или чертящим на песке концом трости образцы заглавных букв. Г-жа Галандо с удовольствием смотрела на то, как он брал на себя эту роль педагога, а на свою долю сохраняла заботу направлять поведение своей племянницы и делать ей нагоняи, подстерегать ее промахи и возвращать ее к дисциплине, что не заставило себя ждать.
На другой день после того, как Жюли снова вступила во владение своею комнаткою, она проснулась рано утром. В своей постели она принялась с полузакрытыми глазами мурлыкать песенку, потом она мало-помалу запела ее. Ее чистый и звонкий голос раздавался в свежей утренней тишине. Жюли по рассеянности думала, что она еще во френее. Она быстро опомнилась и замолчала, совсем смущенная, но слишком поздно, так как г-жа де Галандо, уже проснувшаяся, услышала ее из своей комнаты, которая была рядом, и тремя сухими ударами в стенку дала ей понять всю неблагопристойность ее поведения.
Жюли, раздосадованная выговором, прикусила свою губу, розовую и пухлую, и оставила на ней отпечаток своих тонких зубов. Она вступала в очаровательный возраст, росла и начинала расцветать; в ее лице, нежном и круглом, проступало другое, еще неопределенное, но обещавшее стать прелестным; ее полное тельце уже мило утончалось, вся ее неопределенная фигура, казалось, скоро найдет для себя точные соотношения. Ей кончался десятый год.
Она скоро заново познакомилась с Понт-о-Белем, с его привычками и с его обитателями. Она с какою-то прирожденною ловкостью старалась держаться незаметно, делать мало шума и занимать мало места. Надобно было видеть, как она проворно взбиралась, свежая и таящаяся, на звонкие лестницы, пробегала по длинным коридорам и в обширной комнате, где она занималась шитьем перед глазами г-жи де Галандо, примостившись на высоком табурете, посасывала с печальною и хитрою гримаскою кончик своего пальца, уколотого острием иглы.
С одним только Николаем она опять становилась такою, какою была в действительности, – девочкою резвою, живою и насмешливою. Верный знак дружбы для детей – забывать, что находишься уже не в их возрасте. Как только это равенство установлено, они пользуются им к своей выгоде с удивительною легкостью. Поэтому взваливала она на Николая тысячи занятий, весьма простых и совершенно натуральных в понятии маленькой девочки, но делавших весьма комичным этого большого юношу, скромного и нескладного; например, целые часы он забавлялся с нею постройкою на песке миниатюрных садиков со стенами из кремешков и с деревьями из веточек.
Поистине очаровательно было видеть кузена Николая за работою, – руки запачканы землею, да так, что он едва осмеливался в таком виде возвращаться в замок, а близ него, раскрытая на кремешках аллеи, латинская грамматика, которую честный малый приносил с собою каждый день в надежде натвердить из нее кое-какие правила этой причудливой головке.
Только после долгой игры Жюли соглашалась сесть на скамью, чтобы слушать урок. Она принималась за склады с большою серьезностью и усердием, все время следя краем глаза за своею ногою, которую она покачивала мерно, так, чтобы незаметно коснуться до чулка своего рассеянного наставника и запятнать его пылью. Ее лукавство кончалось тем, что она громко смеялась, а смущенный Николай даже не знал, над чем она так смеется. Хорошо или худо, урок продолжался, пока Жюли не соскальзывала тихонько со скамьи. Это был конец урока, и тогда начинались забавы.
Жюли вкладывала в эту игру оживление и пылкость необычайные. Она никогда не утомлялась этим развлечением, которому ее кузен подчинялся со снисходительностью и терпением бесконечными. Он прятался за деревья как раз так, чтобы его можно было увидеть; он бегал крупными шагами как раз так, чтобы его можно было догнать или чтобы, догнавши малютку, не причинить ей обиды и досады, почувствовать ее неловкость, чего она не могла терпеть. Из-за этого между ними возникали ссоры, яростные и забавные, потому что Николай показывал, что замечает плутовство Жюли, и противился ее прихотям.
Даже случалось иногда, что он заупрямится по-настоящему, и вот два товарища заспорят. Николай забывал свой возраст и обращался с Жюли так, как будто бы ей было столько же лет, что и ему. Тогда начинались крики, гнев, они дулись один на другого, и оба оказывались при этом одинаково упрямыми. Потом, наконец, здравый смысл возвращался к Николаю, и он оглядывался на себя с удивлением и смущением, – такой длинный, скорчивший сердитое лицо, грозящий кулаками, как десятилетний мальчуган, похожий на цаплю, поссорившуюся с коноплянкою.
Чувство этого несоответствия клало обыкновенно конец раздору, и Николай соглашался на то, чего хотела от него Жюли. Вследствие таких примирений девочка добивалась того, что ее забавляло больше всего на свете, а именно, прогулки к зеркалу вод или тотчас же, или на другой день.
То было одно из самых приятных мест в садах Понт-о-Беля. Покойный граф велел выкопать там пруд, не очень обширный, но довольно глубокий и такой чистый, что в нем отражались окружавшие его прекрасные деревья. Четыре покатые склона муравы окаймляли его четыре края. Узкая песчаная дорожка огибала его, и Жюли, очень любившая пройти по ней, получала на это позволение только с условием не выпускать руки Николая.
В этом он оказывался неуступчивым как из осторожности, так и ради удовольствия держать в своих пальцах ручонку, в которой он так живо чувствовал нетерпение и любопытство. Когда круг был окончен, Жюли хотела начинать сызнова. Чтобы не ссориться, простодушный Николай предлагал ей идти к тому, что называлось «малым бассейном». Жюли бросала последний взгляд на сонную воду, где цепенели ленивые карпы, просвечивая сквозь воду, голубоватые и зыбкие, словно полумертвые в своей мясистой бронзе.
Малый бассейн лежал повыше большого, в некотором от него расстоянии. Он был украшен по углам морскими изображениями, а в центре – тритоном, который подносил витую раковину к губам, непомерно надувая при этом щеки.
Г-жа де Галандо, не любившая бесполезных издержек, оставляла эту гидравлическую игрушку разрушаться мало-помалу, но, открыв полусломанные трубы, можно было еще добиться, чтобы тонкая струйка воды начала просачиваться из засоренной раковины. Этого было достаточно, чтобы позабавить Жюли, но не для того, чтобы наполнить бассейн, который летом совсем высыхал, так что ил его лупился под ногами.
Жюли спускалась туда, затем, взобравшись на спину тритона, ждала и хлопала в ладоши, когда Николай поднимал за железное кольцо каменную плиту и вводил туда нечто вроде ключа, приспособленного для этого употребления. Обвив шею своими маленькими руками и прижавшись своею щекою к щеке морского чудовища, она слушала со страстным вниманием.
Статуя, более или менее долгое время молчавшая, казалось, оживлялась, наконец, шумом таинственным и неразличимым, закипавшим в ее бронзовом теле. Вода медленно входила в нее, тихо поднималась с легким журчаньем, словно зыбкое внутреннее кровообращение. Мало-помалу она достигала груди, как бы разливалась там, потом с глухим рыганьем проходила горлом, наполняла рот и выливалась в раковину, откуда стекала кристальными струями и ясными капельками.
Тогда Жюли топала ногами от радости, и, чтобы увести ее оттуда, Николаю приходилось закрыть трубы и обещать ей возвратиться вскоре к этому очаровательному удовольствию.
Время шло, близилась половина сентября, и Николай не пропускал ни одного дня своего добровольного служения. Лишь иногда мать спрашивала его, далеко ли подвинулось обучение Жюли. Она предполагала, что уроки кратки и непостоянны, и не думала, чтобы сын посвящал им более времени, чем было надо; она была довольна исполнением принятой на себя Николаем обязанности, и это ей казалось в ее сыне признаком серьезного характера. Николай, наоборот, заботливо скрывал свою дружбу с кузиною. То был потайной уголок его существования, и он ревниво оберегал эту маленькую тайну, так сильно занимавшую его сердце.
Впрочем, ему нечего было бояться нескромности. Сад был пуст. Старый садовник Илер один бродил по саду. Старик полол или скреб дорожки. Поработав утром на огороде, днем он возился с граблями под окнами замка. Впрочем, о его близости давал знать резкий звук его работы. Притом же он ненавидел г-жу де Галандо за то запустение, в котором она держала сады, и почитал только память покойного графа. Он был неистощим в похвалах прежнему порядку жизни в замке, пришедшему теперь к такому умалению, словно графиня не боялась, что им всем перережут горло, раз она хотела жить с таким малым числом людей в таком большом доме и настолько далеко от деревни, что там не услышали бы криков о помощи.
Что касается г-жи де Галандо, то она все реже и реже выходила из дома. Воскресная обедня – и больше никуда. Хотя она и чувствовала себя очень хорошо и была и раньше совершенно здорова, но она впадала в болезни воображаемые, боялась холода, жары, дождя, солнца и ветра. Эта прирожденная недоверчивость возрастала с годами и дошла до того, что превратилась в какую-то манию, заставлявшую ее опасаться приближения людей вследствие эпидемий, которые они могли занести, сами того не зная, принося с собою заразу от других. Поэтому отказывалась она принимать у себя священника, который, по своему долгу, посещает больных. Когда из города приезжал по какому-нибудь делу нотариус, г-н Ле Васер, искусный делец, которому она доверяла и поручала значительные дела, она заставляла его клясться, что он недавно, у изголовья умирающего, не составлял завещания или не подписывал дарственной. Так жила она взаперти, беспокойная, законопаченная, и, вопреки всему, в довольно суровой обстановке, мало заботясь о своих удобствах, без всякого истинного снисхождения к себе самой, но зато с тысячью предосторожностей против неведомых зол, предупреждаемых рецептами, которыми была полна у нее книга и набита голова.
В самом деле, она обнаруживала странное пристрастие к лечению себя всевозможными лекарствами, охотнее прибегая к знахарю, чем к врачу, тем более что ее крепкое здоровье нуждалось в лекарствах менее, чем ее причуды – в снадобьях. Она употребляла много времени на изготовление их во всех видах – отварах, мазях, примочках, пластырях, – целая своеобразная аптека. У нее была близ спальни настоящая фармацевтическая лаборатория, где она запиралась для составления панацей, действие которых она изучала на себе. Этим она занималась целые дни.
Итак, Николай и Жюли могли проводить дни как им хотелось, не опасаясь где-нибудь на повороте дорожки досадной встречи с г-жой де Галандо, от которой Жюли получала лишь наставления да резкие выговоры, а иногда и лекарства, ибо в известные дни тетка своевластно прописывала ей настойки из трав и соки растений, заставлявшие ее делать гримасы и без которых она обошлась бы превосходно, так как она была от природы здорова, свежа и крепка в своей розовой юности.
Сам Николай, в его годы, не был избавлен от материнского врачевания. Время от времени рано утром можно было видеть его, когда он, в халате, придерживая руками живот, поспешно пробегал по коридорам в уборную.
В дни принятия слабительного г-жа де Галандо не выпускала его совсем из замка, и он, праздный, торчал у окон, меж тем как Жюли гуляла в садах одна. Он пользовался этими вынужденными уединениями, чтобы писать аббату Юберте. Г-жа де Галандо читала письмо, обсуждала его содержание и стиль, и, вложив в него же листок с благодарностью аббату за семена, которые он присылал ей из Рима, где он находился еще вместе с г-ном де ла Гранжером, она заканчивала свое послание следующими словами: «Что касается племянницы моей, Жюли де Мосейль, о которой вы были добры спрашивать, то я могу сказать лишь весьма немногое. Это маленькая особа, довольно посредственная, ничего не обещающая, хотя она и оказывается более сдержанною, чем можно было ожидать. Мой сын, занимающийся ее обучением, уверяет, что учиться ей будет нетрудно. Впрочем, ее пребывание здесь на этот раз подходит к концу. Не позже чем через неделю г-н дю Френей приедет за нею, чтобы привезти ее к нам опять в будущем году».
IX
Возвращение Жюли во Френей встречалось каждый год с радостью. К этому готовились за несколько недель. Г-жа дю Френей изобретала самые вкусные сласти. Буфеты наполнялись ароматными тарелками и благоухающими банками. Самое прекрасное в пристрастии г-жи дю Френей к сладостям было то, что ни она, ни ее муж до них не дотрагивались. Оба они не любили сладкого, и все эти вкусные вещи шли к столу соседей. Г-жа дю Френей раздавала их всем, кто желал, и можно было видеть нищих и бедных крестьян, вошедших во двор замка, чтобы выпросить кусок хлеба, а выходивших оттуда с набитым ртом и с котомкою, полною самых тонких лакомств.
Г-н дю Френей сам первый смеялся над этой придурью своей жены и охотно подшучивал над нею, что сердило ее и заставляло краснеть, пока она, наконец, не соглашалась с тем милым безрассудством, которое муж ее вкладывал в песни, в ариетты и в рефрены.
Он также праздновал на свой лад возвращение малютки. Он с разнеженным лицом настраивал свою скрипку, повертывался на каблуках и насвистывал плясовую песенку, которая замирала на его устах по мере его приближения к Понт-о-Белю, так как г-жа де Галандо его сильно пугала, и он всегда опасался, что из-за какой-нибудь причуды эта дама откажется без оговорок отдать ему милую племянницу, с которою ей, конечно, нечего было делать, – ни ей, ни этому длинному простаку Николаю.
Едва Жюли выходила из берлина, [5]5
Берлин – карета.
[Закрыть]зацелованная, облелеянная г-жою дю Френей, которая осыпала ее нежными именами и страстными ласками, ее вели в приготовленную ей комнату, покойчик элегантный и кокетливый. Конечно, не нашли бы во Френее больших пропорций Понт-о-Беля, но все там было, наоборот, красиво, удобно и нарядно, устроено по вкусу того времени, уставлено изящною мебелью, обито светлыми тканями.
Гостиная-ротонда выходила окнами в длинный сад, в конце которого г-н дю Френей соорудил павильон для музыки. Колонны поддерживали восьмиугольный фронтон. Здание было украшено лепными орнаментами и гирляндами и снабжено пюпитрами для игры на различных инструментах. Г-н дю Френей проводил там много часов, занимаясь музыкою. Жюли приходила часто побродить вокруг; она слушала гармонию, что просачивалась наружу сквозь высокие окна, она видела, как г-н дю Френей стоит, прижав скрипку к жабо, и как взмахивают его превосходные кружевные манжеты вслед за движением смычка. Он замечал девочку и делал ей знак войти.
Она входила в павильон не иначе как с почтительным любопытством и на кончиках своих маленьких ножек, ничего не трогала и приподнималась та цыпочки, чтобы посмотреть на черные щели виолончелей и на окошечки контрабасов.
Время от времени несколько любителей собирались к г-ну дю Френею, чтобы дать концерт. Там бывали г-н де Пинтель и г-н Ле Васер. Они с таинственным видом вводились в маленькую залу, и каждый садился на высокий стул перед пюпитром. Соответственно их числу они составляли трио, квартет или квинтет. Жюли любила смотреть, как они отбивают такт подошвою, вскидывают головою от удовольствия и подмигивают, дойдя до удачного пассажа.
Иногда г-н Ле Мелье, бывший советник парламента, живший недалеко от г-на дю Френея, приходил сыграть соло что-нибудь на рылейке. Он в самом деле отлично играл на этом деревенском инструменте, и Жюли очень забавляли извлекаемые им из рылейки гнусавые звуки. В эти дни девочка ложилась поздно, потому что г-н Ле-Мелье являлся во Френей только вечером. Он проводил свои дни библиотеке, разбирая воображаемые процессы, потому что он не мог утешиться, после того как в раздражении продал свою должность и в досаде удалился в свое сельское изгнание. Чтобы рассеять свою тоску, он один представлял собою весь парламент: он выслушивая стороны, направлял следствие, кассировал, отсрочивал, зарегистровывал, утверждал, брал на себя ведение дела, прения и приговоры, отдавал заключения после больших и бесполезных изысканий по этим выдуманным тяжбам и этим небывалым преступлениям, которые в его воображении становились наиболее сложными и по возможности наиболее запутанными. Потом, еще одушевленный этими одинокими заседаниями, он обедал быстро и один, брал свою рылейку и, чтобы размять ноги, играл на ней бесконечные пляски, которые он танцевал в воображении, если только не отправлялся во Френей провести вечер в обществе.
Он пускался в путь, полями и дорожками, уже в темноте. Рылейка на перевязи, запертая в кожаном мешке, растягивала изобильные складки его толстого дорожного плаща. Собаки лаяли на дворах спящих хуторов. Болонка г-жи дю Френей, отлежавшая себе бока под юбкою своей хозяйки, поднималась на лапы и, показывая сквозь шелковистую шерсть розовую морду, яростно тявкала на дверь гостиной,
Она открывалась, и видно было, как в сенях г-н Ле Мелье освобождается от своих уборов и снимает подбитые мехом калоши, потому что осенняя грязь останавливала его не более, чем осенний дождь или зимние снега.
Несмотря на позднее время, отправлялись в павильон. Г-н дю Френей нес фонарь. Г-жа дю Френей и Жюли, закутанные, шли за ним. Сад светился темною белизною, серебристою тенью под звездным небом. Снег хрустел под ногами. Фонарь раскачивал свой движущийся отсвет. Слышен был звонкий смех Жюли, потом павильон освещался a giorno. [6]6
A giorno (итал.) – ярко освещенный.
[Закрыть]
Г-н Ле Мелье вынимал тогда из своего мешка рылейку. Она появлялась, бокастая и пузастая, круглясь толстым жуком, звучным и спящим. Он подвязывал ее себе к животу ремнем, потом поворачивал ручку и заставлял ворчать бас и среднюю струну.
Павильон оглашался музыкою хрупкою и скрипучею, неровною и хриплою, и г-н Ле Мелье начинал исполнять свой бесконечный репертуар. В полночь, по инстинкту, он вынимал из своего бокового кармашка толстые часы, подносил их к своему уху и заводил на бой. Они вызванивали тонкий звон, отдаленный, деревенский, если можно так сказать, как будто бой часов доносился ветром, умаленный и ослабленный, с какой-нибудь сельской башни, там, в ночи.
Тогда г-н Ле Мелье возвращался в дом, надевал свой плащ и свои калоши и уходил крупными шагами, выпивши сначала один или два стаканчика ликеров г-жи дю Френей. Одну минуту была слышна снаружи его походка, потом шум затихал. Становилось совсем тихо, а немного погодя раздавался отдаленный лай собаки, и г-н дю Френей говорил:
– Вот собака с хутора приветствует г-на Ле Мелье; он повернул на дорогу.
И пока г-н Ле Мелье быстро шагал через обледенелое поле, г-н дю Френей осторожно брал Жюли, заснувшую в кресле, и тихонько уносил в ее комнату, где г-жа дю Френей укладывала ее спать так, что девочка и не просыпалась.
Итак, Жюли очень нравилось жить во Френее. Г-жа дю Френей заботилась о ней всячески, и, между прочим, одевала ее кокетливо, к чему девочка уже не была безучастна. Жюли возвращалась каждый раз из Цонт-о-Беля с платьями, которые суровая г-жа де Галандо заказывала ей по старой моде и которые ей шили две старые служанки, не знавшие искусства приукрасить простую ткань и освежить вышедший из моды покрой. Г-жа дю Френей, наоборот, заботилась о том, чтобы одежда ребенка подчеркивала ее природную прелесть. Поэтому она сама тщательно принаряжала ее. На этом она не останавливалась и равным образом беспокоилась о ее росте, о ее стройности и о цвете ее лица и была озабочена тем, чтобы девочка правильно развивалась. При ее возвращении она неукоснительно подвергала ее роду испытания, ощупывая и поворачивая ее во все стороны, чтобы дать себе точный отчет в состоянии всего ее маленького тела.
Жюли покорялась этому обзору охотно и терпеливо. Она любила наряды, рано заметив, что старые друзья г-на дю Френея уже заглядываются на ее красивое личико. Они помогали принаряжать ее, даря ей маленькие прибавки к ее туалету и кое-какие мелкие драгоценности.
Так все шло хорошо, пока ей не исполнилось тринадцать лет. В этот год она вернулась из Понт-о-Беля сильно подурневшею, и все старания г-жи дю Френей не могли ничего в этом изменить. Она выросла на несколько дюймов, но ее тело и ее лицо были, так сказать, в беспорядке. Рост ее шел нестройно. То был невыгодный возраст, и в Жюли эта невыгодность была примечательна. Вместе с этим она стала печальною. Тщетно старались развлечь ее. Она, столь общительная, замкнулась в себе. Прежде такая милая, она стала хмурою, и добрая чета дю Френеев отправляла ее в Понт-о-Бель с некоторым беспокойством. Жюли уверяла, что хочет поступить в монастырь, и они боялись, как бы наставления г-жи де Галандо не толкнули ее на этот путь.
Бедному Николаю пришлось подчиняться в продолжение трех месяцев печалям своего маленького друга. Он пользовался этим, чтобы обучить ее чему-нибудь. Это ему удалось. Вскоре она бегло читала и писала. Прежние игры не возобновлялись. Николай очень хотел найти что-нибудь для развлечения печальной кузины, но он был несколько беден на выдумки и не находил необходимых пособий ни в себе, ни в других. Поэтому Жюли возвратилась во Френей такою, какою выехала оттуда.
Однако г-н дю Френей, хотя и порядочный человек, но знаток в девочках-подростках, не замедлил заметить перемену, которая мало-помалу совершалась в Жюли и могла бы остаться неприметной для менее опытного взгляда. Он находил ее интересною под ее преходящею личиною дурнушки. Таящаяся красота, скрывающаяся прелесть, прячущееся очарование являлись ему дремлющими в этом лице, еще не определившемся и, на взгляд всех других, ничего не обещающем. Г-н дю Френей подстерегал неожиданность этого близкого расцветания, блеск которого он предвидел и аромат которого предчувствовал, и он усмехался про себя, когда г-жа дю Френей жаловалась на нескладность Жюли, довольствуясь при общем неведении смакованием прелестной поры этого предвесенья, когда девочки становятся девами.
Зима еще прошла для Жюли в каком-то отвращении ко всему, которое ничто не могло победить и которое сказывалось в ее общей унылой неловкости и бледноватой томности. Она оставляла в глубине шкапов красивые платья, которые добрая г-жа дю Френей заказывала для нее, и упрямо носила скромные одеяния, вышедшие из-под неискусных ножниц древних горничных в Понт-о-Беле. Случалось, что она целыми днями сидела в своей комнате взаперти, и напрасно г-жа дю Френей снизу лестницы надрывалась звать ее отведать какую-нибудь конфетку или сказать свое мнение о каком-нибудь лакомстве. Жюли не отвечала, и г-жа дю Френей возвращалась к своим печам, безнадежно помахивая своими прекрасными руками, обсыпанными мукою.