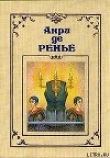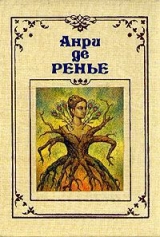
Текст книги "Дважды любимая"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Истина в том, что Анджиолино в глубине души был торгашом, интриганом, шпионом и законченным развратником. Не один вельможа и не один прелат обращались к нему в затруднительных или щекотливых обстоятельствах. Поэтому его часто можно было встретить в прихожих и ризницах. Наряду с этим, не прерывая сношений с простонародьем, он знал кабатчиков, каретников, сдающих в наем экипажи, носильщиков и прочий мелкий люд. Благодаря этому, он всегда был превосходно осведомлен о девушках, обещавших превратиться в красавиц, и о парнях, готовых на меткий удар кинжала. Таким образом, он всегда мог предоставить в распоряжение своих знатных клиентов средства для удовлетворения их пороков или насыщения их злопамятства, покладливую любовницу или ловкого наемного убийцу.
Подстерегая проезжих через Рим, он являлся к каждому из них под разными предлогами. Едва приехав, они получали визит хитрого Анджиолино, предлагавшего свои услуги. Он мог предложить им всяческие услуги и начинал с предложения показать им город со всеми его подробностями и достопримечательностями, как открытыми для публики, так и тайными. Он занимался всем, нанимал квартиры, торговал мозаикою и камеями, добывал мощи святых, водил по церквам, театрам и игорным домам. Для любителей музыки он умел превосходно устраивать квартеты и камерные концерты, так как он был в лучших отношениях со всею кликою кулис и пюпитров, скрипачами, актерами, кастратами. У него было чем удовлетворить самого требовательного человека, когда тот хотел истратить деньги на покупки, на музыку, на хороший стол, на игру или, проще, на женщин, что, в конце концов, является способом самым обычным и самым удобным.
Анджиолино держал лавку красавиц, и Олимпия занимала первое место на этой выставке. Она добровольно подчинилась осторожному и прибыльному выбору Анджиолино, и благодаря именно ему прекрасная римлянка видела, как через ее альков прошли самые разнообразные иностранцы.
Она спала с англичанами, молочно-белая кожа которых представляет странный контраст с их сангвиническим и красноватым цветом лица. Между ними бывали силачи, распространявшие вокруг себя запах сырой говядины и здоровой скотобойни. Другие же, длинные и тощие, вытягивали рядом с нею костлявые скелеты, дыша коротко и еле слышно. Иные, дородные, наваливались всею тяжестью своего мяса на ее упругую грудь. Ей до известной степени нравились немцы; они добродушны или суровы, меж тем как испанцы даже в любовь вносят свою причудливую спесь. Что до французов, то ни один из них не покидал Рима, не пройдя через руки Олимпии, так как они путешествуют не иначе, как добиваясь в каждой стране любовного гостеприимства ее куртизанок. Обычно все обходилось у Олимпии благополучно и пристойно. Там находили удовольствие скромное и безопасное, так как Анджиолино ненавидел шум и скандалы и все, что привлекает внимание сыщиков и полицейских. Он умел, однако, рискнуть кое-чем, когда дело того стоило, не опасаясь даже неприятных последствий, как это случилось по поводу того молодого русского вельможи, который вышел от Олимпии только с совершенно пустыми карманами, так как Анджиолино знал все ухищрения игры и все приемы, с помощью которых обирают неосторожных игроков. Он пустил их в ход против наивного боярина, который после ночи, проведенной за зелеными столами среди статистов, которыми Анджиолино ловко обставил их, очутился утром без цехина в кошельках, принесенных им с собою разбухшими от золота, и в таком жалостном состоянии, что его подобрали на нижних ступеньках лестниц Троицы, с оторванными от его платья алмазными пуговицами, с вывернутыми карманами, со снятыми с пальцев перстнями и с головою, настолько одурманенною напитками, которыми постарались ошеломить его несчастье, что он три дня не выходил из гостиницы, страдая и крича на своем стуле от спазм, раздиравших ему внутренности.
Олимпия тем более восхищалась проделками Анджиолино и его уменьем устраивать всевозможные штуки, что сама она не была способна придумать и четвертой доли их или подыскать им замену. Ей недоставало пронырства и сметки, так же как и приемов, необходимых в любовном обиходе. Очарование и вид ее красоты были ее единственным оружием. В ней не осталось ничего от той лукавой маленькой девочки, которая поднимала юбку под носом у престарелых милордов. С тех пор как ее бродячая и необеспеченная жизнь кончилась, благодаря заботам г-жи Пьетрагриты, она выказала себя вялою, неподвижною и ленивою. Она почти не выходила из дворца Лампарелли. Едва-едва во время карнавала проезжала она по Корсо, замаскированная; но, раз уже выведенная из апатии, она становилась вдруг неистовою от шума и веселья, а потом, на следующий день, снова впадала в свое бесстрастие, прерываемое лишь вспышками гнева, заставлявшими ее мгновенно вскакивать, делаться грубою и сварливою, с блуждающим взором и выпущенными вперед ногтями.
Водворившись в своем доме, она мало-помалу стала совсем домоседкою. Она влачила по лестницам и коридорам свои широкие платья всех цветов. Зимою она отогревала у жаровень свои застывшие руки и оставалась так целыми часами, с раскрасневшимися щеками, греясь перед горящими угольями. Летом она проводила долгие часы в отдыхе и просыпалась, только чтобы погрызть печенья или обсахаренного миндаля или чтобы подойти к зеркалу. Оглядев свое лицо и свое тело, она снова шла спать. Много времени проводила она также под своею виноградною лозою и, лежа на балюстраде террасы, ела кисти винограда или иные плоды.
Потом она бродила там и сям в надетых на босу ногу туфельках желтого шелка, каблуками которых она постукивала и на которые лаяла маленькая собачка. Она принимала у себя гадальщиц и продавцов румян. Равнодушие, с которым она спала с каждым первым встречным, было полное. Она полагалась в этом на Анджиолино.
Странная смесь роскоши и неряшества пестрила ее дом. От грязи она восходила к утонченному. Пили из разрозненных щербатых стаканов, скрипевших на зубах. Тарелки из простой глины перемешивались с тонким фарфором. Под потолком виднелись хрустальные люстры с переливами радуги, висевшие на пеньковой веревке. На полу можно было поскользнуться на очистках фруктов и на ореховой скорлупе. В углу расколотое зеркало отражало кресло о трех ногах. Олимпия ходила в разорванных платьях, на которых не было недостатка, в пятнах. Нередко руки ее были перепачканы вареньем. Ее разваливающаяся прическа всегда придавала ей вид, словно она только что встала с постели. Несмотря на это, некоторая сладострастная грация была разлита во всей ее особе. Ее очарование исходило, по всей вероятности, из того, что она всегда, казалось, была готова для наслаждения. Ей были благодарны за то наслаждение, которое она доставляла, а Анджиолино отнюдь не ревновал, при условии, чтобы и он, время от времени, получал свою долю. Эти минуты сопровождались обычно смехом, шутками и ссорами и кончалось всего чаще слезами Олимпии, которая утешалась тем, что, с мокрыми щеками, полунагая, сидя на краю кровати и свесив ноги, изо всей силы закусывала красный апельсин или желтый лимон.
VI
Г-н де Галандо в эту ночь совсем не ложился спать.
Пришедший домой, он застал стол накрытым. Обычно ему приходилось сходить вниз на кухню и напоминать Барбаре, что время обеда приближалось или что оно давным-давно прошло. Служанка вставала и, ворча, поднималась накрывать на стол.
Барбара с годами легко становилась забывчивою. То она вынимала из шкафа кое-какие остатки, ставила их на огонь подогреть, а сама бежала за яйцами. Тогда до г-на де Галандо доносился большой шум со двора. То Барбара, взобравшись на подножку дорожной кареты и наклонившись внутрь ее, осматривала кладку яиц. Потревоженные наседки кудахтали, и испуганная птица хлопала крыльями в вихре поднятых пуха и зерен. Барбара возвращалась, неся в каждой руке по паре яиц.
Г-н де Галандо терпеливо наблюдал это все из окна. Тихо сгущались сумерки. Сквозь деревья Рим казался ему фиолетовым и словно отодвинувшимся вдаль, с его крышами и соборами. Колокола на колокольнях звонили Ave Maria. Один из них был довольно близко и звучал медленно, глухо, словно говорил тихим голосом. То был колокол соседнего монастыря.
Колокол мало-помалу затихал. Другой, где-то очень далеко, звучал еще. Потом все умолкали, кроме него. Можно было подумать, что он хотел пробудить уснувших от их постепенного оцепенения, что он побуждал их возобновить их бронзовую хвалу, молил их объединиться снова в общем порыве, в новой звучной гармонии. Но бесплодный призыв одинокого колокола становился все тише; он пытал еще несколько ударов, потом они раздавались редко, с промежутками, вплоть до последнего, который долго звучал в пустом небе. Рим исчезал мало-помалу: он, казалось, таял и распускался во мраке, пока круглая серебристая луна не подменяла света дня своею ночною прозрачностью.
Г-н де Галандо долго смотрел на это привычное зрелище и оборачивался, только когда раздавались шаги Барбары, вносившей подсвечник и ставившей его на стол. Свет озарял тарелки с лежавшей на них кучкою овощей или с округлостью крутых яиц, катавшихся по тарелке и которые обычно, за время своего путешествия из кухни, раскалывались, стукаясь друг о друга скорлупками.
Но в этот вечер Николай нашел случайно ужин готовым и ожидавшим его. У Барбары порою являлось особенное усердие. Для этого надо было, чтобы она заметила у своего хозяина плохой вид и выражение слабости. Г-н де Галандо старился. Его высокая костлявая фигура похудела. Его платье, ставшее широким, собиралось в складки на спине. Его ноги казались более иссохшими. К тому же он бывал печален, и нередко на ходьбе он оборачивался с видом человека, который словно оглядывался назад на пройденную жизнь.
Каковы бы ни были причины его недомоганья, оно было, тем не менее, заметно, и, по меньшей мере, в нем была видна известная физическая усталость. Чтобы прогнать ее, Барбара и зажарила именно в этот вечер жирную пулярку. Поэтому и стала она за стулом своего господина, чтобы проследить действие на его аппетит этого лакомого блюда. Велико было ее изумление, когда она увидела, что он оставался погруженным в глубокую задумчивость, положа руку на вилку и не двигаясь. Он настолько походил на человека уснувшего, что она испугалась, видя его таким, и убежала в кухню, где принялась перебирать четки, моля Бога расколдовать его, так как подобное равнодушие перед столь искусно зажаренною пуляркою могло явиться лишь следствием какого-либо колдовства, которому он, без сомнения; был обязан своим плохим видом и упадком своего здоровья.
Г-н де Галандо долго просидел за столом. Пулярка на оловянном блюде сначала дымилась, потом мало-помалу охладилась в застывшем под нею соусе. Недвижные яйца на тарелке ждали напрасно; напрасно горбился и хлеб под своею золотистою корочкою. Мелкие черные оливки плавали в желтом масле. Свеча нагорела, потекла крупными слезами. Две летучие мыши влетели в окно и принялись под потолком описывать бесконечные круги. Г-н де Галандо все еще не двигался, и, только когда свет погас и свеча выгорела до дна подсвечника и когда он остался в темноте, он ощупью добрался до своей спальни.
Луна освещала комнату; она только что встала, и г-н де Галандо принялся ходить взад и вперед ровным и однообразным шагом. Достигнув конца своей прогулки, он начинал ее снова. Так длилось долго, и он не думал ложиться спать. В эту ночь – первую после той ночи, которую он провел некогда в библиотеке Понт-о-Беля, в день, когда его мать остановила его покушение на молоденькую Жюли и заперла на ключ виновного, – г-н де Галандо совсем не ложился. В первый раз позабыл он раскинуть, как он то делал ежедневно, свое платье в ногах кровати, на спинке стула, расправив полы и свесив рукава, старательно сложить свой жилет и свои штаны, вытряхнуть пыль из чулок и, скатав, засунуть их в башмаки, повесить на трость, прислоненную к стене, свой парик и свою треуголку.
Мало-помалу прозрачный и голубоватый воздух ночи утратил свою серебристость. Он сделался серым и пыльным. Луна померкла, пожелтела и зашла. Наступила заря. На дворе пропел петух. Г-н де Галандо, казалось, проснулся от сна на ходу. Он становился в своей ходьбе, простоял минуту в нерешительности, потом направился к своей постели, остававшейся неоткрытою, взобрался на одеяло и, подняв руки, достал с полки, где они стояли рядом, одну из убранных туда глиняных амфор. Та, которую он взял, была так тяжела, что в первую минуту он едва не уронил ее; потом осторожно сел на краю своей кровати, держа амфору между колен. Она была прохладна и покрыта пылью; паутина, шелковистая и легкая, делала ее словно мягкою и почти влажною при прикосновении. Г-н де Галандо долго разбирал украшавшую ее живопись. Горшечник изобразил на ней довольно странную сцену. Там можно было увидеть длиннобородого мужчину с лысым черепом, стоявшего на четвереньках, а у него на спине обнаженную женщину верхом, словно на лошади. Одною рукою она ударяла его тирсом, а в другой держала на уровне своего рта тяжелую кисть винограда.
Г-н де Галандо теперь держал амфору опрокинутою и старался высыпать из нее то золото, которое содержало в себе ее полное брюхо; но монеты, опущенные поодиночке в узкое горлышко, забили отверстие своею плотною массою. Г-н де Галандо постучал пальцем в бок амфоры. Ему ответил сухой металлический звук.
Вдруг упал один секин, за ним три, потом еще два, потом быстрый дождь рассыпался по постели. Г-н де Галандо брал это золото полными пригоршнями и лихорадочно засовывал его в карманы. Карманы его панталон были скоро полны; он набил им тогда карманы в полах в жилете, завязал его в огромный носовой платок, остальное собрал в кучу и спрятал ее под матрас. Потом, встав, он в последний раз опрокинул амфору.
Один дукат, остававшийся на дне ее, выпал и кругом покатился по полу, где вскоре и улегся маленьким золотым кружочком. Г-н Де Галандо нагнулся поднять его. Его длинная неуклюжая фигура комически перегнулась пополам. Сделав это, он направился в вестибюль.
Настал окончательно день. Солнце сверкало сквозь утренний туман. Г-н де Галандо вышел из виллы. Он с минуту постоял наверху лестницы, двойные перила которой вели во двор. Рим просыпался восхитительно в этот утренний час, весь розовый и рыжий, уютный и монументальный в этом нежном и благородном свете. На облупившейся и побелевшей крыше старой дорожной кареты тихо ворковали голуби; время от времени один из них улетал в клубах переливавшихся перьев. Рослый петух в рамке открытой дверцы стоял на одной ноге; его гребень, мягкий и красный, колебался. От ночи ничего не осталось, кроме двух маленьких летучих мышей, которых г-н де Галандо заметил, проходя через столовую, где, прижавшись в углу потолка, они висели, сложив крылья, как два ночных плода, как две фляги для тени, пьяные тем мраком, который они выпили.
Спустившись с лестницы, г-н де Галандо прошел по двору и вышел быстрыми шагами. Мало-помалу золото, отягощавшее его карманы, замедлило его шаг. Тибр, через который он перешел, катил жидкие и маслянистые волны. На одной из площадей был рынок; пара волов с длинными, изогнутыми рогами, запряженные в телегу, промычали нежно и глухо. В одной, почти пустой, улочке г-н де Галандо услыхал, как за ним кто-то бежал. Мужчина, прежде чем настигнуть его, исчез в боковом переулке. На одном перекрестке сидела на задних лапах собака. Она лизала себе одну лапу за другою и жалобно лаяла. Г-н де Галандо шел все дальше. Достигнув угла улицы Дель-Бабуино, он с минуту колебался, потом пошел по ней и ускорил шаг, чтобы дойти до двери Коццоли.
Коцолли встал с зарею. Он был деятелен и трудолюбив. Он устраивался на своем столе и принимался кроить и шить. Он работал таким образом долго до того, как его жена спускалась в мастерскую с антресолей, где спала вся семья. Тереза и Мариучча были еще гораздо ленивее. Они долго лежали в постелях, то спали, то шалили, и надо было, чтобы отец приходил сам стаскивать их с матрасов. В назначенный час маленький человек карабкался по лестнице. Плутовки напрасно притворялись спящими, но Коццоли не поддавался обману; сколько они ни прятали носы под одеяло, портной был безжалостен. Одним взмахом руки он стаскивал с них простыни и открывал их, еще теплых от сна, раздетых, в одних рубашках, приподнятых или скомканных, с голыми ляжками. Он дразнил их и смеялся над ними, чтобы заставить их встать, радуясь их здоровым личикам и развеселенный видом их свежей кожи, а они разбегались с хохотом и веселыми криками. Но нередко игра принимала дурной оборот. У Коццоли нрав был переменчивый, и в некоторые дни дурное и хорошее настроение соприкасались так близко, что бывало опасно вызвать то или другое. Тогда вставание не обходилось без нескольких пощечин, заставлявших плакать Терезу, меж тем как Мариучча, негодующая, потирала себе зад, красный от шлепка или от укола иглою, которым отец хотел прогнать ее лень.
Итак, Коццоли сидел один в своей лавочке, когда г-н де Галандо толкнул дверь и вошел. Коццоли был так удивлен этим ранним посещением, что взмахнул в воздухе руками и быстро опустил их, желая скрыть работу, которою он был занят. В самом деле, вместо того чтобы кроить или шить какое-либо мужское платье, Коццоли был занят шитьем маленького платьица из красного муара.
Крошечные штаны, уже оконченные, лежали на столе, подле него. Они, казалось, были предназначены для какого-нибудь кардинала, карлика ростом, и заставляли предполагать, что какой-нибудь пигмей был только что возведен в кардинальский сан и поручил Коццоли изготовить ему свой гардероб. Но г-н де Галандо казался столь взволнованным, что вовсе не заметил странной работы портного, и, задев при входе одного из примерочных манекенов, он церемонно поклонился ему, словно то была важная персона.
Но, раз уже усевшись на своем привычном стуле, г-н де Галандо несколько пришел в себя. Ручная сорока покинула плечо Коццоли, на котором сидела, и, перелетев, села на плечо к нему. Коццоли, с своей стороны, вновь обрел все свое превосходство. Сидя, как на насесте, на своем столе, он поглядывал сверху на своего раннего посетителя, ожидая от него какого-либо объяснения его неожиданного визита, так как, невзирая на то, что он сгорал нетерпением узнать его причину, он упрекал бы себя в недостойной слабости, если бы обнаружил хоть каплю любопытства. Продевая нитку в иголку, он украдкой поглядывал на г-на де Галандо, делая вопрос чести из того, чтобы тот заговорил первый. Г-н де Галандо все еще на это не решался. Он оставался неподвижным и молчаливым. Можно было слышать время от времени сухой стук клюва сороки и шелест стежков, которые делал портной. То могло длиться неопределенное время, благодаря вялости одного и упрямству другого. Сверху был слышен шаркающий шум метлы г-жи Коццоли, подметавшей комнату, где Тереза и Мариучча еще спали.
Наконец, г-н де Галандо кашлянул несколько раз, притом с умоляющим видом; Коццоли принял этот признак смущения за первый шаг и долее не выдержал. Покашливание г-на де Галандо заставило улететь сороку, покинувшую его плечо для плеча Коццоли.
– Где, черт возьми, могла ваша светлость простудиться? – спросил портной. – У нас разгар лета, так что г-н Дальфи вчера только заказал мне три легких костюма, из которых один серый, для пыли; она велика в это сухое время, и эта она раздражила вам горло. Не угодно ли вам, ваша светлость, стакан воды? Тереза или Мариучча принесут вам его, хотя вся эта молодежь еще спит; но я сейчас подниму их, чтобы идти за водою.
Г-н де Галандо сделал жест благодарности.
– Конечно, – продолжал Коццоли, – я должен заметить вашей светлости, что вы впервые посещаете в такой час мою скромную лавочку, и хорошо, что я встаю вместе с петухами; иначе вы нашли бы дверь запертою, что вас сильно рассердило бы, так как я бьюсь о заклад, что одежда вашей светлости нуждается в какой-либо спешной починке и что, наверное, надо подшить какой-нибудь вырванный клочок или починить что-либо попорченное.
Так как г-н де Галандо все еще не отвечал, то Коццоли пустился в бесконечные разговоры с перечислением всех причин, которые могли привести к нему г-на де Галандо в столь ранний час. У Коццоли была та особенность, что он был одновременно и мечтатель и шут. Его фантазии быстро переходили в дурачества. Поэтому г-н де Галандо должен был выслушать, как его раннему приходу приписывались самые нелепые поводы, так как мало-помалу дурное настроение маленького портного исчезало в том удовольствии, которое ему доставляли его собственные выдумки.
Смеясь весьма громко, спросил он наконец у г-на де Галандо, не была ли причиною его прихода просто какая-нибудь ссора со старою Барбарою.
– Когда я говорю о ссоре, то вы меня понимаете, ваша светлость. Но я постоянно опасаюсь, как бы моя достойная тетка, живя бок о бок с таким честным господином, как вы, не принесла ему в дар своей древней добродетели.
Эта выходка обычно возбуждала веселость всего дома, и самый отдаленный намек на любовные похождения тетки Барбары в высшей степени радовал Терезу и Мариуччу.
Но г-н де Галандо внезапно встал и, покраснев и бормоча придушенным голосом, сказал портному:
– Г-н Коццоли, я пришел поговорить с вами…
По мере того как г-н Галандо говорил, самое глубокое изумление появлялось на лице Коццоли. Настала его очередь удивляться. Он машинально снял свой наперсток и воткнул в клубок иглу. Он двигал своими скрещенными ногами, откидывался назад. Стоял ли перед ним, в самом деле, настоящий г-н де Галандо или какой-нибудь ночной призрак, которые бродят, по слухам, впотьмах; неужели он заимствовал внешность и одеяние, обычное для почтенного дворянина, и пользовался его благородным видом для своего дьявольского воплощения? Нет, то на самом деле был г-н де Галандо, который, краснея и смущаясь, спрашивал у него имя дамы, виденной им накануне на террасе, близ садов виллы Людовизи, кушавшею кисть винограда; он прибавлял в смущении, что при виде ее он ощутил сильное желание познакомиться с нею и засвидетельствовать ей свое почтение и желание пользоваться ее благосклонным обществом, если ничто этому не препятствует. Он полагал, что друг его Коццоли, чей голос он случайно слышал в саду синьоры, может добиться для него беседы, которая даст ему возможность выразить всю прямоту его намерений и искреннее желание быть полезным столь прекрасной особе. Все это показалось Коццоли чудовищным, и он сидел словно оглушенный, потом вдруг его изумление сменилось неодолимою веселостью, и, спрыгнув со стола, он принялся бегать по комнате, держась за бока, с тысячью прыжков и с радостными визгами.
На этот шум г-жа Коццоли, не зная, что такое происходит, спустилась вниз с антресолей. Она была в короткой юбке, волосы ее были всклокочены. Тереза и Мариучча шли за нею следом. Глаза у них слипались еще со сна, а в волосах был пух от подушек. Обе были в рубашках; Мариучча спустила рукавчик своей рубашки и показывала голое плечо, меж тем как Тереза, подняв подол, без стеснения чесала ногу там, где ее укусила блоха.
Г-н де Галандо стоял в углу комнаты, опустив глаза. Наконец, Коццоли, задыхаясь от смеха, мог восклихнуть:
– Знаете ли вы, знаете ли вы… чего требует от меня его светлость? Ему угодно, чтобы я свел его… ха-ха-ха, чтобы я свел его к одной даме… хи-хи-хи знаете… к Олимпии…
Слова его были прерваны радостным воплем; тогда образовался поток криков и восклицаний вокруг бедного г-на де Галандо, оглушенного, стоявшего в неловкой позе, с карманами, раздувавшимися от золота, и вертевшего в руках шляпу. Коццоли хохотал до упаду, г-жа Коццоли упала на стул. Тереза, прислонясь спиною к стене, смеялась до слез, а Мариучча, взобравшись на стол, плясала там и хлопала в ладоши, не заботясь о том, что было видно из-под ее короткой рубашки, меж тем как сорока, испуганная всем этим шумом, летала под потолком, хлопая своими бело-черными крыльями.