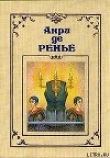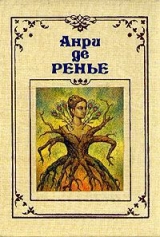
Текст книги "Дважды любимая"
Автор книги: Анри де Ренье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Графиня была красива, когда он женился на ней, она была красива через несколько лет после свадьбы, когда родился их сын Николай. Его последний взгляд увидел ее столь же прекрасною, когда он умирал довольно неожиданно, простояв слишком долго без шляпы в летний день под жарким солнцем, перед солнечными часами, между зеркалами воды, в ожидании полудня.
Это случилось в 1723 году, г-же де Галандо было ровно тридцать девять лет, и маленькому Николаю кончился седьмой год.
Похороны графа де Галандо, как и вся его жизнь, совершились в большом порядке. Собрались со всей округи, и дворянство всей провинции почтило в последний раз одного из лучших своих сочленов. Через гостиные, задрапированные черным, прошли перед вдовою в глубоком трауре. Катафалк был обставлен множеством зажженных свеч. Крестьяне вынесли на руках и донесли на своих плечах гроб графа. В церкви читали по уставу; гнусили певчие. Маленькая церковь в Понт-о-Беле, которую обыкновенно только поселяне наполняли своими полевыми запахами, узнала теперь мускусное благоухание дам в траурных нарядах.
Хоры были слишком тесны, чтобы вместить их. Втеснялись как могли, шелестя юбками и обмениваясь приветствиями. При словах разрешения склонили головы.
Старые плиты склепов были подняты. Холодный воздух подполья шибанул по носу тех, которые наклонились над черным отверстием. Туда опустили останки графа, сердце и внутренности были положены отдельно в серебряную урну, потому что этот бедный человек был богатый и могущественный владелец – его эпитафия возвещала об этом; потом скребок садовника изгладил перед замком след шагов и колеи, оставшиеся после карет. Все разошлись; а кадран [4]4
Кадран – солнечные часы.
[Закрыть]продолжал показывать по солнцу час своею маленькою угловатою тенью на камне, тепловатом или холодном.
II
Г-жа де Галандо облеклась в большой вдовий траур и носила его со строгостью исключительною сверх даже того времени, которое предписывает обычай. Обычаю она последовала, но его превзошла.
Она отказалась от всяких нарядов, заменив их тою однообразною одеждою, которой она уже никогда не оставляла. Она заперла навсегда в ларец драгоценности, украшенною которыми ее муж любил ее видеть. Богатые платья, которые при случае, чтобы угодить ему, она вынимала из больших дубовых шкапов или окованных сундуков, отныне оставались там, развешанные или сложенные; те, что еще не были скроены, так и лежали в кусках.
Да и не только в свое одеяние г-жа де Галандо внесла перемену, пережившую вызвавшие ее обстоятельства и такую устойчивую, что по ней можно было видеть хорошо обдуманное намерение жить впредь по новому плану. Вскоре она преобразовала вокруг себя все, что допускала в угоду прихотям покойного графа, – его, чревоугодника и честолюбца, она тешила в этой двойной его склонности столом, хорошо снабженным яствами, и прихожею, хорошо наполненною лакеями.
Нести эти два расхода, на прислугу и на пищу, она соглашалась из снисхождения, но вовсе этого не любила; поэтому, оставшись вдовою и свободною действовать по своей воле, она скоро положила этому конец. Она рассчитала поварят и прислужников и сохранила при себе только необходимое их число, чтобы открывать дверь и поворачивать вертел.
Из многочисленных горничных, что были приставлены к ее особе, она сохранила для своих личных услуг только двух более пожилых, которых было вполне достаточно, чтобы присматривать за ее бельем и заботиться об ее гардеробе; а еще чаще она обходилась и без их помощи, предпочитая одеваться, причесываться и чинить кое-что самой, чего она, конечно, не отваживалась делать при г-не де Галандо, ненавидевшем даже те маленькие работы, которыми развлекаются обыкновенно женщины, – он терпеть не мог, чтобы его жена занималась ими.
Простая жизнь у иглы или у наперстка его раздражала. Он любил, чтобы жили праздно и чтобы проводили целые часы, сидя один против другого в широких креслах, очень наряженные, разговаривая о дожде или о хорошей погоде.
Он имел вкус только к игре; даже не в карты, как многие другие, не в шахматы, например, трудность которых его быстро утомляла, но в бирюльки, которые забавляли его бесконечно. Оправляя своею красивою полною рукою кружева манжет, он разбирал прихотливую путаницу фигурок, резанных из здешней или из слоновой кости, и вкладывал в эту тактику терпение и сноровку замечательные. Кроме этого комнатного времяпрепровождения всего охотнее он признавал прогулку на просторе садов.
Сады в Понт-о-Беле считались очень красивыми, и дорого стоил уход за ними посредством садовников разных служб – одни для цветов, другие для деревьев, не считая тех, что смотрели за плодами, за овощами и за огородными растениями. Г-жа де Галандо отлично расправилась со всем этим излишеством. Она оставила у себя некоего Илера, искусного в разведении питомников, в прививках и в подрезывании деревьев, способного держать в порядке ее шпалерники и цветочные кологрядки; в остальном она положилась на природу, по воле которой деревья распускаются сами, и довольствовалась тем, что время от времени при помощи нескольких крестьян подчищались грабины и выпалывались аллеи, где бедный г-н де Галандо прогуливался так часто, нагибаясь, чтобы порядливо подобрать лист, забытый граблями, который находили утром увядшим в его карманах, когда их выворачивали, чтобы опустошить, чистя его одежду.
Так как перестали чинить водопроводные трубы бассейнов, то они стали не так прозрачны, и один из них, расположенный в конце парка, почти высох; но г-жа де Галандо прежде всего хотела избежать бремени этих убыточных прикрас.
Когда все стало по ее воле, она уже ничего здесь не переменяла. Она, так сказать, выразила свой нрав и этого держалась.
Каждый день она садилась за стол, всегда одинаково умеренный и скромный. Она выходила из-за него, чтобы вернуться в свою горницу, которой она почти не оставляла и где она проводила свое время за молитвами и за счетами, ставши из благочестивой богомольною и скорее порядливою, чем скупою.
Экономия коснулась не только людей. Конюшни опустели. Граф ненавидел охоту и верховую езду и никогда не имел ни гончих, ни лошадей под седло, но его наклонность к пышности и суетность находили удовлетворение в прекрасных запряжках. Он видел в этом признак дворянина и ни за что на свете не упустил бы этим пользоваться. Поэтому кормил он несколько пар сильных лошадей, которых он вывел с большими издержками из Германии, – одна пара – золотисто-рыжие, другая – белые, третья – серые в яблоках, еще одна – разномастные, и последняя – чалые мерины, которыми он, по-видимому, немало гордился.
Их-то и запрягали в большую карету, обитую внутри красным атласом с золотою бахромою и украшенную гербовым прибором, в которую садились г-н и г-жа де Галандо в большом наряде, чтобы навестить соседей, что случалось каждый год обыкновенно в первые вешние дни.
Свежий апрельский воздух входил в окна с опущенными стеклами. Дорога звенела под копытами лошадей; иногда на колеях карета наклонялась набок, потому что дорога была размыта зимними дождями; птицы быстрым полетом прорезывали небо; заяц выкатывался с поля и пересекал дорогу. Встречные крестьяне кланялись. В деревнях, у ворот, женщины смотрели на проносящийся господский экипаж, вдыхали запах стойла или благоухание овина; слышался шум кузницы или скрип колодезного каната; сорванцы, бежавшие за каретою, останавливались запыхавшись, тогда как желтая собака провожала карету дальше и, уставши лаять на колеса, наконец опережала ее, и видно было, как она, тяжело дыша, поднимала над кучей камней лапу и мочилась там, высоко вскинув ляжку и высунув язык.
Иногда прибытие посетителей будило в собачьих конурах нестройный концерт яростных и хриплых голосов и визгливых фальцетов. За решетками можно было различить красные зевы, налитые кровью губы и острые клыки. Подножка опущена, дверца открыта, и тогда г-н и г-жа де Галандо сходили на песок овального двора перед каменным подъездом.
В Мете их принимал г-н д'Естанс. Он целовал руку г-жи де Галандо и фамильярно похлопывал по плечу графа, который переносил эту вольность во внимание к уважению, которым пользовался в стране старый дворянин. После нескольких походов, вследствие раны, залеченной только вполовину, он оставил в чине бригадного генерала службу, где занимал прекрасное положение. Можно было видеть на стене его портрет, где он был представлен во весь рост, с протянутою рукою в отороченной золотым кружевом перчатке серой буйволовой кожи, в кирасе, перекрытой красною лентою, стоящим на пригорке, где пылала среди обломков оружия граната.
Довольно большое было расстояние между воинственным персонажем, изображенным на холсте, и тем сельским хозяином, который принимал своих соседей из Понт-о-Беля. Г-н д'Естанс носил старую заплатанную одежду из замши, длинные гетры и галоши на толстых гвоздях. Ко всему этому три дня не бритая борода.
Его встречали чаще всего с охотничьею сумкою на боку и с ружьем в руке, потому что его забавляло бить сорок и ворон в ожидании больших осенних охот, на которые он выпускал свою свору, иногда загонявшую зверя даже на земли Понт-о-Беля.
Эти вторжения вовсе не нравились г-же де Галандо, заботившейся о хорошем состоянии своих полей, вход в которые она не смела запретить г-ну д'Естансу, а он в отплату за это соизволение и в возмещение потравы снабжал службу замка четвертью затравленного зверя и какою-нибудь другою дичью.
В ближайшем соседстве с г-ном д'Естансом жил г-н Ле Мелье, бывший советник в парламенте. Он был богат и породнился через свою покойную жену с маркизом де Блимоном, который, как и граф де Галандо, считался одним из значительнейших землевладельцев того края.
Г-н де Блимон жил в очень старинном замке и имел, как говорил он в шутку, столько же дочерей, сколько башен. Тех и других было всего-навсего десять. Пять барышень де Блимон щеголяли дебелыми прелестями и цветущим здоровьем. Их дородность совсем не соответствовала худобе их отца, и от этого казались еще более чудными его сложение и невзрачная наружность. Что касается их матери, именной королевский указ уже давно держал ее заточенною в монастыре, чему маркиз радовался каждый день, вспоминая проказы, в которых его любезная подруга отваживалась бросать его честь по всем рукам.
Когда карета г-д де Галандо объедет все поместья, владельцы которых стоили труда у них останавливаться, она направлялась в город. Господа де Галандо наведывались туда редко и только по необходимости, хотя они там владели домом, где, впрочем, никогда не проживали и где ставни в главный вход оставались запертыми во все продолжение года.
Их карету видели здесь только у пяти или шести дверей да еще у двери епископа.
Это был весьма красивый каменный дом. Епископ пребывал в нем редко, но его уважала епархия за его внушительную архипастырскую наружность, за его мантии в тонком кружеве и за ту известность, которую он приобрел повсюду как своими действительными талантами проповедника, так и своими высокими видами церковной политики, и г-жа де Галандо не упускала случая каждый год облобызать пастырское кольцо своими прекрасными холодными губами.
Наоборот, она почти не разжимала их у Бервилей. Г-н де Бервиль носил сабо и говорил на местном наречии. И не совсем охотно г-жа де Галандо соглашалась заглянуть на минуту к господам дю Френей.
Эти добрые люди, очень дальние родственники Мосейлям, владели во Френее приятным жилищем. Входя к ним, вдыхали запах только что испеченного пирожного и дистиллированных эссенций. Г-жа дю Френей славилась уменьем засахаривать фрукты и составлять лакомства по своему способу. Она являлась вся розовая, с рукавами, засученными на руках, обсыпанных мелким сахаром. Ее заставали на ходу работы, когда она смешивала в лоханях тонкие снадобья, из которых она получала превосходные сласти и очаровательные эликсиры. Она знала различные достоинства лимонов и лимонной корки, кориандра и гвоздики и всякой бакалеи, которые служат для услаждения языка и для ублажения желудка.
Если она славилась искусством угождать вкусу, она умела также увеселять слух. Дом оглашался беспрестанными концертами, так как г-н дю Френей восхитительно играл на скрипке, а г-жа дю Френей удивительно аккомпанировала на клавесине своему голосу, который был у нее очаровательного тембра. Кроме того, это была семья верная и нежная, объединенная в этом двойном вкусе к лакомствам и к музыке, но их родство с Мосейлями делало их подозрительными для злопамятной г-жи де Галандо.
К тому же, чтобы попасть во Френей, надо было проехать совсем близко мимо Ба-ле-Прэ, а для г-жи де Галандо был отвратителен вид этих четырех башенок, острые вершины которых пронзали ее память как зловредные иголки.
Если граф вел себя по отношению к своим соседям с церемонною вежливостью, то г-жа де Галандо, со своей стороны, оставалась в высокой степени сдержанною с их женами. Ее надменный характер удерживал их в желательном отдалении. Чем меньше видеться с ними, тем меньше давалось поводов для их болтовни. Да и недоставало предлогов для их сплетен.
Кроме их главной жалобы против г-жи де Галандо на ее чрезвычайную осторожность, их языки почти не находили в ней тех черт, ясных и точных, которыми снабжает одна только близость и которыми питается и укрепляется злоречие; без них же оно истощается или блуждает ощупью, воображает или предполагает и не имеет для своей деятельности существенной пищи, за отсутствием которой оно остается общим, неопределенным и более колким, чем опасным. Таким образом, мы сами лучше всего выдаем то, чем нас унижают, и благоразумно не выставляем себя чужим зубам на растерзание.
Итак, г-жа де Галандо давала возможность бранить ее только вообще, кратко и на расстоянии. От этого и не воздерживались, особенно в городе, где она раздражила некоторые притязания и расстроила некоторые начинания.
Кое-кто из этих дам в первые годы замужества г-жи де Галандо пытались взять приступом, если можно так выразиться, двери новой хозяйки замка. Она отваживала их, одну за другою, с ловкостью и с твердостью совершенными и всегда каким-нибудь искусным приемом достигала своей цели. Она достаточно отдаляла их от себя и удерживала их в таком положении, так что, когда отношения к ним становились такими, каких она желала, она уже никогда не допускала их отойти от той черты, которую умела для них наметить.
В этом она повиновалась не столько расчету, сколько инстинкту: побуждаемый ее личным расположением, инстинкт вел ее, без сомнения, дальше, чем это было по нраву ее мужа, который очень хотел оставаться в достаточно хороших отношениях со всеми, чтобы оправдать добрую славу вежливого человека, признававшуюся за ним повсюду. По этой причине г-жа де Галандо не шла до конца в своих склонностях, и большая карета, запряженная лошадьми из Германии, продолжала каждый год возить чету к исполнению светских обязанностей.
Поэтому, когда граф умер, его вежливо провожали все те, кого он так вежливо навещал, но его жена в своем вдовстве увеличила то отдаление, в котором она всегда держалась. Ее новое состояние освободило ее на некоторое время от этих ежегодных повинностей, а потом, когда она могла вновь приняться за них, некоторые связи прекратились сами собою.
В городе свирепствовала эпидемия оспы, и она закрыла три или четыре из тех домов, которые там навещали г-н и г-жа де Галандо. Г-н д'Естанс умер в том же году, как и граф, вскоре после него. Маркиз де Блимон покинул родину со своими пятью дочерьми, – назначенный послом, он увез их с собою и выдал замуж, двух – за немецких баронов, одну – в Швабии, другую – в Тюрингии, а пятую – в Кельнском курфюрстшестве за молодого надворного советника, который сделал ее беременною и покрыл обиду свадьбою. То, что осталось, привыкло очень хорошо к тому, что г-жа де Галандо не выезжала более из Понт-о-Беля. Другие обязанности ее там удерживали, она предалась им всецело.
Земли, составлявшие поместье Понт-о-Бель, были значительны, и управление ими было бы тягостно для женщины не с такою сильною головою, как г-жа де Галандо. Она взяла на себя это бремя и предалась этим занятиям еще с большею заботливостью, чем прежде.
Бог благоприятствовал ее усилиям. Она молилась ему, и, без сомнения, об этом молилась. Религия заняла большое место в ее жизни. Она не проявляла, однако, своего благочестия делами внешнего милосердия, потому что всегда оставалась скопидомкою, суровою к бедным. Она раздавала немного милостыни, и епископ, г-н де ла Гранжер, почитая добродетель ее, не мог в такой же степени хвалить ее сострадательность. Он говорил про нее, что у нее душа сделана из сухого хлеба, желая, без сомнения, этим указать на ее честную сухость. Ей недоставало вдохновения великих христиан. Она более следовала церкви, чем Христу. Ее вера была более правильною, чем действенною; ее набожность не прибавляла к этой вере никакой мягкости. Порыв ее души был восхождением разума, направленным прямо вверх и не дающим ни излияний, ни росы.
Итак, г-жа де Галандо была одновременно особою практичною и благочестивою. Ее характер был похож на каштан своими острыми и суровыми проявлениями, но оставался скрытым в своей внутренней сущности. Эта жестокость прикрывалась уже одним тем, что имела мало случаев обнаруживаться, так как г-жа де Галандо устроила все вокруг себя в совершенном соответствии с потребностями своей природы, чтобы ничто не могло ей противоречить, так что было очень трудно проникнуть в ее внутренний мир.
Поэтому, когда аббат Юберте поселился в Понт-о-Беле, где ему, по епископской рекомендации г-на де ла Гранжера, было в 1730 году поручено воспитание юного Николая де Галандо, он видел в первое время в его матери только даму, благородную и величественную.
Ей было тогда сорок шесть лет, лицо у нее было полное и свежее, но с наклонностью к желтизне, талия запущенная и располневшая, но еще скорее сухощавая, чем жирная, вид очень надменный и властный. Остальное оставалось для аббата неведомым. Впрочем, он не досадовал на это и перенес все свои заботы на юного Николая, который так неожиданно попал в его руки.
Пригласить аббата Юберте – это был превосходный выбор. Еще молодой и очень ученый, он оказался во всех отношениях совершенно способным к тому, чего от него ожидали.
Его уродливость делала в глазах г-жи де Галандо извинительным его возраст. Ему было тридцать два года, когда он появился в Понт-о-Беле со своим маленьким багажом, который содержал только кое-какую поношенную одежду да несколько книг. Это было зимою; было холодно и хотя еще не поздно, но уже почти темно. Николай встретился в коридоре с вновь прибывшим, который добрался до своей комнаты, чтобы там привести себя в порядок, прежде чем сойти вниз и представиться г-же де Галандо. В темноте Николай не мог рассмотреть лицо своего учителя.
При свечах аббат Юберте показал широкое лицо, со щеками красными, словно нарумяненными, губы вывороченные, глаза маленькие и острые, руки большие, икры худощавые и живот вздутый, в общем вид благодушный и веселый. Он носил круглый парик, черный воротник и синие брыжи.
Привлеченный к церкви истинным благочестием, он не нашел в ней для себя настоящего пристанища. Монашеские ордена были ему противны: они предлагали ему, каждый по своему уставу, жизнь нищего, слуги или полицейского; поэтому не решился он стать ни кордельером, ни францисканцем, ни иезуитом. Обители усиленной молитвы или работы, траппистов или картезианцев, пугали его нерушимостью их обетов. Перспектива монастыря и дисциплины отталкивала его от них не менее, чем мысль о подчинении настоятелю. Хотя и священник, он намеревался остаться свободным; быть одновременно служителем Бога и людей, это казалось ему слишком много.
Белое же духовенство его приняло, но здесь он умер бы от голода, не рассчитывая ни на покровителя, ни на заступника. Надобно иметь лицо, чтобы исповедовать, чтобы проповедовать или чтобы поучать, а его лицо, хоть и был он умен, красноречив и учен, возбуждало бы смех. Богомолки любят, чтобы отпущение грехов преподавалось им прекрасною рукою, и слово Божие трогает их только в устах, которые не искажают слишком по-человечески божественных заповедей. Деятельность воспитателя в знатном доме перед ним была равным образом заграждена. Хотят наставника с величавою осанкою. Должности домашние и полковые доставались тем, кто умеет дополнять в них служение не только своим достоинством, но также, и даже более того, своею наружностью.
Оставались приходы; они редки. Аббату это было известно, и епископ, г-н де ла Гранжер, который знал его в Париже и интересовался им, предупредил его об этом. Не имея возможности предоставить ему ни одного прихода, прелат предложил ему невидную деятельность в провинции, воспитание юного Николая де Галандо. Это давало пропитание, пристанище, скромное жалованье и, кроме того, возможность ждать, чтобы освободилось какое-нибудь место. Это спасало аббата от трудностей жизни – для поддержания ее плохо служили кое-какие обедни по дешевке, которых надобно было выклянчивать у дверей ризниц, да кое-какие плохие работы в книжной торговле, едва возмещавшие бумагу, чернила и свечу, на них затраченные.
Поэтому аббат с радостью оставил Париж и чердак наверху улицы Святого Якова, где он дрогнул зимою и задыхался летом, для пребывания в Понт-о-Беле, где его ожидало отличное ложе и если не отличный стол, то, по крайней мере, пища здоровая и обильная.
Его аппетит слишком много страдал от постов бедности и от подогретых объедков харчевни, а потому он не мог не оценить правильного питания в замке, и, когда, сказав предобеденную молитву, он садился с салфеткою у подбородка, скрестив руки на пузе, он испытывал истинное удовольствие, видя, как подымается крышка с тяжелой миски и как пар от супа сочится влажными капельками на погруженной туда большой серебряной ложке. Поэтому не скрывал он своей благодарности к г-ну де ла Гранжеру, а тот, со своей стороны, очень дорожил тем, что имел здесь, у себя под рукою, служителя смиренного и скромного, всегда расположенного составить для него поучение, речь, похвальное слово, даже небольшую великопостную проповедь, то, чем епископ украсил свою память и стяжал великую славу человека красноречивого и сильного в учении церкви.
Что касается аббата Юберте, он считал себя счастливым, если, окончив какую-нибудь прекрасную ораторскую речь, он мог огласить ее для своего собственного удовольствия где-нибудь в углу сада, где он расхаживал, жестикулируя и проповедовая деревьям, в шапочке, кое-как надетой, в брыжах, съехавших набок.
Кроме того, его любимым развлечением было – запираться в библиотеке и проводить там часы досуга.
Библиотека была богата и содержала довольно хорошие произведения. Покойный граф собрал в ней большое число всякого рода книг, многие на латинском и греческом языках, все были прочно переплетены в крепкую телячью кожу и носили на лицевой стороне переплета герб их обладателя, потому что почтенный человек занимался больше их украшением, чем их содержанием, и смотрел на них только как на принадлежность настоящего дворянина, наряду со своими манжетами, своими пряжками на башмаках, своею тростью и своею каретою. Недостаток погребов в его замке в Понт-о-Беле не был бы ему тягостнее, чем недостаток в библиотеке, только он черпал охотнее из погребов, чем из библиотеки. Поэтому не переставал он осматривать свое книгохранилище, такое значительное и соответствующее ходу жизни в его доме и важности всей его особы. Он приходил туда каждый день после полудня.
Летом в особенности граф наслаждался преимуществами этого места, потому что комната была прохладная и тихая. Он усаживался в большое кресло кордовской кожи перед столом, обремененным массивною серебряною чернильницею, снабженным присыпательными порошками всех цветов и гусиными перьями, которые он заботливо чинил. В этом занятии он проводил большую часть времени. Иногда он склонялся над столом, брал большой лист бумаги и степенно писал там свое имя, старательно выводя каждую букву и росчерк, усложняя и приукрашая его, пока не получалось что-то вроде арабеска, где не найдешь ни начала, ни конца, и эти сплетения он оставлял сохнуть.
Еще чаще он закидывал свою правую ногу на левую, ставил свою табакерку на стол, выбирал какую-нибудь из тех мух, что летали вокруг него, и внимательно следил за нею глазами, пока не потеряет ее крылатого следа, потом возобновлял это упражнение, и кончалось тем, что он засыпал, склонив голову на плечо и раскрыв рот.
Проснувшись, он заботливо оправлял свое жабо и свои манжеты, обходил вокруг комнаты, рассматривал заставленные книгами полки, как бы для того, чтобы через их внешность хорошенько проникнуть в то, что они могли содержать, и придавал задумчивое выражение своему лицу, казалось, хранившему отсвет самых значительных мыслей.
Аббат Юберте сделал из библиотеки совсем иное употребление. Ленивые переплеты раскрывались в его деятельных руках; книги вышли из витрин и заполнили стол, покрывшийся быстро исписываемою бумагою. Он сгибался над текстами и возвратил к своему назначению эти прекрасные орудия науки.
И там же каждый день он давал уроки Николаю де Галандо. К десяти часам молодой человек приходил со своими тетрадями под мышкой. Аббат, сидевший там с зари, отодвигал свои бумажонки и улыбался своему ученику, а тот кланялся ему и садился перед ним, внимательный и удивленный.