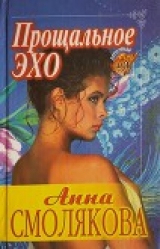
Текст книги "Прощальное эхо"
Автор книги: Анна Смолякова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
– Ну что, Потемкин, я по тебе соскучилась. Поедем, что ли?
Всего через полчаса…
– Слушай, я отлучусь на пять минут? – снимая белый халат, Андрей обернулся к Гриценко. – Цветов Ксюше куплю. А то здесь кругом этот стерильный белый цвет, ощущения праздника нет…
– Поэт! – с деланным презрением отозвался Вадим. – Зачем спрашиваешь, если одной ногой ты уже в коридоре? Можно подумать, что если я скажу «нет», ты горько заплачешь и останешься!
– Нет, конечно, но все-таки…
– Все-таки! – Вадим укоризненно покачал головой. – А тебе кто-нибудь говорил, Потемкин, что когда ты смущаешься, то становишься похож на красну девицу? Очи долу опускаешь!.. Да и вообще, кому ты сегодня здесь нужен? Дежурство заканчивается, Севостьянов уже пришлепал, так что можешь сваливать!
Славка Севостьянов, недавний выпускник мединститута, обычно приходил за час до официального начала своей смены и отправлялся в коридор пить кофе. Зачем ему нужна была ежедневная кофейная церемония, никто толком понять не мог. Благо бы человек подпитывал себя кофеинчиком, чтобы взбодриться, или просто млел от чудесного сочетания какого-нибудь «Якобса» с хорошей сигаретой. Так нет же! Севостьянов пил нечто такое, что и кофе-то называть было кощунственно. В огромную «бадейку», расписанную светло-зелеными цветочками, он клал всего одну ложечку коричневого порошка и целых пять чайных ложек сахара! Все это заливалось кипятком, превращалось в омерзительный и густой сахарный сироп, а потом выпивалось с задумчивым видом и взглядом, устремленным в форточку. Вот и сегодня Славка стоял у подоконника и не спеша потягивал нечто, сладко пахнущее дореформенным тортом «Прага». Андрей вдруг подумал, что он похож на игрушечную заводную ворону, ритмично опускающую свой длинный клюв в чашку с угощением.
– Вы уже все, Андрей Станиславович? – спросил Севостьянов, обернувшись на звук его шагов.
– Нет. Сейчас выскочу на улицу на пять минут и вернусь.
– Понятно. – Славка флегматично качнул головой. И было совершенно неясно, огорчило его это известие или обрадовало. На его длинноносом лице вообще трудно было что-либо прочитать. Он и операции проводил с тем же философским видом полной покорности судьбе, и больных осматривал, и, наверное, даже целовался с женой. Белую в зеленый цветочек кружку он в очередной раз поднес ко рту, а Андрей, прыгая через ступеньки, побежал вниз по лестнице…
Цветы продавали прямо перед входом в больничный городок. «Цветочники» довольно быстро разобрались, что ближайшая станция метро, окруженная целой букетной оранжереей, достаточно далеко, а молодых мам забирают из роддома каждый день. Поэтому перед маленькой кирпичной проходной со строгим омоновцем появился настоящий базарчик с высокими конусообразными вазами, стеклянными ящиками и горящими внутри их свечами. Здесь продавали и роскошные розы, и изысканные хризантемы, и официальные гвоздики, а одна дама так и вовсе шла в ногу со временем. Во всяком случае, Андрей сразу подумал, что она прочитала тот же дамский журнал, что и Оксанка. А точнее статью про то, как организовать первый день новорожденного младенца дома и, в частности, что девочку положено встречать розовыми цветами, а мальчика – голубыми. Перед дамой, черноволосой, полной, кутающейся в джинсовую «косуху», на раскладном столике стояли чудесные букетики из необычных нежных цветов. Они, в самом деле, были розовыми и голубыми, как ленточки на детских конвертах. А еще над ними легким облачком парили мелкие белые «звездочки» на тонких стебельках.
– Берите, берите, молодой человек, – зычно и авторитетно предложила дама, перехватив его взгляд. – Пыльцы на них нет, аллергии не вызывают, для такого случая в самый раз. У вас мальчик? Девочка?
– Да у меня пока еще никого, – спокойно улыбнулся Андрей.
– А! – грустно кивнула головой цветочница, стремительно теряя к нему интерес.
Он еще раз взглянул на розово-голубые букетики и подумал, что встречать Оксанку из роддома нужно будет именно с такими цветами. А пока, наверное, лучше розы…
Выбрать розы оказалось делом совсем непростым. Ему предлагали белые на толстых темно-зеленых стеблях, бордовые, цветом напоминающие свекольник, маленькие бутоны, погруженные в пышную зелень и обернутые сверкающим целлофаном. В конце концов он взял три классически красные и отправился обратно в отделение.
Розы пахли просто великолепно! Оксанка, не переносящая духов со сладким цветочным запахом, обожала запах натуральных цветов. Она всякий раз замирала возле какой-нибудь вазы, привстав на цыпочки и блаженно зажмурив глаза, как кошка, учуявшая запах валерьянки. При этом тонкие ноздри ее слегка подрагивали, а на губах блуждала неясная улыбка. Андрей этого не понимал, но по ее просьбе старательно принюхивался, а потом совершенно серьезно говорил: «Ну, ва-аще!» И поворачивал к ней лицо с бессмысленными, сведенными к носу глазами. За что обычно получал по лбу… Сейчас ему казалось, что розы оставляют тень своего запаха на стерильных стенах отделения, и что это аромат радости и надежды – чувств, как известно, более чем полезных для больных. Но он имеет право быть глупым и наивно-счастливым, потому что сегодня день рождения любимой женщины, которая очень скоро станет его женой. И вообще дежурство благополучно заканчивается через десять минут, Севостьянов, уже, наверное, готовится к вечернему обходу. Неожиданно Андрей остановился и принюхался: сладкий аромат роз тяжело и страшно перекрывался густым запахом свежей крови…
Навстречу ему, словно огромная перепуганная бабочка, выскочила медсестра Жанна.
– Что случилось? – спросил Потемкин, зачем-то пряча букет за спину.
– Мальчика привезли тяжелого. На железный прут напоролся, – на бегу ответила она. – Смотреть страшно. Да еще мать в каталку вцепилась, подойти не дает… Операционную готовим. Вот, блин, невезуха!
«Невезуха» явно относилась к тому, что тяжелая операция выпала на ночную смену. К тому же Жанне не хотелось работать с молодым и неопытным Севостьяновым. Стоило тому взять в руки скальпель, как на лицо его наплывало выражение философской покорности судьбе. Сквозь эту меланхолическую пелену отчетливо проглядывал страх. Севостьянов заранее готовил себя к поражению и каждый раз «восставал из пепла», когда выяснялось, что больной не умер у него под ножом. То ли просто в мединститут его запихали родители, озабоченные, чтобы их чадо получило приличное образование, то ли он сам слишком поздно осознал свою «профнепригодность». Во всяком случае, теперь каждый день он что-то доказывал сам себе, и непонятно, чем это должно было в результате закончиться. К счастью для пациентов, в институте Слава учился чрезвычайно прилежно, и хирургом был хоть неопытным, но грамотным. Он напоминал грамотного канатоходца, превосходно знающего «теорию» и тем не менее каждую секунду боящегося сорваться вниз…
Жанна стремительно понеслась дальше, в направлении приемного покоя. Андрей немедленно последовал за ней. Теперь он уже не чувствовал запаха роз, и о том, как нелепо выглядит сейчас в своей серой «толстовке» с черными пуговками, в черных джинсах, да еще с этим шуршащим целлофаном букетом, задумался только тогда, когда его фигура мгновенной тенью отразилась в стеклянной двери приемного покоя.
Мальчик выглядел тщедушным и жалким в безжалостном свете ламп. Ему могло быть лет десять-двенадцать. Его лицо превратилось в серую безжизненную маску с черными кругами под глазами. Он лежал на закрытой белой простыней каталке, а под ним расплывалось неровное алое пятно. Мать уже не цеплялась за носилки, а сидела рядом на кушетке и плакала безнадежно, как на похоронах. Наверное, они с сыном были в гостях или собирались куда-то в гости, потому что мать была тщательно причесана и одета в дорогой шерстяной костюм. Девчонки-медсестры успели обрезать у мальчика вдавившиеся в края раны кусочки белой шелковой рубашки. Вадим стоял у стены, скрестив руки на груди, и смотрел прямо перед собой отсутствующим остекленевшим взглядом. Услышав скрип открывающейся двери, он повернулся, кивнул Андрею и, указав глазами на мальчика, скептически поджал губы. Это могло означать только одно: шансов спасти пацана практически нет.
– У Севостьянова от ужаса даже уши побелели, – шепнул Вадим, когда Андрей рядом с ним прислонился к стене. – Жалко пацана…
Мальчишка явно находился в болевом шоке и ничего не чувствовал. Что касается хирурга Славика, то он наверняка сидел где-нибудь в одиночестве, уставившись в стену перед собой и холодея от одной мысли о предстоящей операции. Способность осознавать действительность не потеряла скорее всего только мать, такая же неуместная в этих стенах со своими залитыми лаком каштановыми локонами, как и Потемкин с алыми розами в руках.
– Ты думаешь, он справится? – шепотом спросил он у Вадима, стараясь не привлекать к себе внимания окружающих.
– А от него тут уже ничего не зависит, – Гриценко пожал плечами. – У мальчишки вот-вот начнется агония. Ну еще час ему, ну два осталось… Так что тут ни студент, ни профессор уже не помогут.
– И все-таки не хотелось бы, чтобы это был студент…
Вадим отлепился от стены и посмотрел на него с любопытством энтомолога, разглядывающего диковинного кузнечика. И Андрей с каким-то полуиспугом-полуудивлением заметил, как в глазах его вспыхнули веселые искорки, точно такие же, как во время недавнего разговора об Оксане.
– Ты на что это намекаешь, друг мой? – поинтересовался Гриценко с вполне светской иронией. – Уж не на то ли, что кому то из нас нужно встать к столу вместо Севостьянова?
– А почему бы и нет? – Потемкин чувствовал, как к горлу подкатывает ярость.
– Нет – потому что нет. Потому что тебя ждет невеста, а меня жена, если угодно, с котлетами и борщом! Потому что наше дежурство кончилось. И самое главное потому, что это ничего не изменит. А исключительно для последующего самолюбования: «Вот какой я хороший! Попытался что-то сделать, хоть и знал, что бесполезно». Я лично палец о палец не ударю и тебе не советую!
Последнюю фразу он произнес довольно громко. Женщина, сидящая на кушетке, подняла свое заплаканное, опухшее лицо и недоуменно посмотрела в их сторону. Казалось, она не понимала, о чем и зачем теперь можно говорить.
– Кстати, вот эта же дама, когда очухается, – Вадим кивнул головой в сторону матери, – побежит жаловаться по всем инстанциям. Будет кричать, чтобы проверили квалификацию хирурга, который зарезал ее сына. Тебе это сильно надо?.. Ну что молчишь?
Он так и не выбился из спокойного тона светской беседы, и рыжие «бесенята» по-прежнему плясали в его глазах. Им было там удобно, а главное, привычно.
Андрей достал из кармана джинсов спичку, переломил ее двумя пальцами, обломки спрятал обратно в карман, а потом тихо сказал:
– Пойду поговорю со Славкой, а ты зайди, пожалуйста, в ординаторскую и оставь для Оксаны цветы, ну и какую-нибудь записочку от моего имени…
Наташа тем временем накрыла каталку свежей простыней. Мальчика собирались везти в операционную.
– Давай цветы, – Вадим протянул руку и усмехнулся. – В воду поставлю, записку напишу… Будут еще какие-нибудь пожелания или распоряжения?
Андрей молча сунул ему празднично шуршащий букет и вышел из приемного покоя. Он знал, что Гриценко вышел сразу же следом за ним, что идет сзади на расстоянии нескольких шагов, силясь сохранить на лице мудрую улыбку уверенного в своей правоте мужчины. Они дойдут до лестницы, оттуда Вадим свернет к ординаторской, а Андрей к операционной. Андрей, на ходу периодически поднося к лицу ладонь и с отвращением вдыхая запах мокрых стеблей роз, просочившийся сквозь целлофан, думал об Оксане. Да, она была тысячу раз права! Каким же надо было быть идиотом, чтобы с блаженной улыбкой на лице обещать ей эти три дня в Голицыне? Каким же надо было быть дерьмом, чтобы не подумать о том, как Оксанка будет чувствовать себя, если в последний момент все сорвется? Операция почти наверняка затянется, ни в какое Голицыно они уже сегодня не успеют. И бедная Ксюша вынуждена будет праздновать собственный день рождения в гордом одиночестве или в лучшем случае с родителями…
Андрей не успел еще свернуть в боковой проход, ведущий к операционной, когда заметил вдалеке, у дальней лестницы знакомый силуэт. Против его ожиданий, Оксанка надела сегодня не брюки с кроссовками, а светлую узкую юбку и туфли на низеньком каблучке. Но, что в этих туфлях, что в кроссовках, что в лодочках на сумасшедшей шпильке, походка ее всегда оставалась одной и той же – как бы летящей над землей. Розовые лучи закатного солнца, льющиеся через одинокое окно в конце коридора, обрисовывали вокруг ее фигуры тонкий светящийся ореол. Она шла навстречу ему и улыбалась.
Сзади его нагнал Вадим и незаметно сунул ему в руку уже потерявший свою первозданную свежесть и словно бы пожухший от больничных запахов букет. Впрочем, можно было особо не «шифроваться». Оксана не замечала ни Вадима, ни цветов. Она смотрела только в глаза Андрея. И он, вбирая в себя эту удивительную синеву, чувствовал, как горло сжимает то ли любовь, то ли жалость, то ли сознание собственной вины…
– Ну так что? Мы едем? – Она остановилась в двух шагах от него, поправив на плече ремень светлой матерчатой сумочки с двумя пряжками. И Андрей вдруг подумал, что она похожа сейчас на красивую гибкую кошку, предпочитающую с безопасного расстояния принюхаться к предполагаемому противнику. Они никогда не были противниками. Тем не менее Оксана присматривалась к нему недоверчиво и осторожно, словно ожидая наткнуться на что-то странное, опасное. А может быть, просто она предчувствовала недоброе?
– Ксюшенька! – Он подошел вплотную и мягко притянул ее лицо к своей груди. – Милая, любимая… Я знаю, что виноват ужасно, что ты меня не простишь. Но мы не можем сегодня поехать, даже поговорить толком не сможем… Понимаешь, привезли мальчика, очень тяжелого, а в ночную вышел Славка Севостьянов… Ну я тебе рассказывал, который на чашку кофе килограмм сахара кладет… В общем…
Андрей ожидал чего угодно: обиженного, чисто женского «я так и знала», по-детски растерянного «а как же мой день рождения?», слез, упреков, ссоры. Но только не того, что произошло. Она подняла на него глаза, спокойные и полные невозможной нежности, провела пальцем по щеке и сказала вполголоса:
– Ни о чем не волнуйся. От тебя ведь ничего не зависело, правда? Это кто-то на небе так за нас решил… Иди, оперируй своего мальчика. И знай, что я очень-очень тебя люблю.
Он наконец догадался отдать букет Оксане. Она взглянула на розы без какой-либо радости, машинально кивнула и развернулась, чтобы уйти.
– Оксана, – позвал Андрей, толком не понимая, зачем он это делает и почти реально слыша, как слабо тикают невидимые часы, отмеривающие минуты жизни маленького мальчика. Она замерла, секунду постояла в неподвижности, смотря не на него, а куда-то в пространство. Потом подошла вплотную и еще раз прижалась к его груди. Он почувствовал, что она прощает его. Прощает, в полном смысле этого слова… Уже наполовину отсутствующий, сосредоточенный на том, что будет происходить в операционной, а главное, успокоившийся, Андрей сообщил ей, что будет скорее всего завтра утром, и как-то отрешенно помахал ладонью. Оксана еще некоторое время постояла у стены, уронив руку с алыми розами. Потом так же молча пошла к лестнице. На секунду остановившись у самого входа в операционную, Андрей увидел, как она набирает какой-то номер на висящем на стене телефоне-автомате. «Наверное, звонит родителям, – подумал он. – Правильно, так будет лучше»…
* * *
Том Клертон еще никогда так тщательно не готовился к свиданию с женщиной. Обычно он только платил: деньгами за любовь «профессиональную», добрым отношением за доброе отношение, симпатией за симпатию. Это было просто и пресно, как вегетарианское рагу: цивилизованная торговая сделка, и ничего более. Ровным счетом ничего! Он слишком хорошо представлял себе свое будущее, слишком твердо знал, что бесплатно в жизни ничего не бывает, поэтому, наверное, сегодняшний звонок застал его врасплох.
Том Клертон долго чистил зубы перед зеркалом в ванной. Зеленая пена щипала десны, по подбородку стекала мутная влага, а он все тер и тер щеткой вверх-вниз, вверх-вниз, словно надеясь, что зубы заблестят так же, как раковина с позолоченными кранами. Горничная по его просьбе за полчаса навела в номере идеальный порядок, расставила в вазы живые цветы, и теперь гостиная и спальня – все стало немного походить на иллюстрацию к богатому и толстому журналу «Интерьер». Том не знал, как все опять сделать живым и настоящим, и поэтому спрятался в ванной, вместе с отглаженным костюмом и начищенными туфлями, отгородив для себя уголок реального мира.
Вода умиротворенно журчащим, прозрачным ручейком стекала по белоснежной стенке раковины, а Том продолжал чистить зубы, уже ощущая на языке солоноватый привкус крови. «Она сказала, что хочет меня увидеть!» – мысленно он повторял и повторял про себя. Именно так «она сказала». Как будто историю его отношений с Оксаной рассказывал кто-то другой. Собственно, истории никакой еще и не было. Было похожее на шок ощущение беспомощности и растерянности, когда он увидел ее впервые, было желание зарыться лицом в ее колени, было ее неуверенное и ласковое прикосновение и чувство, что внутри все обрывается раз и навсегда. А сегодня раздался этот звонок. Он не ждал его, не смел надеяться. Он перенес дату возвращения в Лондон, ну, только, пожалуй, потому, что надо было немного успокоиться и побыть в одиночестве…
Том тщательно прополоскал рот и глянул в зеркало. На него смотрел совсем еще не старый мужчина с прямым носом, приятным овалом лица и совсем даже не пустыми глазами. «Я не урод, не глупец, не стареющий ловелас, – произнес он негромко, прислушиваясь к тому, как его голос эхом отражается от холодного и сверкающего кафеля. – Я действительно мог бы ей понравиться. Это не может быть из-за денег. Не такая она женщина, да и случай не тот… Сейчас далеко не все русские живут в нищете, а она, с ее красотой, давно могла бы сделать выгодную партию… Да и, в конце концов, ничего же еще не произошло! Она сказала только, что хочет со мной поговорить. Это всего лишь разговор и больше ничего. Глупо что-то планировать и на что-то рассчитывать». Он с раздражением опустил влажную зубную щетку в специальный стаканчик. «Начал тут начищать зубы, глупый, безмозглый индюк! – осадил самого себя Том. – Можно подумать, она собирается тебя поцеловать?!» Мысленно он всегда называл Оксану только «она», хотя ему и нравилось ее имя, нежное, неудобно ложащееся на язык, но все равно, прекрасное. Тем не менее она была «она» – чудесная женщина с синими глазами и золотыми волосами, похожая на Деву Марию на церковных фресках.
Тоненькая минутная стрелка на его часах неумолимо завершала очередной крут. Он промокнул лицо мягким махровым полотенцем, зачесал назад волосы и снял с плечиков висящий на них костюм, сшитый специально для июньского приема в Букингемском дворце, безукоризненно элегантный, респектабельно серый и немыслимо дорогой. Впрочем, сейчас Том смотрел на него без энтузиазма. Его раздражали матово поблескивающие пуговицы, консервативной формы лацканы и даже дорогая добротная английская шерсть. Но более всего его раздражал он сам. Ну почему природа не отмерила ему и малой толики очаровательной раскованности плейбоя? Почему он толст, неуклюж и нелеп, как Санта-Клаус на знойном пляже? Гораздо естественнее было бы встретить ее в легкой домашней куртке и фланелевых брюках. Ведь она же просила: никаких ресторанов и людных мест, пусть будет просто комната, и они вдвоем. Она придет, красивая и нежная, немного несчастная (это явственно слышалось по голосу), пахнущая чистотой и молодостью. А он выйдет ей навстречу в этом сером панцире, словно официальное лицо на правительственном приеме. Том легонько провел ребром ладони по ряду пуговиц и устало вздохнул. Пусть все идет, как идет. Пусть будет этот костюм! Тем более что в домашней куртке он наверняка будет чувствовать себя совсем по-дурацки…
Оксана, как и обещала, приехала ровно в восемь. Клертон, уже минут пятнадцать нервно прогуливающийся по ярко освещенному прохладному холлу гостиницы, заметил ее в последний момент, когда она уже подходила к стеклянным дверям. Погруженный в собственные мысли и в панике беззвучно повторяющий холодными губами: «Что-нибудь обязательно не сложится, что-нибудь не получится, она не приедет», он так и продолжал бы мотаться, как челнок в швейной машинке – от цветного фонтанчика в одном углу до искусственного дерева – в другом. Но в какой-то момент до его слуха донеслось, как молодой человек, судя по произношению американец, сидящий на кожаном диванчике, сказал достаточно громко своему приятелю: «Ты посмотри, какая!» В этой фразе не было ни капли свойственной юности показной развязности, в ней слышались только удивление и восхищение. Том обернулся. Оксана уже входила в вестибюль, и взгляды мужчин притягивались к ней, как железные опилки к магниту. На ней была простая светлая куртка, нежно-голубая юбка и туфли на низком каблуке. Может быть, из-за этих туфелек она, в общем-то довольно высокая, казалась сейчас гораздо ниже. Ее пальцы беспрестанно дергали широкий ремешок светлой сумки с двумя блестящими пряжками. Оксана нервничала и от этого делалась похожей на пугливую юную девочку, изо всех сил пытающуюся казаться явно взрослой. Том вышел из-за празднично-зеленого искусственного дерева, успев с ненавистью подумать, что, наверное, выглядит нелепо в парадном сером костюме, и устремился к ней навстречу. Она заметила его не сразу, а когда заметила… Господи, он не мог в это поверить и, однако, убил бы любого, кто посмел в этом усомниться! Оксана улыбнулась несмело и одновременно радостно, так, как может улыбаться только человек, долго-долго кого-то ждавший. Он уже не первый раз видел ее улыбку, но теперь в ней читалось что-то другое, совсем другое… Том шел к ней навстречу и думал, что был полным кретином, когда, играя непонятно для кого эстета и знатока, утверждал, что длинноногие блондинки с синими глазами – это банально и пошло, что в женщине должно быть что-то другое… Она улыбалась ему одному, не обращая внимания на тянущиеся к ней «опилки» мужских взглядов, ее «банальные» синие глаза светились ожиданием, на ее «пошлых» светлых волосах поблескивали холодные капельки сентябрьского дождя, и в ней был весь мир, вся любовь, вся жизнь…
– Здравствуй! – сказала она негромко и уже знакомым, но теперь как бы мимолетным жестом коснулась его виска.
– Здравствуй, – ответил Том. – Ты пришла…
Оксана кивнула, подтверждая, что она действительно пришла, что это не сон, не галлюцинация. Но он уже сам видел, чувствовал, что это – реальность. Он видел следы помады в уголках ее губ, видел за этими полуоткрытыми губами ровную полоску белых зубов, видел ресницы, сейчас почему-то не пушистые, как прежде, а тяжелые и блестящие, впитавшие в себя осеннюю влагу.
– Пойдем ко мне? – спросил он нерешительно. Она снова молча кивнула. И Том вдруг понял, что нельзя, немыслимо ничего больше спрашивать, и говорить больше ни о чем не нужно. Каждое слово дается почему-то сейчас ей с такой же болью, как сказочной Русалочке первый шаг по твердой земле.
– Пойдем ко мне, – повторил он уже утвердительно и уверенно взял Оксану за руку.
В номере по-прежнему царила парадно-скучная атмосфера мебельного салона. Даже цветы казались искусственными и пахли слишком уж навязчиво. Да явно и было их слишком много. Том досадливо поморщился: надо было сказать горничной, чтобы из всех принесенных букетов она оставила половину, а остальные, ну, хоть себе забрала, что ли! Теперь тяжелые сочные розы с белоснежными, пастельными и бордовыми бутонами с царственной гордостью выглядывали из огромной фарфоровой вазы, похожей на супницу. Цветы стояли и возле зеркала, и на прозрачном столике у окна, их густой приторный запах тянулся из спальни.
– Прости меня, я, наверное, перестарался? – Он виновато улыбнулся и кивнул головой в сторону вазы-супницы.
– Это ничего. Я люблю цветы в любом количестве. Наверное, у меня плебейский вкус, – отозвалась Оксана, правой рукой расстегивая пуговицы на своей курточке, прозрачные, с золотой серединкой и блестящим ободком по корпусу. Том обратил внимание на то, что кронштейны на шнурке, стягивающем талию, изготовители, неуклюже пародирующие «Бергхауз», почему-то решили сделать из пошлой белой пластмассы. Но нет, Тому нравилось в Оксане абсолютно все: и даже эти нелепые кронштейны, и ее перламутровые ногти, и нервные, торопливые движения пальцев, и стройные икры, теперь, в этих туфельках на низком каблуке, кажущиеся чуть более округлыми. Он опомнился только тогда, когда она, уже сняв ветровку, начала осматриваться вокруг в поисках крючка или вешалки. Пробормотав извинения, Том взял из ее рук куртку и еле удержался от того, чтобы не зарыться лицом в прохладную плащовку: курточка пахла ее телом…
А Оксана в номере почувствовала себя значительно спокойнее. Легким движением убрав со лба волосы, она неторопливо прошла на середину комнаты и опустилась на диван. Том повесил куртку в стенной шкаф и сел в кресло напротив. Он больше не чувствовал себя унылым, толстым холостяком. Ему показалось, что его собственное тело вместе с прежними сомнениями и тревогами словно исчезло, и это было ново, волнующе, но немного страшновато.
– Я так рад, что ты пришла! – Том поправил на переносице очки и слегка наклонился вперед, чтобы лучше видеть ее лицо. – Тем более сегодня, когда я уже совсем не рассчитывал тебя увидеть. Но почему твои планы изменились? Мне помнится, что ты собиралась уехать из Москвы?
– А, – она как-то небрежно махнула рукой. Слишком небрежно, чтобы ее жест мог показаться естественным, – это должна была быть совсем пустяковая поездка. Совсем неважная, и не стоит даже о ней говорить. И вообще, давай просто посидим вдвоем. Я ведь впервые с тобой в такой обстановке, когда можно забыть о служебных обязанностях.
– А ты всегда помнила об их исполнении? – договорив фразу до конца, Том похолодел от ужаса. Ему вдруг показалось, что она прозвучала так, будто произнес ее развязный плейбой, вложивший в нее потаенный смысл. – Прости, я не хотел… – виновато выдохнул он, внезапно снова почувствовав, как тянут под мышками рукава серого пиджака. Но Оксана только взмахнула ресницами и улыбнулась.
В эту же секунду в дверь позвонили. Горничная вкатила столик, сервированный на двоих, и неловкая пауза растаяла сама собой. Меню ужина было самое изысканное. Хороши были и устрицы, и карп с апельсиновыми дольками, и салат из спаржи, и, конечно же, неподражаемое «Шато шеваль бланк». Оксана, кажется, окончательно успокоилась. Она сидела, откинувшись на спинку дивана, неторопливо посасывала сочные вишни и маленькими глотками пила вино из высокого хрустального бокала. Почти все время молчала и слушала рассказы Тома. А тот нес какую-то потрясающую чушь, ужасался собственной, внезапно накатившей глупости, но никак не мог остановиться. Вино в бокалах весело искрилось, Том вот уже десять минут рассказывал какую-то нелепую историю из собственного детства, длинную и вовсе не такую уж веселую, как он предполагал вначале. Он уже думал, как бы быстрее добраться до финала, когда одна вишневая косточка внезапно соскользнула у Оксаны с ложки и упала на ковер.
– Ой! – по-детски вскрикнула она, наклоняясь за ней.
И он опять повел себя по-дурацки. Конечно, следовало опередить ее и самому поднять эту несчастную косточку. Но он замер, как истукан, увидев открывшийся под волосами кусочек нежной шеи, и понял, что он безнадежный склеротик. Когда Оксана выпрямилась, Том уже доставал из внутреннего кармана плоский футляр из черного бархата с позолоченной застежкой.
– Оксана, – произнес он негромко и виновато, – я, конечно, форменный идиот. Мы сидим здесь с тобой уже почти час, а я так и не поздравил тебя с днем рождения…
– Да, – отозвалась она тихо и зачем-то встала с дивана, как примерная школьница, разговаривающая с учителем.
– Но я прошу у тебя прощения и хочу, чтобы ты приняла от меня вот это…
Застежка поддалась легко, футляр открылся… Том ожидал, что сейчас Оксана увидит колье, на самом деле, очень красивое, золотое, с одиннадцатью довольно крупными бриллиантами, и обрадуется, не может не обрадоваться! Но она по-прежнему молча и пристально смотрела в его глаза, будто чего-то ждала. Он почувствовал, что краснеет, что еще секунда молчания, и он сморозит какую-нибудь глупость. А Оксана вдруг вздохнула так, как вздыхает наплакавшийся ребенок, и печально произнесла:
– А знаешь, чего бы мне хотелось сейчас больше всего?
– Чего? – хрипло спросил Том, уже понимая, что исполнит любое ее желание.
– Чтобы ты меня поцеловал, – ответила она и, закрыв лицо руками, опустилась на диван. Он глупо и растеряно спросил: «Можно?», и только потом, уронив невостребованный футляр, присел рядом и дрожащими, вмиг ставшими потными руками обнял ее за плечи, привлек к себе. Оксана плакала, а он целовал каждую ее слезинку, каждую намокшую ресничку, приговаривая: «Не плачь! Ну, пожалуйста, не плачь!» А она бормотала что-то про нелепость и пошлость, про гостиничный номер, про злосчастный подарок, про то, что он иностранец, и про то, что все подумают самое ужасное, а никому ничего не докажешь. Он беспрестанно повторял: «Я люблю тебя, люблю!» Прикасался горячими губами к ее постепенно обнажающимся плечам и неловко, задыхаясь от немыслимо острого желания, сжимал ее мягкую грудь. Тому казалось, что он больше не выдержит ни секунды, что умрет сейчас прямо здесь на диване оттого, что не решается прижаться к ней всем телом, войти в нее, влиться и раствориться внутри. И он бессильно сполз на ковер и прижался щекой к ее коленям, гладким и круглым, как рыцарь в латы, упакованным в скользкий капрон. Том погладил ее стройную щиколотку, но уже почти равнодушно, как котенка, и устало вздохнул. Колье, свернувшееся золотистой змейкой, лежало рядом с его подогнутой ногой. Он молчал и чувствовал себя полным ничтожеством. Ему не хотелось ничего говорить, и когда Оксана осторожно и нежно переложила его голову со своих колен на диван, и когда она поднялась, подтягивая колготки. Том знал, что она сейчас уйдет… Она действительно встала и подошла к стене. Тут же погасла люстра, и автоматически включился крошечный светильник на столике. Он был похож на небрежно брошенный батистовый платок, и свет из него лился мягко, как молоко из кувшина. Оксана вернулась, села рядом с Томом на ковер, оперлась локтем о диван и сказала так буднично, будто обсуждала обеденное меню:








