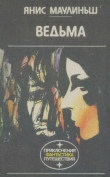Текст книги "Последний барьер"
Автор книги: Андрей Дрипе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
И тем не менее "деток" терпеть можно. Мальчишки вовсе не ужасные. Ужасно то, что они совершили, их дела. А в остальном, если бы не существовало "черного шкафа", если бы ничего не знать, многих воспитанников можно было бы назвать славными ребятами.
Находчивые, смекалистые, даже дисциплинированные и трудолюбивые, они производят куда более приятное впечатление, чем галдящая орава, иной раз высыпающая из дверей обычной школы. Такое же мнение складывается и у людей, которые по какому-либо поводу наезжают в колонию, бывают в зоне. Поначалу они с внутренней дрожью ждут, что на них уставятся тупые физиономии, раздастся зубовный скрежет и надо ежеминутно быть готовым к нападению с любой стороны. "А у вас тут совсем не плохо!" – удивленно восклицают они вскоре и даже испытывают разочарование при виде ухоженных газонов, асфальтированных дорожек и юношей, которые способны улыбнуться и даже вежливо поздороваться. Со спортплощадки слышны удары по волейбольному мячу, ребята прогуливаются, сидят на лавочках или читают вывешенную в витрине свежую газету. Если что и не нравится, "ак это голые затылки и одинаковая для всех форма, сшитая совсем не по последней моде. "Конечно, не плохо, а вы как думали? Настоящий пансионат, только видите – вон тот заборчик вокруг", – так отвечает на подобные замечания Киршкалн. Если же гости (а в особенности гостьи!), слишком расчувствовавшись, начинают вступаться за ребят, мол, вон тому симпатичному юноше надо бы разрешить отпустить волосы или дать какую-либо другую поблажку, то Киршкалн, любит иногда ужаснуть непрошеного адвоката сообщением, что, мол, этот симпатяга подзащитный заколол штыком свою родственницу – древнюю старушку, в поисках денег разгромил весь дом и, ничего не найдя, дом спалил, дабы скрыть следы преступления. A тот, что стоит с ним рядом, еще более симпатичный юнец, со скуки изнасиловал трех несовершеннолетних девочек. После таких справок восторги умеряются, их сменяют возгласы: "Невероятно! Быть этого не может!"
Разнообразные трудности будней колонии нельзя углядеть за время воскресного посещения. Невидимыми нитями тянутся эти трудности из "черного шкафа", переплетаются и петляют, неожиданно проявляя себя в скрытых взаимоотношениях воспитанников, в их "счетах", которые они принесли с собой оттуда, "с воли", и продолжают сводить здесь. Они дают о себе знать в разговорах и мыслях, когда снова и снова перед глазами ребят возникают самые яркие эпизоды из недлинной жизни, связанные с совершенным преступлением. А преступление не дает покоя, оно довлеет над ними как кошмар, медленно и неохотно выпуская жертву из своих цепких лап.
Когда-то и Киршкалн был в известной мере захвачен псевдоромантикой преступного мира, навеянной старыми детективными романами и чужими рассказами, но это было давно. Мираж развеялся, остался лишь тяжкий повседневный труд, реальная действительность, заставляющая шагать по грязи и видеть звезды над головой.
II
У жилого корпуса гудит электросигнал на обед, Воспитанники бегут строиться – в столовую опаздывать не принято. Киршкалн идет вместе со своим отделением. Его взгляд привычно и точно определяет – поровну ли поделены "пайки", достаточно ли хлеба, не раздались ли у кого-то вширь кусочки масла, а у других, соответственно, съежились. Дух "господ" и "холопов" время от времени дает себя чувствовать и влияет на честность дележки. В его отделении это бывает редко, но все же бывает.
Ребята едят много, и еды хватает, но спроси у кого угодно, и все в один голос заявят, что кормят плохо и порции малы. Это убеждение всеобщее, оно не обошло и тех, кто дома питался значительно хуже. К еде, что дают в колонии, положено относиться с презрением, этого требует престиж колониста.
Сколько ухлопано зря времени на разговоры с беспокойными мамашами! Никак они не хотят поверить, что их сыновья не влачат полуголодное существование. Правда, жарким или виноградом их не потчуют, но безусловно и то, что во многих столовых готовят хуже, чем здесь, а после ухода воспитанников под столом валяются куски хлеба. Матери терпеливо слушают, но не верят, а на свиданиях из сумок достают ветчину и копченую колбасу, апельсины и сгущенное молоко, чтобы подкормить "заморенное голодом" чадо продуктами, вырванными изо рта других членов семьи.
А парни заметно поздоровели, стали крепкие, как кони! Ведь в колонии регулярное питание, и ребята спят вполне достаточно – таковы требования режима. Не то что дома, где они ели когда придется, и спать ложились когда вздумается.
Киршкалн наблюдает, как обедают воспитанники.
Здесь тоже можно сделать кое-какие полезные выводы, которые в другом месте, может, и не сумеешь сделать вовсе. Культурный уровень семьи, в которой вырос мальчишка, за столом проявляется весьма наглядно. Иные свое место занимают, как окоп врага, – с шумом и гиком. Некоторые в первую очередь заглянут в тарелку к соседу – сколько тому налито и не обделили ли самого. Есть такие, что сразу выудят мясо и картофель, а потом уже хлебают суп, и такие, кто поступает совсем наоборот – лакомое оставляют на заедку. Есть и не в меру брезгливые – как, например, Хенрик Трудынь; он долго что-то ловит в тарелке, наконец выуживает и, подняв находку двумя пальцами, подвергает ее всестороннему изучению.
– Что ты там нашел такое интересное? – не удерживается Киршкалн. Покажи мне тоже!
– Пока трудно сказать. По-моему, волос. – Трудынь кладет предмет на край тарелки и делает вывод: – У поварихи привычка причесываться над кастрюлями. Хотя нет, – разочарованно приходит он к окончательному заключению, но мясное волоконце, принятое им за волос, все-таки оставляет на краешке тарелки.
– А если даже и волос, погиб бы во цвете лет?
– Ничего смешного нет. Когда моя мамаша находит в супе волос, она падает в обморок.
В этом Киршкалн не сомневался. Ему приходилось встречаться с матерью Хенрика. Эта дама способна в любор момент лишиться чувств, стоит ей захотеть.
Она работает в ателье мод, и, как сама говорит, у нее шьют самые высокопоставленные особы. "В Риге за меня дерутся, – добавила она. Теперь хороших портних раз, два – и обчелся".
– В нашем отделении будет новенький? – спрашивает Трудынь.
– Будет, – подтверждает Киршкалн.
– Как его звать? За что сидит?
– Узнаешь еще.
Киршкалн думает о Межулисе. Инцидент с учителем Крумом подтверждает грустную мысль о том, что достижений нет ни малейших. Перед взором Киршкална обычная картина: ложка Межулиса механически движется вверх и вниз, на лице тупое безразличие ко всему.
– Как суп? – интересуется Киршкалн.
– Так себе, – слышится холодный, спокойный ответ. И все. Валдис даже головы не повернет к воспитателю.
Обед закончен. Когда в алюминиевую миску падает последняя ложка, дежурный воспитанник подает команду "Встать!". С грохотом отодвинуты табуретки, ребята направляются к выходу. Трудынь опять рядом с Киршкалном и идет с ним вместе в воспитательскую. Высокий, ладный, всегда опрятный, даже здешняя форма, сшитая далеко не по мерке, сидит на нем сравнительно элегантно, и кличка Денди дана ему не зря. Он гордится тем, что учится в одиннадцатом классе и средняя школа, можно считать, уже окончена. Еще несколько дней занятий, а там – экзамены.
– Ну правда! Скажите – кто будет в нашем отделении? Разве это секрет? пристает Трудынь к воспитателю.
Никакого секрета нет, но Киршкалн знает – Трудынь сию же минуту помчится к ребятам, чтобы блеснуть осведомленностью. Ему всегда не терпится блеснуть, выскочить первым, и товарищи его недолюбливают за это и за болтливость, хотя с удовольствием слушают его рассказы. Однако были случаи, когда Хенрик выбалтывал чужие секреты где не следовало, и поэтому ребята не ведут при нем серьезных разговоров, считают его "стукачом". Это не совсем так, поскольку Трудынь выдает чужие тайны не по умыслу, а ненароком. К тому же Киршкалн терпеть не может фискалов. Ребята это знают и ценят.
Разумеется, если в отделении есть парочка осведомителей, многие нежелательные вещи вскрывать бывает легче, и некоторые воспитатели пользуются таким источником информации. Киршкалну же делается невыносимо тошно при виде воспитанника, который, воровато оглядываясь, наушничает на своих товарищей. Киршкалн не облегчает свой труд за счет превращения кого-то из воспитанников в мелких предателей. Лучше уж самому, если есть нужда, исподволь что-то выведать.
– Расскажи лучше, как у тебя у самого идут дела.
Математику сдашь?
– Да сдам как-нибудь. Худо-бедно, но на троечку всегда пожалуйста, самоуверенно тараторит Трудынь. – Никакой любви к этим цифиркам у меня нету, но концы с концами свести надо.
– Межулие как себя чувствует в отделении?
– А что ему! Но вообще-то – зануда. Бурчит только да зрачками крутит. Не верится, что на воле он десятилетку кончил. Небось купил где-нибудь ксиву.
– А ты расспроси, поговори с ним!
– Нет уж, лучше с чурбаном, на котором дрова колют. Вообще, я вам скажу, он не совсем в порядке, наверно, что-нибудь с головой. Он по ночам не спит.
Я раз ночью встал, пошел в гаваю, гляжу, а он заложил руки за голову и пялится на потолок. Глаза блестят, как жестяные пуговицы, мне даже не по себе стало.
– Ты на воле не знал такого Николая Зумента, по кличке "Жук"? -как бы невзначай спрашивает Киршкалн, роясь в ящике стола.
– Слыхать слыхал и даже видел. Вообще-то фигура популярная, но не у меня. Я таких не люблю.
Грубое дело. Он шуровал в основном на Чиекуркалне, а я – мальчик из центра. Он испекся осенью со всей своей свитой. Бамбан из третьего отделения – его правая рука. Да вы его знаете – Бурундук, мордочка такая мышиная, прибыл с предпоследним этапом. Скоро п Жук объявится. А может, он уже в карантине? – Трудынь замолкает и вопросительно смотрит на воспитателя.
– Возможно, в карантине, а может, и нет, – пожимает плечами Киршкалн.
– Это темный мальчишечка. Кое-кто его тут ждет не дождется. На новые времена рассчитывают. А мне что? Я такие дела никогда не уважал.
– А про брюки у матроса – забыл? – подмигивая, напоминает Киршкалн.
– Да что вы все про те брюки! – краснеет Трудынь. – Самому стыдно вспоминать. Будто не знаете, как там все вышло. Разве я виноват, что у них "сухой закон"? Этот глотает как свинья и знай мычит:
"Рашн водка – вери гуд". Ну и свалился с непривычки. А за водку не дал ни копейки. Мы тогда и глядим, что с него можно взять. Задарма поить кто будет? Дружба народов и все такое прочее дело хорошее, но... – Трудынь театрально разводит руками. – Я так понимаю: ты дай мне, я дам тебе. Может, оно и не совсем правильно, но я политик реальный. Вот мы и стянули с него штаны. Не больно фартовые, но со стокгольмской маркой. Еще пришлось отдавать в химчистку, так что – поверьте! – навар был минимальный. Но у этого иностранца не было чувства юмора, и он потом поднял шухер. Я понимаю – штаны получились в европейском масштабе, но мы так не хотели.
Я не собирался вредить престижу нашего государства.
– А ты не знаешь кого-нибудь из Зументовых девчонок? – перебивает Киршкалн Хенрикову скороговорку. – Не было у него такой Букахи?
– Нет, у Жука была Пума. Про Букаху я что-то слышал, но точно не скажу. – Трудынь огорченно глядит на воспитателя. – Эта Букаха в центр не приползала. Наверно, третий сорт. Точно, ребята говорили, у нее волосы выпадают. А Пума была конфетка!
Грива голубая, и по Жуку просто умирала. Только мышление у нее остановилось на том уровне, на каком было у наших предков, когда те ходили на четвереньках. Вообще-то Пуму я знаю лучше, чем самого Жука.
До Жука с ней ходил один из наших. Она тоже чуть не погорела, но под конец вывернулась. Говорят, по ночам ходила вокруг тюряги и серенады пела Жуку.
Голос у нее как орган. Талант пропадает. На Западе такие заколачивают миллионы, а у нас не в моде. Она могла за раз выпить пол-литра, а вот насчет поговорить – было как с Межулисом из нашего отделения.
Фразу в три слоза редко могла сказать без остановки.
Даже не представляю, как ей удавалось песни заучивать. Одну так вызубрила даже по-английски. Вот бы вам ее послушать! Если б настоящий англичанин услыхал, его бы инфаркт хватил.
За окном гудит сигнал строиться на работу, и Трудынь морщится. Его перебили на самом интересном месте.
– Ничего, мы еще поговорим, – утешает его Киршкалн.
– Як вам вечерком зайду, ладцр?
Киршкалн утвердительно кивает.
"Если бы у Межулиса была хоть десятая часть словоохотливости Хенрика!" – Киршкалн вздыхает и мысленно фиксирует все достойное внимания из того, что наговорил этот хвастливый болтунишка. Трудынь не врет, просто у него, мягко говоря, склонность к творческому осмыслению фактов, но воспитатель уже приноровился отметать шелуху и оставлять важное.
Да-а, Межулис... Сейчас с ним, пожалуй, было бы легче, если бы на приемке сами не дали маху, но – что упущено, то упущено. Такие, как Межулис, попадаются не часто, и к первой беседе с ним надо было подготовиться вдумчивей. Киршкалн хорошо помнит, как все было.
– Ты за убийство отбываешь срок? – спросил начальник режима, а он никогда не отличался тактичностью и умением вникнуть в переживания человека.
Конечно, начальник колонии Озолниек никогда не задал бы вопрос в такой форме. Но в тот момент он просматривал дело нового воспитанника, что-то искал в нем. Вот начальник режима и решил заполнить паузу. Мелочь, но, возможно, как раз эта мелочь все и решила. Жаль, что не Озолниек заговорил тогда первым.
– Да, – коротко ответил юноша.
Киршкалн заметил, как тот внутренне напрягся до предела, но сумел скрыть это. Узкое, довольно обычное лицо, только линия губ обозначена четко и несколько выдвинут вперед подбородок. Левая рука сжата в кулак, а правая, в которой он держал фуражку, все время мелко тряслась.
– Давай поподробней! – потребовал начальник режима.
– В деле все сказано, – отрубил Межулис.
– Что в деле, мы и сами знаем!
– Чего же спрашиваете? Мне добавить нечего! – Паренек побледнел.
Для начальника режима это было уже слишком.
– Ты здесь свои штучки забудь! Тут мы тебя будем учить, не ты – нас! вскричал он.
И тут произошел взрыв. Киршкалн, внимательно наблюдавший за парнишкой, ожидал этого. Озолниек отложил дело и хотел было вмешаться, но не успел.
– Ничему вы меня не научите! Вы! Вы!.. – кричал Межулис, вытянув вперед шею.
От волнения и ярости он не мог подыскать достаточно гнусного слова, чтобы швырнуть его в лицо сидящим за столом. И не им одним. Киршкалн понимал, что юноша в этот крик вкладывает ненависть ко всем тем, в кого он потерял веру. Это не была обыкновенная грубость или распущенность, скорей это был неосознанный крик о помощи. Во взгляде мальчика наряду с ненавистью просвечивали безысходность и боль, страдание человека, достигшего предела своих внутренних сил, человека, у которого еще минуту назад сохранялась крупица веры, который еще надеялся, ждал, что, может быть, хоть тут его поймут, но истекла эта минута, вокруг беспросветная темень, и он один как перст среди этой тьмы.
Межулис резко повернулся и, совершенно позабыв, где он, побежал было к двери, но опомнился и встал у стены спиной к начальству, низко опустив голову.
Все молчали. Мужчины переглянулись, и Озолниек, резко встав с места, жестом остановил начальника режима, который хотел подойти к мальчику.
Начальник режима нервно поскреб указательным пальцем худую щеку и, поерзав на стуле и взглянув на Озолниека, спокойно сказал:
– Воспитанник Межулис, выйдите и позовите следующего!
Какое-то время Валдис оставался неподвижным.
Потом, так и не поднимая головы, не оглядываясь, направился к двери и вышел. Когда дверь за ним закрылась, один из воспитателей сказал:
– Видали, каков типчик, а? – но, взглянув на Озолниека, осекся.
Валдиса Межулиса передали в отделение Киршкална.
Он не нарушал режима. Шел, куда посылали, делал, что велели, но воспитателю еще ни разу не довелось увидеть на его лице хотя бы тень улыбки.
Написал матери Межулиса, – ответа пока не было.
Разговаривал о Валдисе с ребятами, и в особенности с председателем совета отделения Калейсом. Мнение у всех было одно и совпадало с характеристикой, которую дал Межулису Трудынь: неразговорчивый, угрюмый, непонятный.
Но думать об одном лишь Межулисе у Киршкална нет ни времени, ни права. Другие тоже требуют ничуть не меньше внимания.
Киршкалн идет в рабочую зону, смотрит, как ребята трудятся в производственных мастерских, беседует с мастерами. Кто-то план не выполняет, кто-то просится на другую работу, кому-то кажется, что мастер применил не ту расценку. Потом Киршкалн возвращается в свой кабинет, к тетрадкам с наблюдениями над воспитанниками, к характеристикам, затем идет в санчасть поговорить с фельдшером. Один паренек мочится жио ночам, самому плохо, и товарищи дразнят. Может быть, попробовать на время его отделить, назначить лечение? До вечерней линейки надо просмотреть конкурсный журнал, замечания за день, переговорить с дежурным воспитателем.
Поздний вечер. Киршкалн ждет на остановке автобус. Позади над оградой колонии бусинами поблескивают фонари, белесые лучи прожекторов поддерживают нависшую тьму. Зрелище напоминает праздничную иллюминацию, но увы, .тут эта иллюминация далеко не для веселья.
Вот и еще один трудовой день позади. Через полчаса Киршкалн будет дома. Жена разогреет остывший ужин. Дети спят.
* * *
В комнате отделения полумрак. Слабая лампочка над дверью, заключенная под решетчатый колпак, тщетно пытается разогнать своим желтоватым светом тени в дальних углах помещения.
После сигнала "отбой" разгуливать по отделению запрещено, но запрет этот почти не соблюдается. Всегда есть охотники почесать язык, послушать всякие небылицы и приключения. Наиболее популярны тут две темы: совершенное преступление, которое комментируют все слушатели, и "любовные похождения". Сейчас обсуждается вторая тема. Воспитанник, осужденный, как здесь принято говорить, "за девчонок", – следовательно, знаток в этом вопросе, с характерным для подростков цинизмом излагает свое "дело" со всеми подробностями и широчайшими обобщениями.
Валдис Межулис не спит, но к разговору не прислушивается. Отделные слова и фразы, вопреки его воле, достигают сознания, на некоторое время в нем оседают, но скоро улетучиваются. Какое ему до всего этого дело? Валдис натягивает одеяло на голову, потому что трепач мешает думать. Однако похабщина, которую тот несет, назойливо лезет и сквозь одеяло.
Валдис не желает ее слышать, осмысливать, но не в его силах от нее уйти, как не может он убежать из этого помещения, из этого невыносимо тесного мирка, в который его бросили. Хоть бы настала наконец тишина! Целый день Валдис ждет часа, когда он сможет остаться наедине с самим собой. Но и это уединение лишь отчасти. Отовсюду слышны сопение и храп, чьето бормотание во сне. Но на лучшее рассчитывать не приходится.
В коридоре слышны шаги, и, когда открывается дверь, говорящий замолкает.
– По койкам, и чтоб тихо! – властно гаркает контролер. – Ишь, конференцию устроили, а завтра на уроках опять спать будете! А ну живо!
Дробная россыпь босых пяток по полу, жалобные вскрипы коек, и воцаряется тишина. Минутку постояв, надзиратель выходит. Кое-где еще возникают очажки шепота, но прерванная дискуссия уже не возобновляется с прежним пылом.
– Ладно, завтра дорасскажешь, – говорит кто-то. – Колонист спит, срок идет.
– Ну и здорово он дает! – шепчет лежащий рядом с Валдисом парнишка своему соседу с другой стороны. – Аж башка кружится, как послушаешь. Вот бы сейчас чувиху сюда! Как ты думаешь, что бы было?
– Что было бы? – переспрашивает второй, солидно молчит и потом авторитетно заявляет: – Да от нее бы остались одни клипсы да шпильки!
– Брось трепаться! – прикрикивает кто-то поопытвей из второго ряда кроватей. – Показать тебе голую девку, ты бы с перепугу через забор и к маме.
– А ты, что ли, много их видал, да?
– Через окошко в бане! – подтрунивает другой, и ребята прыскают со смеху.
– Кончили! – начальственно и твердо объявляет председатель совета отделения Калейс. – Хочешь не хочешь, но сейчас все равно ведь не сможешь! Всем заткнуться. Нечего надзирателя злить попусту.
Шепот прекращается, и вот уже со всех сторон слышно ровное посапывание спящих. Наконец-то!
Валдис отбрасывает одеяло, скрещивает руки под головой и, полузакрыв глаза, глядит в желтоватый сумрак.
За что? За что он должен по гудку укладываться на эту койку, по гудку вставать, за что посадили его за решетку вместе с ворами и бандитами? Неужели за то, что он прикончил одного такого же мерзавца?
Человек? Тот гад, что пристал к ним с Расмой, был человек. Тот – был, а он, Валдис, – нет. Неужели нету никого, кто все понял бы, кто сказал бы: "Ты поступил правильно, тебя осудили по ошибке"? Он говорил, давал показания, десятки раз подробно отвечал на вопрос "Расскажи, как это произошло!", "Почему ты это сделал?".
Поначалу казалось, ничего во всей этой истории неясного нет, но, по мере того как приходилось ее повторять, рассказ его делался все короче. А в колонии пошло все сначала: "Рассказывай, как было, говори!" Нет уж, хватит с них того, что написано в приговоре. А что в нем, собственно говоря, написано?
Да ничего! Ведь невозможно ни описать, ни даже вообразить, что переживает человек, когда он борется с течением и чувствует, что теряет последние силы.
Те, кто стоят на берегу, могут порассказать много. Могут точно сообщить, сколько раз он уходил под воду, сколько раз выныривал. И вообще – почему этот псих не поплыл чуть левее, туда, где начиналась отмель?
Кто-то скажет, что в подобных случаях рекомендуется лечь на спину и для экономии сил плыть по течению.
В любом случае дурак, который в реке, вопреки здравому смыслу, делал все, чего делать нe следовало и чего они, наблюдатели, в аналогичной ситуации никогда бы не сделали. Когда стоишь на берегу, все ясно и понятно. Соображения и выводы стоящего на берегу п есть источник фактов, на которых потом строили приговор; они стали материалом, который именуется "существом дела". Утопающий, если ему довелось спастись, ничего толком рассказать не в состоянии, хотя он в то время пережил и испытал неизмеримо больше, нежели умники, стоявшие в безопасности на суше. Настоящее же "существо дела" было в его до предела напряженных мышцах, в клетках его мозга.
Но это "существо" – личное достояние утопавшего, и другим оно ни к чему. Его не увидеть, не потрогать, не оценить и не подшить к делу.
"Почему совершили преступление?"
Можно было ответить: "Не знаю". Многие так делали. Хоть и лишенный смысла, тем не менее ответ.
А иной и в самом деле не знал, он так и не разобрался, что совершил и почему. А Валдис знал. Другой ходячий вариант: "Сдуру". Он тоже ничего не раскрывал, однако предполагалось, что в ответе содержится известное отношение обвиняемого к своему поступку, оценка его. Валдис же поступил обдуманно. Третий шаблон: "Дружки совратили". Рыбак рыбака видит издалека. Если ты сам хороший, отчего же плохого друга не подбил на хорошее дело, почему вышло наоборот? Валдис не мог свалить на друзей, он был один.
И наиболее распространенное: "Не помню, пьяный был". Но Валдис не был пьян и помнит все. Оттого, может, и было так тяжко. Все эти нехитрые премудрости Валдису были известны. Следственный изолятор – хорошая школа. Настоящая мельница. Кто через него прошел, тот уже не первоклашка. Но произносить эти глупости не поворачивался язык, выразить словами, что заставило его руку схватить топор, – было невозможно. "Я не считаю это преступлением", – сказал он тогда, и его точка зрения не изменилась по сей день. "Как! Убить человека – не преступление?!"
У следователя глаза полезли на лоб. "По-другому я не мог, я должен был это сделать". Но ему силились доказать, что он мог по-другому и в его поступке не было ни малейшей необходимости. Кое-кто было заикался: "Да, отчасти вас можно понять, но..." – и дальше ему доказывали, что он ни черта не смыслит.
Воспитатель Киршкалн такой же. Он даже несколько раз пытался стать с ним на дружескую ногу.
Но Валдис больше не верит друзьям, никому не верит. Единственно Расме и матери. Впрочем, можно ли им верить, если столько времени с ними не виделся?
Как знать, что сейчас думает Расма? Быть может, теперь и она скажет: "Да, отчасти тебя можно понять, но..." А мама? Мама – идеал. Она не меняется никогда – наверно, таков закон жизни. Но ему мало того, что он верит матери и мать верит ему. Надо, чтобы поняли и другие, чтобы он мог быть человеком, как все. А какие же они, люди? До чего он был раньше наивен!
Валдису неохота вспоминать про давешнюю дискуссию, которую он слышал вопреки своему желанию, но мысль своенравна, она сама выбирает момент, когда ей возникнуть или уйти. Разве насильник, передающий свой гнусный опыт другим, – если взглянуть на него со стороны, – чем-нибудь разнится от остальных людей? Он хорошо играет в волейбол; после ужина он писал письмо матери и сестренке, потом читал "Хождение по мукам". Возник спор с другим воспитанником, и он доказал, что были два Толстых, а не один, как полагал его товарищ. Первый был бородатый граф, а другой Толстой жил поздней и писал интересней. "Не люблю я те времена, когда пушки заряжали через дуло. Тогда все были чересчур благородные или слишком глупые", – сказал он. А когда разговор у них перекинулся на еду, оказалось, что насильник тоже любит жареную картошку – с хрустящей корочкой, и если к ней еще сметану и сардельки – язык можно проглотить. Они с сестренкой сами жарят такую картошку, потому что у матери не хватает терпения обжаривать кружочки равномерно а сбеих сторон, она всегда спешит, чтобы было поскорей готово. В колонии о такой картошечке нечего даже мечтать, но когда он вернется домой, то нажарит сразу две сковородки. "А когда женюсь, заставлю жену жарить так же". Видите, он даже собирается жениться, как ни в чем не бывало. Отсидит срок, женится.
Вдвоем с женой они будут жарить хрустящую картошку и, нажравшись, преспокойно укладываться в постель. С женой перед сном он, правда, не станет откровенничать так, как разоткровенничался сегодня, и если когда-нибудь она спросит, он ей на это скажет, что ничего такого не помнит, мол, все это случилось давно и нечего ворошить старое. А те девочки, над страданиями которых недавно глумился любитель поджаристой картошки, столь же спокойно выйдут замуж и обо всем позабудут? И не узнай Валдис об этом парне того, что довелось узнать, никакой особой неприязни у него бы не возникло. Малый, "каких много.
Кому расскажешь, что тебе невыносимо тяжело, одиноко, что терпению скоро настанет конец? Валдис еебя еще обманывает надеждой на то, что все происходящее с ним – недоразумение, которое скоро – может, даже завтра или послезавтра – разрешится.
Он еще в состоянии отключаться, отстранять от себя эту невыносимую среду, но всему есть предел. Валдис это чувствует, но ему страшно подумать о том, что будет за этим пределом.
Исчезает свет желтых лампочек, стихает дыхание спящих, возникает солнечная поляна, по ней идет Расма, и жесткий черничник шелестит о ее ноги. Она нагибается, собирает темно-синие ягоды, оглядывается и машет рукой.
Николай Зумент тоже еще не спит у себя – в помещении карантина. Старший лейтенант Киршкалн оказался стреляным воробьем, хотя, в общем, и нет никакой надобности придавать этому значение. Умнее милиционера, но все равно ведь дурак. Человек с мозгами в колонию работать не пойдет и не будет читать мораль, в которую так и так никто не верит. Все силы отдавать на благо народа и общества, честно трудиться и так далее, а что делаете вы: став на темный путъ преступлений? Смехота. Впрочем, такой муры он не городил, но все они гнут в одну сторону. Знает Чиекуркалн и какую-то Монику. Все время лезет в башку эта Моника. Никак не вспомнить, знаком он с ней или нет. Да мало ли в Риге девчонок... Своих Зумент знает больше по кличкам, имени и фамилии не знает вовсе. Кто же эта загадочная Моника? То, что она порядочно наплела воспитателю, – факт. Но что именно? Впрочем, и это не так уж важно, – Киршкалн не следователь и отдавать его по второму разу под суд не намерен. Что заработал, то получил, и, надо прямо сказать, могли приварить еще пару годочков.
Однако придется держать ухо востро.
Главное – собрать втихаря своих и завести такой порядок, чтобы срок, который Зументу придется отбыть в этом "детсадике", прошел приятно и незаметно. Через год его отправят к взрослым, колония для несовершеннолетних – всего-навсего промежуточный перегон. Бурундук уже здесь и, наверно, все подготовил; кроме него, есть еще трое своих. Таких, что на воле дрожали при упоминании одного имени Зумента, тоже наберется несколько человек. А уж знать о нем – знают, конечно, все, разве что какой из деревенских губошлепов не слышал о Жуке. Этим быстро разъяснят, с кем они имеют дело. Есть тут, конечно, разные советы и комиссии, всякие активисты, Жук об этом прекрасно осведомлен, но он не намерен сводить счеты с легашами. Напротив, он противопоставит им свой актив, и тем некуда будет податься.
Для начала надо стать вожаком отделения, а затем и всей колонии. Зумент ни на минуту не сомневался, что все так и будет. Он жаждет поскорей развернуться, – сколько можно изнывать без дела в карантине?
Он приехал сюда не как новичок, "сырок" там какойнибудь, а как король и атаман. То, что все это сразу поймут и беспрекословно станут повиноваться приказам Жука, – само собой разумеется. А воспитатель Киршкалн? Ясное дело, перед воспитателем он будет разыгрывать из себя овечку, действуют пусть подчиненные. А если что – Жук враз поставит всю эту шарашку на попа, и тогда воспитатели сами прибегут к нему за помощью. Где им сладить без Жука... Вот тогда он еще подумает, что ему делать. Не худо бы вывести ребят за ограду, пусть побалуются. Потом разделиться на банды и кочевать по республике, а может, и подальше. Верховодить, конечно, будет он.
Повсюду они нагонят панику и страх, но Жуковы ребята дело знают туго. Мусора [Милиционеры] популяют, популяют из своих шпаеров – и в кусты. У Жука оружия хватит.
Они возьмутся за банки и ювелирные магазины. Золото и бриллианты! И когда всего будет дополна, махнут через границу и заживут там, как настоящие миллионеры. У него будет роскошный дворец – Жук видел подходящий в каком-то заграничном фильме, – гараж с автомобилями, и в подвале небольшой бар с самыми лучшими напитками. Виски и ром, коньяки и шампанское польются там рекой. И женщины. Пума была ничего себе, но что она по сравнению с кинозвездами и королевами красоты?
Бледная синева весенней ночи струится через зарешеченное окно карантина. Рядом спят остальные ребята из его этапа. Он уже просветил их. Хоть бы поскорей закончилось это никчемное прозябанье!