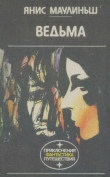Текст книги "Последний барьер"
Автор книги: Андрей Дрипе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
– Кроме того, словам Зумента нельзя верить, он типичный отрицательный воспитанник,
– Из чего это следует? В его деле нет ни одного письменного замечания за время пребывания в колонии, отметки за успеваемость вполне сносные, рабочие задания выполняются.
– Маскируется, – спокойно говорит Озолниек.
Это хладнокровие и невозмутимость для него очень типичны, когда атмосфера накаляется. Очень трудно выдержать самодовольный тон сидящего напротив человека, который появляется в колонии несколько раз в году, но считает себя вправе поучать и указывать.
Но именно с такими людьми и рекомендуется по возможности не спорить.
– Зумент прикидывается смирным, а в действительности он инициатор нескольких безобразий, – добавляет Озолниек.
– Каких безобразий?
– Пока что об этом говорить рано.
– Так и не говорите! Выясните, отразите это в деле воспитанника. Вы управляете колонией, а не я, так что за недостаток оперативности в работе можете винить самого себя. Не исключено, что Зумент врет, но возможно, говорит правду. Что дает вам повод отрицать, если вы ничего не знаете о случившемся?
Озолниеку хочется взреветь медведем, но маленький человек с большим портфелем не из тех, кого испугаешь криком, совсем наоборот. И он не сказал ничего неправильного. Его аргументы убедительны и логичны, хотя и далеки от истины, как нередко бывает, когда формальная истина сталкивается с реальной жизнью.
– Хорошо, я выясню. – Озолниек делает erne ntny безуспешную попытку посмотреть в глаза прокурору и отворачивается. – Тем не менее Каяейса и еще коекого из этой десятки мы освободим здесь. Я полагаю, что этот закон только мешает в нашей работе.
– Ваши соображения в данном случае абсолютно не имеют значения.
– А чьи же соображения тогда имеют значение?
Ведь колонией, как вы заметили, управляю я. Стало быть, мне и знать лучше других, что мне в помощь, а что – во вред.
– Не забывайте, что это отнюдь не ваша собственная колония, а государственное учреждение, в управлении которым вам дозволено действовать только в рамках закона, а не как заблагорассудится.
Опять верное утверждение. Настолько верное и точное, что аж мутит от него.
– А вам кажется, что в законе возможно предусмотреть все, что законы вечны? На Украине уже сейчас есть колонии для бывших активистов. Готовится новый закон, который позволит содержать ребят в колонии до двадцати лет. Когда этот закон будет принят, что вы скажете тогда? [В настоящее время такой закон уже принят.]
Озолниек усмехается. На лице прокурора не дрогнет ни один мускул.
– Когда будет принят новый закон, мы с вами будем исполнять этот новый закон, в настоящее время действует старый, и мы обязаны выполнять его. Тут йет ничего непонятного. Жаль, что я вынужден вам говорить об этом. А о выявленных недостатках я доложу вышестоящим инстанциям.
– В этом нисколько не сомневаюсь, – столь же бесстрастно отвечает Озолниек. – Желаю успеха!
XII
Киршкалново отделение работает за помещением санчасти. Это обширное пространство, на котором еще нет ни озеленения, ни дорожек. Это последнее неосвоенное пятно на карте колонии. Сюда привезли глыбы ноздреватого песчаника и мелкого щебня. Роздали ребятам грабли и лопаты, Киршкалн тоже с лопатой в руках среди воспитанников, и как всегда с ним рядом топчется Трудынь.
– Ну, теперь ты – малый с солидным образованием, – шутливо говорит Киршкалн. – Когда домой придешь, чем думаешь заняться?
– Понятия не имею. Нет этой цели жизненной, которая как компас у корабля. – Трудынь тут же опирается на лопату и начинает философствовать: – Если подумать, я ведь жил совсем неплохо. Разве моя вина, что наше государство не производит жевательной резинки, а спрос на нее большой? Хотелось помочь обществу, ну, конечно, самому тоже кое-что перепадало. Как говорится, имела место материальная заинтересованность. А потом жвачка, она ведь полезная, укрепляет десны, развивает челюсти, сами знаете.
И еще заграничные галстуки, белье, нейлон. Люди с удовольствием покупают, а иностранцам охота продать. Ведь должен же кто-то взять на себя роль посредника. Потом девчонкам часто делал подарки.
Люблю делать другим приятное. Деньги не самое главное в жизни, но и без них тоже трудно. Пускай платит тот, у кого бумажник толще! А что получается?
Теперь я сижу тут. "Лайф из нот э бед оф роузиз" ["Жизнь – не ложе из роз" (англ.)], – говорят англичане.
– Работай, Трудынь, работай! – напоминает болтуну Киршкалн и дергает за черенок его лопаты. – Говорить можно и за делом. Видишь ли, все прелести, о которых ты тут вел речь, в повседневной жизни именуются довольно некрасиво – спекуляция.
– Ну, хорошо, допустим. – Трудынь всегда готов пойти на небольшие уступки. – Вы думаете, я никогда не занимался более серьезным делом? Одно время я сколачивал щиты на деревообделочной фабрике. Один щит – двадцать копеек. За день можно было выколотить шесть рублей. Вкалывал, в поте лица. Но если шевельнуть мозгами, то эти шесть рублей можно заработать за пятнадцать минут. По вечерам, когда магазины закрыты, продавать хорошим мужикам водку по пятерке за пол-литра. Три бутылки – вот тебе и шесть рублей. Так что видите, как обстоит дело с работой.
Знаю, вы сейчас скажете, что самому приятней, когда деньги заработаны честно; но что поделать, хромает у меня сознательность. Как-то все нет ее и нет. Компаса не хватает.
– И ты, значит, дожидаешься, что кто-то тебе вложит в руку этот компас? А если так и не вложат?
Так Хенрик Трудынь, человек со средним образованием, и будет стоять на углу и торговать из-под полы водкой. Не очень это привлекательно выглядит. А потом женишься, жену спросят, что муж поделывает, а она скажет... Боюсь, не скажет она правду, постарается что-нибудь выдумать.
– Ну, до этого еще далеко! – Трудынь копает в одном месте, не глядя на протянутый шнурок. – Какие там жены из нынешних девчонок! По вечерам шляются гурьбой, шпану разглядывают да глаза щурят. Старики кормят, у стариков живут, а если что и заработают, все на юбки, на туфельки промотают.
– Не копай за шнурком! Мы тут не будем делать такую широкую дорогу, напоминает Киршкалн. – Стало быть, в отношении девушек ты настроен довольно критически. Ну, а о вас они разве могут быть лучшего мнения? По мужу и жена, и наоборот. На мой взгляд, очень даже справедливо.
– Ребята все-таки имеют больше серьезности.
Когда надо, работали как черти, я вам уже рассказывал. И работали, и комсомольцами были. Вот тот лобастый, Босс, он вкалывал на железобетонном полигоне, иногда, бывало, и по ночам втыкали, две смены подряд. Вся бригада была заодно. Потом вместе на пробках всплыли, три дня пили напропалую.
– Это тоже от серьезности? А что же Босс делал потом?
– Я его еще в тгоряге увидел, в окно корпуса напротив моего. Гляжу Босс! Рукой помахал – чао!
Свои ребята. Хорошо, что скоро завалился – обошлось все пустяками. Два года сунули. Задумал гаражи навещать и приторговывать автопокрышками. Покрышки теперь в цене. Один такой резиновый бублик уйму денег стоит, а Босс отдавал за полцены.
– Выходит, все порядочные ребята встречаются за решеткой. Недурной финал. А как, по-твоему, те, кто странным образом остаются по ту сторону ограды, ничем серьезным не занимаются? Или они не порядочные ребята?
– Ну, как вам сказать? Наверно, они и "сть те самые, у кого и компас и цель. Но ведь жизнь у них довольно серая. Как по тихому пруду плывут на малых оборотах.
– Но ты ведь этих малых оборотов не попробовал, поэтому судить тебе рановато, зато на больших оборотах дело обернулось здорово невесело. Незаконно заработать, быстро промотать, ничего не получить и ничего не делать – вот и все твои большие обороты.
И до каких пор так можно? Мать состарится, не сможет больше шить "налево". И в один прекрасный день Трудынь спохватится, что время ушло, обороты опостылели, и поймет он, что были они не большие, а самые малые. Спохватится, встанет на углу, но водкой торговать уже не захочется. И девчонки снуют мимо и даже не подмигивают.
– Ну, такой лажи не будет. Я ведь тоже кое-что смыслю. Когда выйду, попробую в актеры или в режиссеры. Я одно время ходил в техникум культработников, кое-что в режиссуре понимаю.
– Какая профессия была у твоего отца?
– Говорят, слесарем был. Через год после моего рождения он умер. Знаете, ведь мой отец был защитник Лиепаи, а потом в партизанах воевал. Всю войну прошел – ничего, а в мирное время застудился и умер.
По-всякому бывает. Сперва мать пожила одна, а там – с моим первым отчимом костяшками стукнулась. Потом и со вторым.
Трудынь смолкает и опять опирается на лопату.
– Режиссером, актером – все это хорошо, но тут, в колонии, ты овладел профессией своего отца. – Теперь Киршкалн оперся на лопату и задумчиво глядит на своего воспитанника. – Подумай насчет этого.
И о своем отце тоже.
* * *
Зумент с Рунгисом стоят на краю дорожки у газетной витрины и делают вид, будто внимательно читают.
– Завтра будешь за загородкой, да? – с трудом говорит Зумент.
– Да, – Рунгис улыбается широко и счастливо.
– Мало получил, скоро тебя раскололи, – угрюмо бурчит Зумент. – Насчет Кастрюли еще спрашивают?
– Спрашивают иногда, но я ни слова.
– То-то, гляди под конец не заложи!
– Что ты! – с важным видом раздувает щеки Рунгис. – Из меня слова не вымотают. Не на такого нарвались.
– Ладно, заткнись! А теперь слушай в два уха!
Епитиса знаешь?
– Знаю, – угодливо кивает Рунгис.
– Ну вот, как в Ригу приедешь, найди и скажи, что Жук приказал быть на "Победе" у колонии в том месте, где дорога сворачивает в лес. Чтоб стоял и ждал.
И передай эту записку!
Зумент достает кусочек картона. На нем нарисована буква Ж, перекрещенная красным кинжалом. На обороте ряды цифр.
– Верхние цифры – это время, – поясняет Зумент. – С десяти вечера до пяти утра. Столько он должен там простоять. Три нижние цифры – числа. Если в первый день не буду, пусть приезжает на другой!
И в машине чтобы было что выпить и закусить. И денег пусть захватит пару сот, и одежду – на меня чтоб годилась. Понял?
Рунгис опять кивает, насупясь от серьезности.
– Первые цифры – время, вторые – дни. И машину загнать в лес, чтобы с дороги заметно не было.
Мой сигнал – три коротких свистка. Он должен ответить так же. И пару канистр бензину в запас. Понял?
– Понял!
– Там, где дорога сворачивает в лес.
– Ага.
– Что сказал – про это только мы двое знаем.
Трепанешь или не выполнишь – хана тебе.
Рунгис кивает.
– Записку схорони, чтоб ни один черт не нашел.
– В брюки зашью.
Некоторое время они стоят молча. Зумент пытливо смотрит на Рунгиса, затем придвигается к нему вплотную и цедит сквозь зубы:
– Не приласкать ли тебя сегодня ночью на прощанье, чтоб лучше запомнил? Почку отшибить, а?
А то, может, обе?
Рунгис в страхе таращит глаза, но лицу у него расползается хилая, жалкая улыбочка.
– Не надо, Жук! Не подведу, ей-богу. Все сделаю, как часы. – Рунгис шлепает себя в грудь и произносит клятвоподобное ругательство.
– Ладно, увидим! – Зумент мечет исподлобья злой взгляд, засовывает руки в карманы и вразвалку отходит.
* * *
Киршкалн провожает Рунгиса на вокзал. В кармане у бывшего воспитанника деньги на дорогу и новенький паспорт. Одет он в куцый потрепанный пиджачишко, тот самый, в котором прибыл сюда, и на голове берет – в основном для того, чтобы не было видно остриженную голову.
– Зачем меня провожать, что, я до вокзала не доеду? – говорит Рунгис.
Киршкалн смотрит воспитаннику в глаза. Они у парня непрерывно бегают, вбирают впечатления, и в то же самое время он хочет скрыть волнение, дескать, эти первые шаги на свободе для него ровным счетом ничего не значат. Будь на то воля Киршкална, он еще повременил бы давать Рунгису паспорт и подержал бы в колонии. Рунгис не из тех, кто взялся за ум и переменил взгляд на вещи, на свои поступки. В голове у него полный ералаш, никакой определенной цели.
Шдал, что встретит сестра, но та не приехала. Мать у них заболела, видимо требует ухода.
В автобусе Рунгис молчит и безотрывно смотрит в окно.
– Где собираешься работать?
– Грузчиком, там же, где и раньше. Меня возьмут, – говорит он с уверенностью.
– А школа?
– Да ну ее, – тянет Рунгис. – Это все только говорят: школа, школа, а какой от нее толк? Я грузчиком больше зарабатываю, чем те, кто школу кончал.
– Так на всю жизнь и думаешь в грузчиках остаться?
– Не знаю. Но в школу не пойду, чтоб она провалилась! Нервы у меня совсем плохие. И как я только мог тут выдержать! Бывало, аж все позеленеет перед глазами.
Поглядев в сторону, помолчав, он заговаривает снова:
– Ждал я свою сеструху, ждал. – И потом, повернувшись к воспитателю, вскинув на него быстрый взгляд, как бы поясняя, почему ждал, добавляет: Мы с ней двойняшки.
– Вот видишь: сестра все-таки окончила восемь классов.
– А чего девчонке еще делать? И потом, разве она от этого умнее? Рунгис безнадежно машет рукой. – Старшая сестра моя десять классов отходила, а все одно померла. В Югле утонула. А я сел. Это был плохой год.
– Значит, тебе теперь быть главной опорой в семье.
Задумывался ли ты об этом всерьез?
– Там посмотрим, – степенно и уклончиво говорит Рунгис. – О себе о самом тоже надо подумать.
Пока отец был жив, до тех пор еще был порядок, а потом... – Он поджимает губы и крутит головой. – Мать только ругалась на меня, а что она могла мне сделать? Не стану же я женщину слушаться.
Это звучит подчеркнуто, дабы понятно было, что Рунгис и сам знает, что к чему.
Автобус останавливается на вокзальной площади.
Они выходят, и Киршкалн достает деньги на билет.
– А может, на прощанье нам с вами винца выпить? – несмело предлагает Рунгис.
– Ты насчет винца думай поменьше! – отклоняет предложение воспитатель. – Из-за винца ты и загремел сюда, а я тебя второй раз в колонии видеть не хочу.
– Нет так нет. Но без него все равно не обойтись.
И если по-честному, так я ведь сел ни за что. В парке старикан один спрашивает, не хочу ли я часы купить, а сам сильно под газом. Я говорю, мол, за трешку возьму. Он мою трешку взял, а часы не отдает. Ну, мы вдвоем дали ему в морду, а часы забрали. Вот Рунгис и сел. Разве правильно?
– Конечно, правильно. За трешницу ни один нормальный человек часы не продаст. Ты хотел воспользоваться глупостью пьянчужки и сам тоже был пьян.
А если он тебе не отдавал деньги, надо было позвать милиционера, а не лезть с кулаками.
– Милиционера? Вы чего – смеетесь? Из-за трех рублей никто милицию не зовет. Тут надо самим разбираться. Да и где она, милиция? Пока отыщешь, старик смоется. Нет, милиция мне ни к чему.
– Но, как видишь, Рунгис, на тебя ведь милиция нашлась. Кстати, ты сидел не только за это.
– Ну да, но через это все началось.
– С чего-нибудь всегда начинается, особенно если в голове винцо.
Рунгис молчит. Чего спорить, когда и так все ясно.
Вдали слышен низкий гудок дизель-электровоза.
– На прощанье, может, скажешь, кто тебе велел избить Мейкулиса?
– Никто не велел.
– Значит, до того тебя застращали, что даже на свободе и то врешь? А корчишь из себя самостоятельного.
– Чего мне врать... – глядит в сторону Рунгнс.
Подходит поезд. Воспитатель и воспитанник расстаются. Киршкалн советует Рунгису все-таки призадуматься над жизнью как следует, поскольку она сложнее, чем кажется.
Вагон трогается. Рунгис стоит в дверях и машет рукой. Итак, уезжает. Срок отбыл и возвращается в свой узкий мирок, к винцу и старым дружкам, к матери, которую в семье ни во что не ставят, возвращается в глубоком убеждении, что получил чуть ли не высшее образование. Пожелания и наставления Киршкална он уже позабыл, и нет в том ничего удивительного. Поучениями перевоспитать трудно, в особенности если времени так мало, а самомнения у паренька хоть отбавляй, несмотря на всю незрелость и скудность умственных способностей.
Старый Рунгис был, наверно, закоренелый деспот и такой же великий мыслитель, как и его отпрыск.
Все держалось на его кулаке и предрассудках. И как только отец умер, семья распалась. А не умер бы, так все равно было бы то же самое, только на несколько лет позже. В такой семье все друг другу чужие, каждый поступает по-своему и скрывает это от остальных, чтобы не услышать насмешку. Единственно, что привязывало Рунгиса к дому, это его сестра-близнец.
Киршкалн помнит эту девушку, – невысокого роста, невзрачная и тихая, она приезжала к брату на свидание, привозила в узелке передачу. Но и сестра в глазах Рунгиса тоже не более чем "девчонка", нечто второсортное. Отца он не любил, но взгляды его усвоил, чем и гордился.
* * *
Двадцать пятый курильщик записан за четыре дня до истечения срока уговора. Предсказание Озолниека сбылось, и колонисты "сами" запретили курение в колонии.
В кабинете начальника опять собирается на совещание Большой совет. Ребята приуныли, нервничают, но факт есть факт. О записанных нарушителях дежурный воспитатель каждый вечер сообщал на линейке, и никакой подтасовки тут нет. Председатель Большого совета самолично перелистал конкурсный журнал и убедился, что уговор нарушили ровно двадцать пять человек – ни больше ни меньше.
Незадолго до начала заседания Озолниека встречает руководитель физподготовки, молодой, спортивного вида парень, в тренировочных брюках.
– У меня к вам просьба, товарищ начальник. На совещании ребята тоже поведут об этом разговор, и потому мне хотелось бы заранее высказать свои соображения.
Кое-что Озолниек уже слышал и знает, о чем пойдет речь.
– Это насчет игры с юношеской сборной города?
– Да. Очень было бы желательно.
– Но выводить колонистов за пределы зоны по такому поводу не предусмотрено. Пусть они играют у нас.
– Вообще-то вы могли бы под свою ответственность. Городские у нас играть не станут. Понимаете, размеры нашего поля не соответствуют правилам, и потом, они боятся, что им будет не по себе в наших условиях. Короче, сюда идти не хотят, а на стадионесогласны.
– А у наших ребят какие перспективы?
– Хорошие. Можем у них выиграть. В особенности сейчас. Ребята в форме.
– Подумаем. Но тогда надо и болельщиков с собой прихватить хоть немного, иначе нашим будет совсеи тоскливо, когда городских будут подбадривать тысячи глоток.
– Конечно! Я и сам думал, но боялся заикнуться.
И еще знаете что... хочется показать товарищам, что и я тут кое-каких результатов добился. А то они все ухмыляются, дескать, в колонии одна видимость, а не работа. Ковыряемся тут за оградой, как кроты в норе.
Физкультурник уходит, и Озолниек направляется в кабинет. Не впервой приходится слышать о подобном отношении к работе в колонии.
Каждому охота расти, видеть плоды своего труда, показать его другим, но сделать это в условиях колонии трудновато. И начальнику понятна досада физрука. Другие команды разъезжают по соревнованиям, имена тренеров появляются на страницах газет, есть возможность выдвинуться, а он здесь в полной безвестности, вроде бы ничего и не делает, хотя зачастую вкладывает в свою работу больше труда, нежели ктонибудь в другом месте. Нынешний физкультурник парень славный, и не хотелось бы его потерять.
В кабинете начальника встречает растерянное перешептывание.
– Итак, друзья, месяц прошел. С завтрашнего дня курение прекращаем, радостно сообщает для начала бзолниек. – Вот и будет у вас одной бедой меньше.
– Вообще-то радоваться нечему, – говорит председатель. – Сами себя подвели. Вы на это и рассчитывали.
– Вот как? – притворно удивляется Озолниек. – Все было в ваших руках. Курили бы в отведенных местах, все осталось бы по-прежнему.
– Так не нас же записали, а за всеми разве углядишь.
– Неправда. Среди записанных есть и три члена совета.
Виновные опускают головы, и в их затылки впиваются осуждающие взгляды.
– Да хотя бы и так, но получилось некрасиво.
– Вы можете нас в чем-нибудь упрекнуть? – спрашивает Озолниек. – С нашей стороны допущена какая-нибудь несправедливость?
Наступает тягостное молчание.
– Несправедливости нет. Обе стороны вели игру по-честному. На этот раз победу одержали мы, а если быть точным, то – все, потому что проигрыш пойдет вам только на пользу. И, чтобы не было обидно, могу доложить, что я сам курить тоже не буду, так же как и воспитатели. Раз вы, то и мы. Чистый воздух и здоровые легкие!
Ребята недоверчиво переглядываются.
– Так прямо возьмете и бросите? Небось тоже будете потягивать втихаря. Вам хорошо – заперлись в кабинете и сигарету в зубы!
– Хорошо, заключим новое соглашение. Пишите в протокол! – обращается Озолниек к секретарю. – Воспитанник, заметивший начальника курящим, получает полкилограмма конфет за счет личных средств начальника.
– Разоритесь! – Атмосфера разряжается. – На хлебушек денег не хватит.
– А какие конфеты? Леденцы, да?
– Как так леденцы! Настоящие шоколадные конфеты! – Озолниек олицетворение серьезности.
– А как остальные воспитатели?
– Насчет остальных не знаю. Договаривайтесь сами! Что же касается меня, тут ясно. Запротоколировали?
– Печатными буквами, – отзывается секретарь.
– Так, – продолжает Озолниек. – Стало быть, с завтрашнего дня наступает новый период в истории колонии. Я понимаю, будет нелегко, но – что решено, то решено. Не курить так не курить! И от вас я ожидаю максимальной поддержки. Если через какую-нибудь щель в зоне будет проникать курево, то вы должны разоблачать и тех, кто приносит, и тех, кто берет. За курение тайком буду взыскивать по всей строгости.
А вы меня, надо полагать, знаете. Итак, с первым вопросом покончено. Затем могу сообщить, что мы исполнили вашу просьбу насчет духового оркестра.
Деньги на инструменты уже перечислены. Достать было нелегко, но тем не менее удалось. Можно приступать к подбору музыкантов по всем отделениям. Возможно даже, придется устроить конкурс, желающих будет много. Вопросы или другие предложения есть?
Встает председатель комиссии по спорту.
– Мы хотим просить вашего разрешения на игру с городскими ребятами. Не здесь, а за зоной, – говорит он, и наступает тишина. Все ждут.
– Когда должна состояться игра?
– Недели через две.
– В целом поддерживаю. Но вы понимаете, какая ответственность ложится на вас и на меня? За пределами зоны не должно произойти ни малейшего нарушения. Я еще посоветуюсь с воспитателями, с начальником режима. Само собой, на игру смогут пойти только лучшие. Поймите меня правильно – не лучшие футболисты, а вообще лучшие. Как видите, все зависит от вас.
После заседания совета воспитанников начинается другое совещание. На нем Озолниек говорит с воспитателями и мастерами. То, что курение запрещается колонистам, особых дебатов не вызывает, хотя многие понимает, что эта затея чревата большими неприятностями. Но как только оказываются задетыми интересы самих работников, сразу поднимается буря протестов, в особенности со стороны мастеров-производственников.
– Еще чего не хватало! Здесь что – монастырь или бензохранилище, что курить больше нельзя?
– Нет такого законного основания требовать, чтобы мы не "курили. И без того работа наша поганая, а тут вон чего выдумали!
– Вы, может, поставите нас на одну доску с преступниками?
Озолниек слушает, ждет, пока шум немного утихнет.
– Я тоже заядлый курильщик, но думаю, что смогу воздержаться, – говорит он. – Здесь больше чем бензохранилище. В настоящее время в наших общих интересах покончить с курением.
– Ваши поступки – дело ваше личное. Нельзя их другим навязывать. Я тогда вообще подам заявление об уходе! – возмущается один из мастеров-производственников.
Борьба идет трудная. Озолниек доказывает, убеждает, разъясняет. Сказать бы ему сейчас: "Извольте, можете подавать заявление!" Но нельзя. Работников не хватает, и найти замену – дело непростое. Мастера любят при случае подчеркнуть, что на любом заводе они зарабатывали бы больше, и то, что они здесь, – чистая благотворительность с их стороны.
Под конец договариваются, что мастера будут курить только в отведенном для этого помещении и так, чтобы не видели воспитанники, а воспитатели за пределами зоны, у кого не хватит духу бросить совсем.
Собрание окончено. Большинство участников решением недовольно.
Озолннек знает, что до окончательной победы пока еще далеко. Еще будут покуривать, невзирая ни на какие приказы и решения, но начало положено, и результаты не замедлят сказаться. Надо только не ослаблять требования, контролировать, напоминать.
Они остаются втроем: Озолниек, начальник режима и следователь колонии и долго обмозговывают, как пресечь все возможности проникновения сигарет; за кем из сотрудников надо приглядывать повнимательней, как вести контроль.
Кадры, где взять кадры? Непривлекателен труд в колонии, мало кто хочет здесь работать.
И, немного посетовав, они возвращаются с небес на землю. Надо приложить все силы и обойтись тем, что есть.
XIII
Ночью Зумент ползет к своему тайнику. Близится побег, пора проверить наконец, на месте ли спрятанные деньги. До этого он два часа лежал и наблюдал.
Похоже, все заснули, и он решился пойти на риск.
Бамбан и Цукер, которых выпустили из дисциплинарного изолятора, ничего определенного так и пе сказали, – денег как будто бы не нашли, во всякой случае следователь никаких намеков не делал.
Вот койка Калейса. Сопит точно лесоруб. С каким удовольствием Зумент укокошил бы этого командира, но пока надо воздержаться. Припав грудью к полу, он заползает под кровать, протягивает руку, и в этот миг его бросает в холодную дрожь – кажется, будто рука ткнулась в щетинистую щеку. Подавив испуг, Зумент отводит плинтус, нащупывает углубление и чувствует под пальцами холодную жесть банки. Он осторожно берет ее и открывает крышку. Баночка пуста.
Суть происшедшего доходит до него не сразу; сперва он испытывает только ужасающее разочарование и больше ничего. Он лежит с банкой в руке. Затем быстро еще раз ощупывает все углубление. Ни черта!
Деньги исчезли!.. Чудовищная злость и вместе с тем чувство полного бессилия охватывают его, и к глазам подступают слезы. Оставив баночку там же, под койкой, Зумент вылезает из-под кровати и, теперь уже безо всяких предосторожностей, возвращается на свое место. "Нашли, падлы!" – шепчет он и, схватив простыню, отбрасывает ее.
На простыне почему-то остаются темные пятна; на подушке, за которую он только что брался рукой, – тоже. Зумент подносит растопыренные пальцы к глазам. Руки в чем-то перепачканы. Он пытается стереть странные пятна, но чем дальше, тем темнее они становятся. Сунув ноги в ботинки, Зумент открывает дверь, высовывает голову в коридор и, никого не обнаружив, идет в туалетную комнату.
Из крана ударяет струя воды. Зумент почем зря трет руки, скребет их ногтями, но проклятые пятна пе отходят, а только расползаются еще больше, и теперь кажется, будто кисти рук обмакнули в кровь. Но Зумент продолжает неистово тереть. Весь забрызганный водой, уже ни на что не обращая внимания, он сражается с этой окаянной краской, его движения становятся все более бессмысленными и лихорадочными.
Он встает на четвереньки и трет ладони о прохладный цемент, то и дело поднося руки к глазам и убеждаясь, что все усилия напрасны.
В первый момент он даже не чувствует на своем плече чужой руки, он не слышал шагов, и только когда дежурный воспитатель встряхивает Зумента посильней, тот отскакивает в сторону и прячет руки за спину, как загнанный в угол клетки звереныш.
– Что, влип? – холодно замечает дежурный. – Не майся, заверни кран!
* * *
– Прибыла мать Зумента, и с ней какая-то девушка, – докладывает Киршкалну контролер.
Воспитатель выходит в коридор проходной. У двери стоят две, почти одного роста и сложения, женщины. Старшая выходит вперед; в одной руке у нее хозяйственная сумка, в другой паспорт. Взгляд ее недоверчив, но ярко накрашенный рот на всякий случай растянут в заискивающей улыбке. Вторая еще совсем юная, но ее смазливое личико имеет уже довольно потасканный вид; глаза с подсиненными веками недоуменно моргают. Она в ярко-красной нейлоновой куртке, слегка прикрывающей то место, откуда начинаются ноги, и никак нельзя сказать, есть ли на гостье еще какая-нибудь одежда, поскольку черные ажурные чулки убегают прямо под куртку.
– Я воспитатель Николая Зумента, – здоровается Киршкалн, и женщина, спрятав паспорт в сумку, протягивает ему руку с лакированными ногтями.
– К сыну мы приехали, – говорит она.
– Насколько мне известно, сестры у Николая нету, – смотрит Киршкалн на накрашенную девицу.
– Она ему двоюродная, – поспешно поясняет женщина.
– С двоюродными свидания не разрешаются, – говорит Киршкалн матери, затем обращается к девушке: – Вам придется обождать за воротами.
– А может, разрешите? Ей так хотелось повидать Колю.
Теперь голос у женщины воркующий и ласковый, а улыбка уже на пол-лица. Она придвигается чуть ближе, на губах отчетливо видны крошки лиловой помады, и в нос. Киршкалну ударяет острый аромат духов.
– Нельзя! Вы пойдете со мной, а эту гражданочку, – говорит он контролеру, показывая на девушку, – выпустите наружу.
Киршкалн уверен, что это и есть Зументова Пума, – Хи! – слышит он, как позади не то хихикнули, не то фыркнули, и двери закрылись.
Проводив мать в комнатку для беседы, Киршкалн просит его извинить и возвращается в проходную.
– За сестренкой понаблюдайте! Позвоните на посты! У нее всякое может быть на уме.
– Сына своего, к сожалению, вы сию минуту повидать не сможете, возвратясь, говорит он матери Зумента. – Николай в дисциплинарном изоляторе. – Киршкалн смотрит на часы. – Его выпустят через час двадцать минут, когда закончатся пять суток его наказания.
– Господи, да за что же это такое? Чего же Коля наделал?
~– Организовал вымогательство депег у воспитанпиков и избиение своих товарищей. Так что, как видите, ничего приятного и утешительного я вам сообщить не могу.
– Разве здесь это возможно? Почему же вы за ним пе смотрите?
– Если как следует постараться, кое-что возможно даже -здесь. А нас лучше уж не упрекайте, у вас на это нет ни малейшего права.
– Как это – нету права? Я все-таки мать.
– Нет, я вас матерью не считаю.
– Чего?! – не веря своим ушам, переспрашивает женщина.
На какой-то миг она кривит рот в иронической улыбке, откидывает назад голову, и кажется, вот-вот закатится пошленьким смехом. Затем губы перекашиваются, лицо вдруг делается старым и увядшим. Плечи ее опускаются, голова никнет, и Киршкалну видны лишь эти угловатые плечи и темные, завитые волосы, к которым кое-где пристали чешуйки перхоти. Когда мать Зумента вновь поднимает глаза, губы ее сжаты и лицо лишено выражения, лишь на желтоватой коже возле ямки меж ключиц нервно пульсирует вена.
– А я... я ничего не могла поделать. Не знаю. – Ладони сложенных на коленях рук приподнимаются в стороны в бессильном жесте. – Ума, видно, маловато, не сумела. Что делать. Старалась как могла, но... – Руки снова шевельнулись. Она подняла было взгляд на воспитателя, но тут же отворачивается к окну и застывает в неподвижности. – Одна. Все одна и одна.