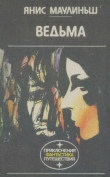Текст книги "Последний барьер"
Автор книги: Андрей Дрипе
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Где вам понять!.. – Слова тяжелые, с трудом переваливают через губы.
Киршкалн молчит. Что ей на это сказать? Тяжело, конечно же тяжело.
Женщина, сидящая перед ним, сейчас ему гораздо ближе, чем та раскрашенная маска, что стояла и улыбалась в проходной рядом с Пумой или две минуты назад вызывающим топом задавала ему вопросы. Потому оп и оставляет при себе то, что хотел бы сказать.
Есть матери, которые и в одиночку выращивают достойных сыновей. В бедности живут, нуждаются, по растят. Эта мать не смогла сделать из сына человека.
Успокаивать и заверять, что в будущем все наладится, бессмысленно. Для педагогических рекомендаций время безнадежно упущено. "У меня мать шлюха", – вспоминает Киршкалн слова Зумента.
– Я знаю, вы станете меня ругать, – виноватым голосом говорит женщина. – Все меня ругают за мою жизнь.
– Да нет, ругать я вас не стану. Какое это имеет теперь значение?
– Верно. Как умею, так и живу... – Она снова входит в свою обычную роль, губы вновь дрогнули от фальшивой улыбочки.
– Для чего вы девушку с собой привезли?
– Пристала. Раз так, пускай, думаю, едет, может, удастся повидать. Она последняя была, с которой Коля гулял.
– У вас есть вопросы ко мне?
– Нету. То, что Коля мой конченый и ничего хорошего про него не услышать, я наперед знала.
– Тут вы ошибаетесь. За Колю мы еще поборемся. – Киршкалн смотрит на мать и вспоминает короткие письма, которыми она и сын обменивались друг с другом. "Приезжай, привези!" – дальше перечень предметов и в конце: "У меня дела идут хорошо". Так пишет Николай. "Не знаю, смогу ли, попробую", – и в конце: "Веди себя хорошо!" Так пишет мать.
Письма дальних родственников, у которых общие только материальные интересы. По крайней мере, со стороны Зумента. Мать сдалась, опустила руки.
– Если не возражаете, я пойду, – продолжает после паузы воспитатель. Можете подождать здесь или в общей комнате свиданий. А то пойдите погуляйте. Если привезли сигареты, заблаговременно выньте их. У нас теперь курить запрещено.
– Ладно, я выйду. Тут у вас душно.
Киршкалн провожает мать Зумента до ворот и через окно проходной видит, как к ней подбегает Пума и они разговаривают.
– Как себя вела эта девочка?
– Пока ничего такого. Отошла подальше и глазела поверх забора на окна школы. Какие-то знаки подавала. Мы ей замечание сделали, перестала.
– Не заметил, кто в это время стоял у школьных окон?
– Несколько человек. И Бамбан тоже был.
– Продолжайте наблюдение.
Киршкалн идет в дисциплинарный изолятор. Как и в предыдущие посещения, Зумент сидит на скамье надутый и никак не реагирует на приход воспитателя.
Киршкалн присаживается рядом.
– Так все и думаешь, что причинять зло другим – геройство? – спрашивает Киршкалн и, не дожидаясь ответа, продолжает, как бы разговаривая с самим собой: – В человеческой жизни и так до черта всяких бед и несчастий, а ты видишь свой долг в том, чтобы приумножать горе и еще гордишься этим. Посуди сам, не глупо ли?
– Бросьте заговаривать зубы! – шипит Зумент.
– Не имею ни малейшего желания. Мне только хочется, чтобы ты начал думать. Давай возьмем простейший пример. Перед тобой стоит человек слабее тебя – на того, кто сильней, ты ведь нападать не станешь, – и ты бьешь его по лицу, отбираешь у него часы и деньги. У этого человека есть друг, чемпион по боксу, и на другой день он делает из тебя котлету, Я не буду употреблять такие слова, как человечность, взаимная выручка, товарищеское отношение, уважение, поскольку для тебя они пока пустой звук. Для начала хочу только одного: чтобы ты правильно ощутил соотношение сил и понял, что в конечном счете пострадаешь ты сам. И поскольку тебе бывает жаль только самого себя и ты преследуешь только собственную выгоду, то из чистой предосторожности надо бы перестать вредить другим. У тебя нет шансов выйти победителем. Чем скорей ты это поймешь, тем лучше.
– Это мы еще увидим.
– Обязательно увидим. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
– А вы не смейтесь!
– И не собираюсь. Как раз наоборот, Зумент. Мне не смешно, а грустно. Может, надеешься стать знаменитостью, чье имя люди будут упоминать со страхом и восхищаться? Не станешь. Скоро тебе исполнится восемнадцать, и если ты будешь продолжать в том же духе, в каком начал, пропадешь без следа, даже некролога ни в одной газете о тебе не напечатают.
– Не запугаете!
– Я не пугаю, просто хочу сказать, какой тебя ждет конец. Это будет колония со строгим режимом для рецидивистов и после этого жалкая смерть.
Киршкалн встает. – Свои пять суток ты отсидел, сейчас контролер тебя выпустит, и ты повидаешься с матерью. Она приехала.
* * *
Длинный стол, за ним сидят матери и сыновья.
Есть и отцы, но мало. Неподалеку от двери – контролер.
– В чем это руки у тебя?
– В киселе, – презрительно цедит Зумонт и прячет руки под стол. – Как дела дома?
– Все то же. Ничего нового.
– Чего ребята делают?
– Сам знаешь, чего делают. У малышей теперь атаманит длинный Вамбулис, из углового дома который. Скоро тоже сядет вроде тебя.
– Да ну, салага! А в клубе все еще старая капелла лобает?
– Нет, развалилась. Кто в армию загремел, кто – так, сам ушел. Теперь насчет новой соображают, па электрогитарах.
– Ладно... А девки как? Пума что делает?
– Пума со мной приехала, да они ее не пустили.
Привет тебе шлет. – Мать подается телом вперед и говорит тише: – Она и вечером останется. Может, доведется увидеть.
– И гады не пропустили?! Собаки! Иу, я этому Киршкалну покажу еще!
– Чего ты ему можешь устроить? Сиди лучше тихо и слушайся...
– Ты мпе тут брось поливать! – грубо обрывает мать Зумент. Теперь, когда он знает, что Пума рядом, а повидаться с пей нельзя, он весь дрожит и краснеет от злобы, и на голову воспитателя изливается поток брани и проклятий. – Привезла, чего просил?
– Привезла. Но сигареты теперь, говорят, нельзя.
– Мура, гони сюда живо! Пока попка не смотрит.
– Нету. У Пумы остались.
– Вот балда! Иу ничего, скажи Пуме, чтобы вечером через загородку бросила. – И Зумент объясняет, как и где это лучше сделать. Затем перечисляет друзей, которым надо просто передать привет, а которым сказать: Жук держится как герой.
– Послушай, Коля, надо бы все это кончать. Ничего там хорошего не будет. Мне и воспитатель про тебя...
– Ты мне лучше не говори про это длинное пугало! Если сказать нечего, сиди помалкивай! – Он задумывается о чем-то и после паузы говорит шепотом: – Может, последний раз видимся. Только об этом никому ни слова. Лихом тебя поминать не стану.
Живи как знаешь, а мне эта жизнь не подходит. Тут все мелко плавают.
– Ты чего говоришь, Коля? – В глазах женщины испуг.
– Сказал же тебе – молчок!
И женщина замолкает, но взгляд ее страдальчески и тревожно бегает по пригожему лицу сынка.
* * *
– Товарищ старший лейтенант, с третьего поста звонят – опять эта подзаборная кошка пришла, – говорит Киршкалну контролер. – Идет к ограде у санитарной части.
– Место обычное, так я и думал.
Воспитатель звонит дежурному.
Немного погодя Киршкалн с сержантом выходят из зоны и направляются вдоль забора в ту сторону, где видели Пуму. Фонари и прожекторы еще не включены, и все вокруг окутано сумерками прозрачной летней ночи. Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, все вокруг озаряется светом. На несколько метров от освещенной ограды видна теперь каждая кочка, но зато дальше темнота стала непроглядно черной.
Киршкалн немного пригнулся и тогда на фоне неба заметил девушку. Крадучись, она приблизилась к границе освещенного пространства, затем широко размахнулась и что-то бросила через ограду.
Когда из темноты рядом с Пумой вдруг вырастают офицер и сержант, та сперва делает рывок, чтобы убежать, но тут же останавливается как вкопанная и истошно кричит, точно с нее заживо сдирают кожу.
В проходной, куда приводят Пуму, она меняет тактику и молчит как рыба. Сидит, заложив ногу на ногу, мерно покачивается тупоносая импортная туфля.
Приходит дежурный воспитатель и кидает на стол серую резиновую грелку, к которой привязано несколько начск сигарет – Почти в руки мне угодила, смеется он. – Техника метания у вас отличная. Но детишки остались с носом.
Киршкалн отвинчивает пробку, и в нос ударяет острый запах спирта.
– Ничего не скажешь. Такой бомбой можно пол-отделения уложить наповал. Ваш паспорт! – обращается он к девушке.
– Зачем? – спрашивает Пума.
– Предъявите документы!
– Нету.
Пума с минуту раздумывает, затем расстегивает "молнию" на куртке и достает паспорт.
– Нате!
Нога опять покачивается, и Киршкалн замечает, что на кошечке кроме куртки имеется еще и юбчонка, правда, измерить можно бы лишь ее ширину, но никак не длину.
"Майга Миезите, – читает Киршкалн, – родилась в 1951 году в Риге". Он записывает адрес.
– Где работаете?
– Чего?!
– Я спрашиваю– где вы работаете?
– Зачем вам?
– Хотим познакомиться с вами поближе.
– Свиданочку назначите?
– Возможно.
– Не тот причал!
– А все-таки, может, ошвартуетесь?
– Зачем?
Пума слегка меняет позу – перекидывает левую ногу на правую, и Киршкалн замечает, что молоденький контролер, зардевшись, пялится на ее трусики.
– Сядьте-ка поприличней! – Замечание Киршкална получается непреднамеренно резким.
– Ха! – вздергивает Пума плечом и подмигивает.
Руки пробуют чуть натянуть юбчонку пониже, но усилия тщетны.
– Что будем с ней делать? – отведя Киршкална в сторону, негромко спрашивает у него дежурный воспитатель. – Дело безнадежное-за полчаса из обезьяны Человека так и так не сделать. Для этого сто веков нужно. Она даже разговаривать еще не умеет...
– Просто не знаю. Сажать в милицию? Впрочем, бог с ней, пусть идет! Я завтра отправлю письмо в соответствующее отделение милиции в Риге и сообщу о сегодняшнем случае. Они там лучше знают, что делать... Теперь попытайтесь вникнуть в то, что я сейчас вам скажу, Майга Миезите! поворачивается Киршкалн к девушке. – Передавать воспитанникам колонии спиртные папитки запрещено. Вы нарушили этот запрет. Предупреждаю, если еще раз увижу, что вы околачиваетесь у ограды колонии, дело обернется для вас хуже, чем сегодня. А теперь ступайте на автобус и уезжайте! На ночной поезд еще успеете. Ясно?
Пума встает.
– Паспорт гони!
Она забирает паспорт, прячет в карман и задергивает "молнию".
– И пузырь! – Рука протягивается за грелкой.
– Пузырь останется нам на память.
– Надеретесь, – деловито замечает она и направляется к выходу. У порога Пума оборачивается, облизывает губы и злобно выталкивает: – Поноса вам гвоздем!
Киршкалн смотрит, как отдаляется от освещенного фонарем круга, становится все бледнее багровокрасная куртка Майги Миезите.
– Н-да-а, не позавидуешь коллегам, которые работают в колониях для девчонок. Не зря говорят, что с ними куда хуже, чем с ребятами. Вылей спирт в раковину! – говорит он дежурному воспитателю, и драгоценная жидкость под грустным взором контролера, булькая, утекает в канализацию.
Киршкалн выходит во двор. Ночь тиха и тепла.
Ребята смотрят кинокартину, и из темпых окон зала временами доносятся приглушенные звуки музыки, голоса.
И вдруг за оградой колонии раздается песня.
Киршкалн даже вздрагивает от неожиданности – уж не взывает ли кто-то о помощи или кричит от боли?
Потом ему на ум приходит разговор с Трудынем о Пуме. Слова песни разобрать невозможно, это какойто очень странный язык, но в мелодии есть что-то влекущее. Печаль, тоска по чему-то, чего никогда не видели и не понимали. Киршкалн никогда не слышал воя койотов, но представлял его приблизительно таким. Долгие, тягучие поты; кажется, вот-вот звук оборвется, у певицы не хватит воздуха в груди, но нет, голос звучит до конца в сочном тембре, и Киршкалну невольно вспоминается Има Сумак. Конечно, диапазон не тот и техника не та, по что-то общее есть. Киршкалн стоит и слушает. Сильный голог. Пума, очевидно, на автобусной остановке, но слышно очень хорошо. Песня допета, и Пума кричит:
– Жук! Чао! Это твоя Пума пела!
Спустя несколько минут слышится рокот мотора отъезжающего автобуса.
"А Жук сидит в кинозале и смотрит картину. Не слышал он ни песни твоей, ни привета", – мысленно произносит Киршкалн, направляясь к школе. И его охватывает острое недовольство собой, своим поведением в давешнем разговоре в проходной.
XIV
Зрителей сегодня на трибунах городского стадиона полным-полно. Футбольный матч с колонистами широкой огласки не имел, но, как это всегда бывает, то, о чем говорят вполголоса, узнается скорей всего. Пришли даже те, кто вообще мало интересуется футболом,–интересно ведь поглядеть своими глазами на малолетних преступников. В публике шум, смех, разговоры. Зрители лижут мороженое и время от времени посматривают туда, где сидят ребята в темной форме.
А колонисты от чрезмерного старания вести себя безукоризненно и от смущения, которое их охватило, .когда они оказались в центре внимания, чувствуют себя неловко и напряженно смотрят перед собой на зеленое поле.
Начинается игра. Колонисты-игроки вначале тоже чувствуют себя скованно. Шумливый народ на трибунах и неизвестный противник, которому, естественно, достается львиная доля подбадривающих голосов, сильно влияют на точность распасовки и уверенность ударов. Хорошо еще, что городские ребята находятся почти в таком же состоянии, поскольку против них играет опять-таки не нормальная команда, а бандитская. Пойди-ка начни у него отыгрывать мяч, пожалуй, еще по башке схватишь!
По этой причине мяч в первые минуты катается но полю без большого игрового смысла, часто уходит за боковую линию, и общее впечатление от матча бледное.
Однако мало-помалу ребята начинают разыгрываться, этому способствуют и более организованные хоровые выкрики болельщиков-колонистов. Погромче стали орать и болельщики-горожане, но в их кличах еще не хватает единства, и потому им пока не удается заглушить голоса колонистов. Первый период заканчивается со счетом один – один.
Настоящая борьба начинается во второй половине игры. Стадион ревет. Острые ситуации возникают как у одних, так и у других ворот, но превосходство ребят из колонии становится все более очевидным. Вот счет уже стал два – один в пользу колонистов. И тут над полем вдруг раздается глухой бас: "Даешь третий гол!"
Люди в недоумении крутят головой по сторонам в поисках громкоговорителя, который вдруг включили по требованию колонии, .но ребята знают – это подал голос их Бас! Начальника никто не смеет ослушатьсяи третий гол забит.
Озолпиек уже не в силах усидеть на месте. Он то и дело встает, рука машинально лезет в карман за сигаретами, и, не отрывая взгляда от поля, он закуривает.
– Начальник! Начальник! – шепчет кто-то рядом.
Озолниек не обращает внимания и, лишь когда чувствует, что его легонько тянут за рукав, поворачивает голову.
– Полкило конфет, – напоминает Калейс.
– Что?!
– Полкило конфет! – и воспитанник показывает на дымящую сигарету.
– Хм! – Озолниек смотрит на сигарету, бросает под ноги и растаптывает.
Покуда команда переодевается после игры, он идет в буфет.
– Какие у вас есть шоколадные конфеты?
– Только "Каракум".
– Подешевле нет? – Он шарит в кармане и критически осматривает свой тощий кошелек. Вместе с медяками, пожалуй, должно хватить.
– Дешевле нет. Брать будете?
– Конечно, буду. Полкилограмма, пожалуйста! – А про себя думает: "Послезавтра получка, как-нибудь дотяну!"
Он подал Калейсу кулек. Калейс, угостив начальника, стал раздавать конфе!ы ребятам.
Озолниек недовольно ворчит:
– Все-таки ото было не очень честно. Ты -воспользовался слабостью противника в особо напряженный момент.
– Насчет исключений в протоколе ничего не сказано, – с ехидством парирует Калейс.
Красный от радости физрук выстраивает ребят в колонну по четыре.
– Группа, ша-го-ом арш! На стоянку автомашин!
Ребята маршируют хорошо. Они уже довольно давно тренируются к строевому смотру, и любой командир роты поглядит не без зависти на эту черную колонну.
– Запевай!
Горожане с удивлением смотрят вслед удаляющейся группе ребят. "Видал, какие они! И спортсмены хоть куда, и вести себя умеют. Ни драки, ни ругани.
Просто не верится".
* * *
Этот день для Висвариса Мейкулиса особый. Вечером на занятие кружка Марута Сайва обещала принести с керамической фабрики изготовленные ребятами кружки и фигурки. На этот раз Мейкулис тоже сдал свои изделия. Когда руководительница на прошлой неделе упаковывала в бумагу еще ломкие, неказистые на вид поделкп из глины, Мейкулис стоял рядом и следил за каждым движением ее рук. Руководительница, конечно, знает, что делает, но всякое может случиться. И Мейкулису кажется – именно его кружечку и поросенка Сайва берет с недостаточной осторожностью. Откуда ей знать, что правое ухо поросенка лепилось целых полчаса и все-таки под конец отпало. Тогда Мейкулис углубил ямку и приладил ухо еще раз, по, наверно, глина в ямке не была достаток но хорошо смочена. Да, да, конечно, он плохо смочил глину! И ухо может отвалиться. Много ли надо – чуть стукни, и все. А одноухий поросенок – брак. Руководительница не представляет себе, как велико значение уха, которое Мейкулис прилепил сам. Для нее все поросята одинаковые, а Мейкулис своего даже с закрытыми глазами видит. Давно, когда он был еще совсем маленьким, они жили на окраине города. Мать держала поросенка. Мейкулис хорошо его помнит и старался слепить из глины именно такую свинку.
– Поокруглей лепи! – сказала Сайва. – Он у тебя больно тощий.
Мейкулис ничего на это не сказал, только долго смотрел на комочек глины в своей руке. Тот их поросенок тоже был не круглым, а худым и длинным.
И Мейкулису хотелось вылепить именно такого. Когда девушка во второй раз остановилась позади него и посмотрела на работу, Мейкулис собрался с духом и сказал:
– Мой поросенок круглым не будет.
Потом сам даже перепугался. Как он осмелился перечить руководительнице? Она художница и знает лучше, как должен выглядеть поросенок. А того поросенка, что хрюкал в будке на окраине Болдераи, Сайва не видела. Может, он и не был таким, как другие, но Мейкулису хочется воссоздать именно такого поросенка.
– Он мало ест, – поясняет Мейкулис для смягчения .своего протеста. Подходит и учительница Калме, перешептывается о чем-то с девушкой и, наверно, говорит ей, что у свиней тоже бывают худые дети. Во всяком случае, Сайва больше не спорит с Мейкулисом и позволяет ему слепить поросенка-малоежку.
И у кружечки ручка тоже может запросто отломиться. Руководительница к тому же слегка обжимает руками обертку, и сердце у Мейкулиса ёкает от страха. Он, конечно, молчит, он только смотрит. И когда руководительница с корзиной в руках пересекает двор по направлению к проходной, Мейкулис следит за каждым ее шагом. В корзине как-никак лежат его поросенок и кружечка. Вдруг руководительница споткнется и упадет?
Всю последующую неделю Мейкулис ни о чем не думает. Только о своих кружке и-поросенке. Руководительница уже рассказывала им, как изделия из глины покрывают глазурью, как происходит обжиг, сколько раз их приходится переставлять и переносить, и всегда им грозит опасность – бывает, в электропечи потрескаются, а то и просто уронят на пол. Еще хорошо, что Мейкулис этого не видит, а то от беспокойства лишился бы и сна, и аппетита. Теперь надо только ждать и надеяться, что все сойдет благополучно.
Мейкулис стоит, прижавшись к подоконнику, и смотрит на дверь проходной. Всякий раз, когда она открывается, он надеется увидеть пестрое, в цветочках, платье Сайвы, но входят то старшина, то контролер, то еще кто-нибудь из сотрудников.
И наконец, она!
Сайва опять пришла вместе с Калме. Они о чем-то разговаривают и смеются, руководительница несет обернутую бумагой корзину. Мейкулис зажмуривается и отходит от окна. Его поросенок и кружка наверняка раскоканы. Иначе и быть не может. Лучше заранее примириться с этой мыслью, тогда не так страшно.
Вот руководительница вошла в дверь школы, Калме отпирает дверь комнаты керамического кружка. Вместе с другими ребятами Мейкулис стоит у стола с понуро опущенной головой... "Хоть бы мой поросенок уцелел!" – шепчут его губы.
– Один поросенок разбился, – словно в ответ на его опасения говорит Сайва. – Лопнул в печи. Придется кому-то делать заново, но это ничего. Главное – тренировка. Второй получится еще лучше, – заканчивает она совсем весело.
Мейкулис сжимает край стола. Так он и думал.
Конечно, лопнул его поросенок, больше ничей. Вокруг шелестит бумага, Мейкулиса толкают, но он ни на кого не смотрит.
– Ну, разве не хорош? – слышится голос руководительницы. – А вот этот еще красивей.
Слышно, как с легким стуком одну за другой ставят фигурки.
– Ух и здорово, а!
– Глянь, а у моего какое, пузо! – теснятся ребята у корзины.
И тогда Мейкулису делается невмоготу. Он моляще поднимает глаза на руководительницу, видит, как "в руки достают очередной сверток, разворачивают бумагу.
– Это мой!
Возглас получается неожиданно громкий. Все даже оглядываются, потому что обычно Мейкулис – даже когда его спрашивают – губами шевелит еле слышно.
А парень даже не сознает, сколь необычно себя ведет.
Он чуть не бегом бежит с протянутыми руками за своим поросенком. Он не слышит шуток по поводу его поросенка, который якобы больше похож на чумную кошку или собаку, чем на свинью. Зажав фигурку в руке, Мейкулис первым делом глядит, на месте ли ухо?
Целы оба! И даже кружка не разбита.
Мейкулис садится, ставит на стол свои теплые, мерцающие коричневой глазурью произведения и ладонями, как забором, отгораживает их с двух сторон. А то еще кто-нибудь толкнет невзначай и уронит.
Входит Киршкалн. Вид у ребят довольный, но на одном лице восторг просто неописуемый. Мейкулис не говорит ничего. Он поднимает голову, смотрит на воспитателя и затем медленно опускает взгляд, как бы подсказывая, на что следует обратить внимание. И ладони тоже чуточку раздвигаются...
– А ты, Мейкулис, молодец. Это что у тебя за зверь?
– Поросенок, – степенно отвечает Мейкулис. – А это кружка.
– А ведь и в самом деле! – Воспитатель наклоняется поближе. – Издали не разобрать.
– И оба уха есть.
– В родительский день сможешь подарить своей матери.
– Я тоже думал. И еще ложку сделаю.
* * *
Озолниек ждет не дождется конца заседания бюро райкома партии. Сегодня надо отпускать домой досрочников, а тут ему вдруг предлагают задержаться.
Он глядит на часы и в уме прикидывает, успеют ли ребята после церемонии на дневной поезд. О чем таком особенном намерен говорить с ним секретарь?
.. Когда у длинного стола в просторном, устланном ковровыми дорожками кабинете они остаются вдвоем, секретарь садится, закуривает и придвигает поближе к Озолниеку пепельницу и сигареты.
– Благодарю, я теперь стараюсь воздерживаться, – Озолниек откидывается на спинку стула, чтобы приятный дымок не слишком щекотал ноздри.
– Так как же это, товарищ Озолниек, вы смогли так нехорошо, вернее, так необдуманно поступить, а?
.Что там у вас было с этим футболом?
– Вы имеете в виду игру колонистов с юношеской сборной города?
– Ее самую.
– А что тут нехорошего или необдуманного?
– Вы сами этого не понимаете?
– Как-то не удается.
– Поступили сигналы, и я думаю – правильные сигналы. Я не совсем в курсе порядков в колонии, потому в первую очередь хотел бы спросить: разрешается ли выводить ваших воспитанников за пределы места заключения и если разрешается, то в каких случаях?
– Разрешается. Для выполнения хозяйственных заданий. Вообще это решает начальник колонии, принимая во внимание интересы воспитанников или другие соображения.
– Так. Насколько я понимаю, игра в футбол не хозяйственное задание. Каковы же были ваши соображения в данном случае?
– Соображения воспитательного характера. Короче говоря, хотел проверить своих ребят и дать им возможность проверить самих себя. Далее: игра, как вам, очевидно, уже известно, закончилась победой воспитанников. Это значительно поднимает роль спорта в колонии и вселяет в ребят сознание, что и они кое-чего могут достичь. Затем это помогло физруку вернее оценить результаты своей работы, способствовало взаимопониманию и доверию между воспитанниками и воспитателями. Это – главное. Разве поступили жалобы на поведение колонистов?
– Нет, жалоб нету. Напротив, они произвели исключительно хорошее впечатление. И в данный момент в этом нет ничего хорошего.
– Как это понимать? – хмурит брови Озолниек.
Секретарь, человек невысокого роста, со склонностью к полноте, с румяным здоровым лицом и пытливым взглядом, тоже слегка хмурится.
– Вы довольно недогадливы, товарищ Озолниек.
Представьте себе картину: приходят здоровые, рослые парни в форме с какими-то невиданными знаками разлиния, по-военному маршируют, обыгрывают сборную юношескую команду города, и потом выясняется, что это преступники, заключенные. Это же реклама! Получается, они, можно сказать, достойнее честных людей. Быть может, на ваших воспитанников это мероприятие повлияло положительно с точки зрения воспитания, зато на молодежь города – совсем наоборот.
Известно вам, что теперь говорят в городе? "Вот в колонии ребята – это да!" – вот что говорят люди.
– Вы меня уж извините, но у вас довольно странный и неверный взгляд на эти вещи. – Озолниек слегка усмехается. – По-моему, за это исключительно хорошее впечатление я скорей всего заслуживаю похвалы, а серьезные упреки могут быть сделаны в адрес городских молодежных организаций и спортивного руководства, которые не могут дотянуть своих ребят хотя бы до посредственного уровня колонистов. Скажу прямо: я невысокого мнения о молодежи, которую за два часа может выбить из колеи небольшая группа колонистов.
К щекам секретаря заметно приливает румянец.
Он не привык выслушивать подобные аргументы, но, зная Озолниека, удивляться, конечно, нечему.
– Заключенным место за оградой. Это вам должно быть известно лучше, чем мне. Они там находятся по приговору суда, и нет никакой необходимости водить их повсюду. Я полагаю, мою точку зрения разделят в любой вышестоящей инстанции, а также и в министерстве внутренних дел.
– Возможно, – соглашается Озолниек. – Но это уже совсем другая тема. Поддержка той или иной точки зрения вовсе еще не означает ее непогрешимости.
С этим приходится встречаться не так уж редко. По поводу того, какими должны быть меры воспитания в колониях для несовершеннолетних, еще не раз придется поломать копья. В этой области нам не так легко удастся найти что-нибудь удачное и правильное на все времена.
– Стало быть, вы считаете, что поступили правильно?
– Считаю. И, кроме того, полагаю, что это самое отрицательное влияние вы просто придумали. Я еще нe получил ни одного заявления с просьбой поместить кого-либо из городских ребят в колонию. – Озолниек смеется. – Вы говорите, заключенным положено находиться за оградой. Верно, конечно. По ту сторону – человеки, по другую– нелюди. К сожалению, в жизни не так. Сегодня, не позже как через час, я четверых освобождаю досрочно, и они выйдут в мир честных людей. И нет у них ни ножа в зубах, ни пистолета в кармане. Я не говорю, что они ангелы, но еслична то пошло – ангелов нет нигде.
– И вы, может, станете уверять, что там у вас все такие хорошие?
– Нет, конечно. Но на игру ходили самые лучшие.
Это было для них своего рода поощрение, а для остальных – стимул стараться. Поймите же, они всего-навсего подростки, многие из них по образу мышления почти дети. Здесь нельзя придерживаться порядка, принятого в колонии для взрослых. Я не утверждаю, что эти ребята менее опасны, но мотивы и некоторые стороны преступления зачастую отличаются. И методы воспитания тоже должны отличаться.
– Пусть все это так. Но еще и эта песня. Вы помните, о чем пели ваши?
– Насколько помню, "Гимн демократической молодежи". Чем плохо?
– Но слова-то там какие?! – воздевает к потолку руки секретарь.
– Слова очень хорошие и вполне подходят.
– Весьма! "Каждый, кто молод, встань с нами вместе..."!
Секретарь продекламировал и смолк. Озолниек разражается хохотом. Стекла в кабинете секретаря заметно вибрируют, и плафоны на люстре слегка перезвякнули.
– Грандиозно! – гудит он. – Нет, такого я себе действительно не представлял. Ну и ну! – Он еще долго не может успокоиться, по потом овладевает собой и дает слово: – Хорошо, впредь мы эти строчки петь не будем.
– И также не будете устраивать никаких шествий колонистов.
– Это пообещать уже трудней, – Озолняек продолжает улыбаться. Поверьте, вы зря волнуетесь. Лучше почаще шугайте подростков вон из пивных и ил ресторанов. Понаблюдайте, чем они занимаются в общежитиях и по вечерам в парке у вокзала! Колонисты никого не испортят. Выстройте для городских ребят приличный клуб с помещениями для занятий.
– Над этим тоже подумают, товарищ Озолниек, но то, что я вам сказал, все же учтите. Молодежь должна испытывать страх перед вашим учреждением, оно для отбытия наказания.
– Да, да, конечно. Это та самая горечь, которую я вынужден ежедневно проглатывать. Меня возмущает, что в моих воспитанниках, во всех до одного, окружающие должны видеть лишь распоследних негодяев. Это мои ребята, и я знаю, что среди них много хороших и достойных людей, которые по-настоящему стали на правильный путь. – Озолниек смотрит на часы. – Разрешите мне идти?
– Да, но только серьезно подумайте над нашим разговором!
* * *
Большими прыжками Озолниек догоняет уже тронувшийся автобус, втискивается в дверь и пригибает голову, чтобы не упираться ею в потолок.
По мере приближения к колонии Озолниек все меньше думает о солидно обставленном кабинете секретаря райкома, о происшедшем в нем разговоре. Озолниек привык к тому, что его не понимают, что против него плетут интриги. Слава богу, у него не остается времени, чтобы вникать в подобные вещи – надо заниматься делом. И когда мыслями завладевает колония с ее проблемами, остальное сразу становится мелким и незначительным.
Выйдя из автобуса, Озолниек останавливается за ним и закуривает. Что поделать – сразу не бросишь, надо хоть помаленьку снизить дневную норму. Позади медленно вылезают тетки с порожними ягодными корзинами.
– Ентого там еще боятся, – ненароком слышит их разговор Озолниек. Говорят, он по плацу ходит с плеткой и лупит, кому по глазам, кому по башке.
– Не, так не должно. Хулюганов нынче закон бережет. Честного человека еще можно прибить, но ежели ентих стукнуть, сам в каталажку сядешь. Мне уборщица из суда сказывала.
– Я ентих законов не понимаю, только ты послушай, как енти бандиты орут в воскресенье за загородкой. Думаешь, так, по своей воле? Это их колотят. Что надо, то надо. Без битья из таких людей не сделаешь.
Подай-ка мою корзину! А на вид офицер этот приятный из себя. Плетку-то с собой из дому берет или...
Тетки обходят автобус и, заметив, что Озолниек стоит еще тут, сразу замолкают.