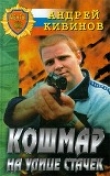Текст книги "Петербург - нуар. Рассказы"
Автор книги: Андрей Кивинов
Соавторы: Антон Чижъ,Андрей Рубанов,Владимир Березин,Павел Крусанов,Лена Элтанг,Вадим Левенталь,Евгений Коган,Сергей Носов,Александр Кудрявцев,Юлия Беломлинская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Часть II
ВОДЯНАЯ МОГИЛА
Наталья КурчатоваКсения Венглинская
ОСЛИНАЯ ШКУРА
Рыбацкое
…История эта началась тогда, когда Колян, что жил в красном кирпичном доме под самым Вантовым мостом, узнал о том, что белокурая бродяжка у метро «Рыбацкое», где тусуются в основном безработные чурки, цыгане и барыги, – его родная дочь Шура.
Колян, если кто не знает, в молодости был королем районной голытьбы. Потом какими-то правдами-неправдами, через наследство или прихватом, стал он хозяином небольшого строения на самом берегу Невы, там, где она, еще не стесненная гранитными набережными, свободно течет меж берегов, заросших сорным ивняком, тополями и горами пивных банок, оставшихся от вольных пикников местного пролетариата. Когда-то на этом месте стояло село Рыбацкое, жителям которого дарована была императрицей Екатериной Великой благодарственная стела – за то, что добровольно дали рекрутов в один из шведских походов. Весь район так и называется до сих пор – Рыбацкое.
Красный домик Коляна – одно из немногих строений, уцелевших на берегу во время возведения нового Вантового моста. В отличие от старых мостов, просвет его таков, что позволяет проходить речным судам, поэтому Вантовый никогда не разводится. Также он соединен развязками с кольцевой автодорогой и проспектом Обуховской Обороны и представляет собой основу целой транспортной системы. И еще – он очень красив на рассвете, когда с востока, со стороны Ладожского озера-моря, плывут пушистые персиковые облака; да и когда не плывут – тоже ничего.
Красный кирпичный домик Коляна, прилепившийся на береговом склоне, до сих пор смотрит в гибкое, пружинящее под транспортным потоком брюхо Вантового моста, а также одним из первых в городе встречает баржи, идущие в залив с Ладоги, летним вечером выстраивающиеся в очередь на проход по реке.
С тех пор как увидел Шуру среди чумазых таджиков и цыганят, Колян, считай, заболел. Дело в том, что жену свою (да и была ли она ему женой? Вряд ли!) Колян не видел уже много лет и с полным основанием считал умершей. Скорее всего, так оно и было – так, да не совсем. Коля с Настей сошлись еще в отрочестве – ей было едва пятнадцать, ему оставалось полгода до армии. По молодой дурости Настя вскоре залетела; мать ее и бабка гнали его с порога, про ребенка сказали – изведут. Вскоре после этого Колян пошел по призыву, и вот ведь везение – на войну не попал, но служил в ЮФО, с теми же черными, которых бивал на раёне. Ну, тут уж и ему досталось, огреб по не балуйся, вернулся, считай, инвалидом, с усохшей левой, потому как гнуться под дагов не хотел.
Вернулся – справился о Насте, конечно. Кореша сказали, что после того, как забрали его, она вскоре заторчала и сгорела в героиновом бреду. Погибла от передоза. Сдохла в канаве. Мыкалась по хатам, под любого ложилась за дозу. Обычная сказка в этих краях.
Колян горевал недолго – чего там, бабы будут еще, а жить как-то надо. Шоферил, в бригаде шестерил, много чего испробовал, и вот к тридцати годам оказался владельцем небольшого краснокирпичного домика и своего бизнеса.
А тут – Шура. Мелькнула, как видение – худенький подросток с чумазыми коленками, в обрезанных джинсах и светлой короне волос. Волосы как у матери – льняные кучеряшки, редкая по нынешним временам масть. Так и увидел Николай свою пятнадцатилетнюю Настьку!
Подошел к тетке Алле, цыганке, которая травой барыжит у метро и знает всех.
– Чья, – говорит.
– Так это, – отвечает, – Настены дочь, той, что на инвалидном заводе работает.
У него так и пересох рот.
– Где, – говорит, – найти ту Настю.
– Адрес не скажу, – лукавит Алка, – но подойди-ка ты, мил Колян, в пятницу к общаге бывшей ткацкого училища – там на проходной спирт продают, там Настена всегда на выходные по дешевке затаривается.
Все тут понял Колян, но в пятницу все же пошел к общаге – это такой дом желтый, с окошками узкими, видимо, чтобы ткачихи, толстые от доли своей, не спрыгнули. У проходной уже начинался парад уродов. Тонкой, с льняными кучеряшками Насти, конечно же, не было среди них.
– Настя! – наудачу крикнул Колян.
В очереди произошло шевеление. Худая бабка с лицом синюшным, как зимняя луна, хрипло каркнула ему:
– Чаво?..
Кинул Колян оземь скомканную пачку сигарет и зашагал к себе, под Вантовый мост.
Ничего теперь не осталось ему, кроме детки. Заперся он тогда на два дня в кирпичном домике, что встречает суда на Неве заперся с лучшим своим другом – псом Вольдемаром и секретаршей Зоенькой, что носила ему виски «Джек Дэниелс» и ветчину на ржаном хлебе. И отрядил верных своих нукеров – узбека Арифа и получечена Романа следить за тусой беспризорников у метро.
Яркий воздушный шарик, алое надувное сердечко в руках бродяжки… С Днем святого Валентина вроде бы не поздравляют летом? Да и день рождения у нее нескоро.
Но все равно: сразу праздник. И мужик вроде как нормальный, нестрашный вовсе. Хачапури угостил. Пойдем со мной, говорит. Говор у него нерусский, вид привычный – широкое лицо, под глаза заросшее пегой щетиной, футболка и треники. Зато телка евонная – идеал девочки-подростка. Мини-юбка, черные колготки (может, даже и чулки), кофточка со стразами, из самых дорогих, что на рынке продают. И конечно же, блондинка. Но не пересушенная, а такая… медово-элегантная.
И на макияже. Красавица, одним словом. Фея. Тоже говорит: не бойся, пойдем с нами. А чего ей бояться? Всяко не порежут. Может, еще и поесть дадут, а то и шмотку какую подарят. Она, конечно, маленькая еще – курить и водку пить не будет, только «ягуара», как самые крутые парни и девчонки в их тусе. Пиво – горькое очень… а вот «ягуар» и прочие напитки в ярких жестяных банках, которые открываются с таким вкусным (ни с чем его не спутаешь) звуком «пш-ш-ш», Шурка очень уважала. Короче, согласилась она пойти с этой красивой дамой и черным.
Страшно стало, когда они на их машине подкатили к красному кирпичному дому на границе района. Прямо почти под мостом… Когда-то она очень любила гулять в этих местах – красивый сверкающий мост, весь в расходящихся лучах-вантах похожий на кусок солнца, река, корабли, большие и малые, баржи и пассажирские теплоходы. На них Шурка особенно любила смотреть, потому что оттуда доносилась громкая музыка и смех и яркие огоньки танцевали отражениями в воде. А потом пошел слух, что в красном доме жуткие вещи творятся, и все перестали туда ходить и тусоваться в его близости. Некоторые пацаны, правда, пробовали лазать подглядывать, но потом ничего не рассказывали. Да и пара девушек постарше там бывали… Что там происходит, они тоже не говорили, но после у них появлялись деньги и они начинали часто ездить куда-то в город «на работу».
Изнутри дом оказался совсем не страшным: в большом зале, к которому примыкала кухня, все четыре стены были крашены в разные очень яркие цвета, и у каждой стенки стояла такая же разноцветная мебель, В центре зала стояли фонари с большими белыми зонтиками. А окна были забраны черной пленкой.
Красивую женщину звали Зоенька, ее спутника – Роман. Они действительно накормили ее, а Зоенька подарила ей шарфик, весь пропахший вкусным табаком и какими-то сладкими духами. Иногда Зоенька уходила в другую комнату, и оттуда орал какой-то бухой мужчина. Потом наконец Зоенька вывела его в зал. И сказала Шурке, что это Николай. Николай, с опухшим лицом и узкими щелками воспаленных глаз, стоял, пошатываясь и придерживая рукой голову… однако одет был чисто, в белую футболку с портретом какого-то чувака и джинсы. Оглядевшись вокруг, будто бы впервые здесь оказался, он уткнулся взглядом в белокурую девчушку, которая сидела на стуле в кухне, напряженно сложив руки на коленках. И вдруг хрюкнул, пьяно разревевшись, шатнулся сначала к Зое, потом и к Шурке, мыча что-то неразборчивое про «доченьку». Одна рука у него, скрюченная, висела вдоль тела, зато другая бугрилась мышцами.
Так Шурка стала жить в красном доме на берегу Невы, почти что под солнечным мостом. Иногда ей казалось, что у нее появилась отличная семья. Зоенька показала ей, как краситься, отучила от «ягуара», объяснив, что это не стильно, и вообще возилась с ней, как со своей дочкой, чего от своей давно спившейся матери Шурка никогда не видела. Пару раз, выяснив, где обитает Шурка, мать таки приходила к дому и требовала, чтобы ей отдали дочку. Они долго с Николаем орали друг на друга, потом Роман или Ариф уводили ее, шатающуюся, дурно пахнущую и рыдающую в голос, до ближайшего кабака. Недели на две мать успокаивалась. А были дни, когда в гости к Коляну (никак Шурка не могла назвать его папой) приезжал на машине видеооператор Максим, и тогда Зоенька забирала Шурку на другую половину дома и они всю ночь сидели там. Смотрели телевизор, ели пирожные – Максим всегда привозил с собой что-то вкусное… шоколадные «картошки», эклеры или буше в картонных коробках, болтали, стараясь не прислушиваться к звукам на той половине дома. Потом, под утро, когда Шурка уютно засыпала на диване, Зоенька убегала помочь прибраться на ту, другую половину, а после шла на работу. Весь следующий день Колян спал. Спал и его любимый пес Вольдемар, до отвала накормленный Зоенькой. Когда в такие дни у Коляна наступало утро, Зоенька успевала уже прибежать с работы и приготовить омлет. Колян ворчал, что она совсем туг прописалась и про свою собственную квартиру забыла, на что Зоенька легко отвечала, что с Шурочкой у них общий язык, и вообще она подумывает сдать свою квартирку кому-нибудь внаем. Таким пьяным, как в первый день, Шурка Коляна больше не видела никогда. Когда приезжал Максим – тогда Колян вообще не пил, во всех других случаях он традиционно весь день был немного под градусом, но никогда не надирался.
Иногда, сидя в зале перед огромной плазменной панелью (вот где настоящий шик и мультики классно смотреть), или за столом в кухне, или на ковре в каминной, рядом с мирно посапывающим Вольдемаром, Шурка ловила на себе задумчивый и какой-то неприятно тяжелый, тревожащий ее взгляд хозяина дома. Тогда ей становилось не страшно даже, но по-настоящему жутко. Но Колян молчал, ничего не делал, только иногда подзывал пса и с преувеличенной веселостью начинал трепать его бархатную шкуру, называя «золотым мальчиком». Почему Вольдемар «золотой», Шурка не могла понять – ведь он черный с рыжими подпалинами, пока Зоенька не объяснила ей, что это очень дорогой пес, приносит хозяину много денег. Заканчивались эти вечера всегда тем, что Колян замолкал, повисала неловкая тишина, и он уходил к себе в комнату, а Шурка успокаивалась, убеждала себя, что почудилось.
Был четверг. Нежный, солнечный и по-особенному тихий день. Убаюканная мягкими закатными лучами солнца, Шурка посидела вечерком на берегу, покормила булкой жадно крякающих уток. Кузнечики орали в траве – так, что звук этот проникал прямо под кожу. Стряхнув с шортиков хлебные крошки, Шурка пошла к дому из красного кирпича, по привычке озираясь вокруг – вдруг мамаша откуда-нибудь выскочит и опять настроение испортит. У дома стояла машина Максима. Шурка привычно подумала про тортик или пирожные и заулыбалась. Дверь дома была заперта, но Шурка взяла с собой ключ, когда уходила. Она открыла дверь, прошла по коридору и распахнула дверь в зал. Сначала очень яркий свет ослепил ее, и первое, что она восприняла, – был звук. Смешно скулил и подвизгивал Вольдемар и стонала женщина. Потом она увидела. Вырвало ее не сразу, а в коридоре, куда она инстинктивно метнулась. Потом Колян беспомощно заорал: «Зоенька!..», послышался цокот каблучков, и выбежать на улицу Шурке не дали Зоины мягкие ладони. Она увела Шурку на другую половину дома. Там был включен телик, стояли пирожные – буше и эклеры, самые любимые, черт подери.
– Папа твой деньги зарабатывает… не принимай этого близко к сердцу, – виновато как-то бормотала Зоенька. – Все мы крутимся, как можем. Зато живем неплохо… плазменная панель, эклеры. Вот, машинку папа себе приглядывает, теперь ведь может и шофера позволить. А к восемнадцати годам и тебе купит, даже не сомневайся. Тебе какие нравятся – девчоночьи или побольше, красные или белые?..
Шурка икала и боролась с рвотными приступами, но слушала и соглашалась. А чего она удивляется, это же лучше, чем геру по вене гонять… звуки в зале теперь были понятны и слышны от этого отчетливее. Воображение услужливо подкидывало картинку – ее бывшая одноклассница (школу они забросили примерно в одно время, только Светка сразу загадочно оказалась при деньгах) в коленно-локтевой позе под доберманом Вольдемаром… Вольдемар, конечно, аристократ, но дергается на ней так же смешно и нелепо, как все кобели во время случки, да еще скулит и подвизгивает.
С работой Коляна вскоре смирилась Шурка и даже решила, что это хорошая, творческая работа, не то что в ларьке или на стройке. Но что-то в самом Коляне неуловимо изменилось. Взгляд у него стал еще тяжелее и пристальнее, иногда за ужином он клал ей здоровую руку на колено. Разумеется, под столом, чтобы Зоенька не увидела. Сначала просто клал, потом стал поглаживать, пробираясь между коленок. Шурке от этого становилось очень страшно.
Потом Колян сорвался. Напился со своими верными товарищами Арифом и Романом дешевого пойла из ближайшего ларька. Они орали песни, ломали мебель. Шурка спала в своей комнате, Зоенька не то в комнате у Романа, не то в комнате у Коляна, ей оба нравились, но Колян, конечно же, был круче. Колян вломился к Шурке в комнату и стал признаваться. Та, спросонья ничего не понимая, забилась в угол кровати, притягивая к себе одеяло, стараясь за ним спрятаться. Колян хватал ее за ноги, гладил лодыжки и умолял о чем-то. Потом прибежала Зоенька, и вместе с Романом они увели его в зал. Шурка слышала, как Ариф серьезно и строго рассказывал Коляну про Аллаха. Вскоре Зоенька вернулась и обняла Шурку за плечи, укачивая.
На следующий день дом превратился в осажденную крепость. Колян выгнал Арифа, Роман ушел сам, а Зоеньку и Шурку запер на той половине дома, где они ночами ели пирожные. Они сидели, как мышки, но вечером он пришел к ним и взмахом руки приказал Зоеньке – выйди. Она встряхнула головой и, вцепившись в него взглядом, осталась. Тогда он просто схватил ее здоровой рукой поперек тела и вышвырнул за дверь. Захлопнул.
– Детка, смотри, – сказал он, присаживаясь на край стола. – Никто, кроме этих, не знает, что ты… что мы… ну, ты поняла. Кто ты без меня – бродяжка, синькино отродье. Того и гляди в детдом отберут, если раньше не сторчишься и не пойдешь по рукам. А я тебе предлагаю – жить вместе. И я тебя не тороплю… я подожду… немного. Будешь здесь жить, всегда. Хозяйка будешь. Шубу подарю. Машину куплю. Проси чего хочешь. Потом, как в возраст войдешь, – распишемся. Вот те крест! Черный говорит, Аллах не велел… но что мне его Аллах, я его на хую вертел. Кто он такой? А я – я король здесь, кого хочешь нагну. Если люди любят друг друга, то какая разница?.. Ты же любишь меня? Меня любишь?..
Он резко наклонился и схватил ее за лицо, притянул к себе, смотрел бешено. Шурке пахнуло в лицо перегаром.
– Чего хочешь проси, детка, детонька, солнышко мое… Любишь меня?..
Дверь покачалась и хлопнулась об пол, как в обморок. На пороге появилась Зоенька с электродрелью в руках. Зареванная.
– А ну отвали от нее! Козел! Мудло похотливое!
Николай рассмеялся и вышел вон, походя отвесив Зоеньке, с размаху. Она отлетела в комнату, дрель выпала и немного попрыгала на полу, пока не кончился провод.
Шурка сосала леденец и слушала Зоеньку, у которой постепенно оплывал глаз. Зоенька завернула в салфетку лед из холодильника и прикладывала его к лицу.
– Ты же сама говорила – машину купит, – рассудительно возразила Шурка. – А потом распишемся. Платье, значит, купит тоже. Сказал вообще – проси чего хочешь.
Зоенька посмотрела на нее, как на инопланетянина.
– Дура! У тебя месячные еще даже не начались. Он тебя порвет пополам. И он твой папка, вообще-то, если ты забыла…
Она снова заплакала.
Назавтра пришел Николай. Зоенька вымелась сама – дверь все равно вынесена, стояла прислоненной к стене.
Так что она слушала, наверное.
– Ну, – сказал он Шурке. – Чего надумала?
Деточка сидела на диване, подложив под себя ногу.
Щелкала пультом от телика. На экране сменялись каналы – MTV, мультики, новости всякие на русском и других языках. Шубу, говорит, хочу. Колян аж расцвел, потер ладони, зажал меж коленями.
– Шубу! Какую шубу?.. Деточка ты моя…
– Из Вольдемара. У него шкурка такая… приятная на ощупь.
И стрельнула голубыми глазками, курва.
Колян скрипнул зубами. Ну, хорошо.
Честно говоря, она думала, что он ее теперь просто утопит. Под мостом. Потому что Зоеньку она больше не видела, вместо нее пришел новый мужик – тоже азер, но с тусклыми глазами и набухшими венами, с бубонами на них.
Эти бубоны она сразу узнала. Торчок, отморозок. Он схватил ее за руку и, как была, в майке и шортиках, не разрешив взять ни кенгурушку, ни юбочку, ни джинсы, отвел в маленькую каморку без окон, с матрасом на полу, и там запер. Она потеряла счет времени, несколько дней прошло точно. В комнате был кулер, она пила воду. И вот щелкнул замок, отворилась дверь, на пороге стоял Колян. Он шатался. Шурка вскочила, прижалась к стене. Колян ухмыльнулся и кинул в нее чем-то, что пахло зверем и кровью.
Шурка прыснула в угол. Шкура Вольдемара грузно осела на матрас.
– Завтра. – Он погрозил пальцем. – Я приду к тебе завтра.
Ночью пришла Зоенька. Инструменты, видимо, от нее прятали теперь, да и саму ее прятали не иначе как в подвале – фея выглядела изрядно поношенной, побитой и в паутине. У нее не хватало зубов. Но она раздобыла ключ.
Выводя Шурку из дома под Вантовым мостом, она слегка шепелявила:
В Рыбаское себе нельзя. Денег у меня нет. Уходи пешком в город… или… в с-сарае есть лодка. Правда, она худая… просекает!
Мысли у Зоеньки путались.
– Напиши, – говорит, – мне письмо, как доберешься, фамилие мое – Рыбина, Рыбацкое, до востребования. Или найди меня на сайте вКонтакте, там страничка у меня есть.
Вместе они вытащили из сарая лодку, старенькую «Пеллу». Нашли даже весла. Дождались баржи, и Зоя зашла по колена в реку, оттолкнула. Шурка сидела в лодке, пока ее не вынесло, а потом начала подгребать. Она была сильной, маленькая Шурка. Бортовые огни длинной баржи ложились на воду и дрожали в ней. В реке отражались кроны тополей и екатерининская стела. По течению плыли банки из-под «ягуара» и прочий мусор.
Утром второго дня они разглядели в угольной груде какое-то шевеление. Капитан отправил Степана посмотреть.
– Что это? Да шкура какая-то… Собачья, кажись.
Степан пнул шкуру ногой, и из-под нее вылезла беловолосая и чумазая девочка.
_____
Здраствуй, моя дорогая красавица Зоинька. Наша баржа пришла в порт «Высоцк». Он в Финском заливе, недалеке от города «Выборг». Как ты помниш, мне в августе 14 лет, и я получила паспорт. Но я написала что мне 16. И прописка у миня типерь есть, обласная. Степа тоже говорит что женица, но он мне нравица болше, чем Колян. Здесь грузят угол и нефт, а я работаю в столовке. Здесь море, сосны, и еще болше кораблей, чем в Рыбаском. Мне здесь хорошо. Я тебя цалую и желаю щастя. И мой Степа тоже.
Лена ЭлтангПЬЯНАЯ ГАВАНЬ
Пьяная гавань
Деньги кончились в одночасье, как будто я и не крал ничего. Я хранил их в жестяной полосатой модели маяка, подаренной каким-то знакомым – еще в прежние времена, когда в моем доме бывали приличные люди. Однажды утром я сунул руку в маяк, надеясь вытащить несколько банкнот, но выгреб только жирную пыль и старую заначку – самокрутку, потерявшую даже запах конопли.
Еще осенью маяк был полон под завязку, деньги упирались в островерхую крышу со слюдяным окном. Мне честно отсчитали мою долю, и наличными, и камнями, я сразу начал выплачивать долги, выкупил даже квартиру бывшей жены, которую сам же и заложил в две тысячи седьмом. Потом я обзавелся парой костюмов и кашемировым пальто с поясом, давно хотел такое – светлое, как у Хамфри Богарта в «Касабланке», потом познакомился с латышкой из консульства и уехал с ней на взморье, чтобы снять там дачу на лето и пошляться по юрмальским казино. Кредиторам я посылал понемногу, но строго и равномерно, чтобы не вызывать подозрений, латышке сказал, что получил наследство от заграничной родни и что тратить эти деньги в Питере не могу – не желаю, мол, платить налоги российской казне. Латышку звали Анта, что на языке инков означает «медь», но она была не рыжей, а бело-розовой и заливалась румянцем даже при легком матерке.
Но прошло чуть меньше года, и деньги кончились, а приличные камни растворились в счетах и процентах, будто склеенный изумруд в кипящей воде. Камни помельче я давно сложил в коробку из-под монпансье и оставил у жены вместе с ключами от дома Нарочно зашел, когда она была на дежурстве. Она охотно дежурит по ночам, потому что трахается с каким-то хирургом из онкологии, при этом содержать ее приходится мне. Видеться с женой мне не хотелось, она бы завела свою шарманку про другие возможности, а я прямо на стену от этого лезу. У меня больше нет других возможностей.
С тех пор как я ограбил антикварную лавку и отправил ее хозяина на тот свет, мои возможности сузились до темной щели в почтовом ящике. В моем собственном почтовом ящике, на улице Ланской, дом двадцать два. Комнату на Ланской я снял еще до начала весны, припрятанный на черный день алмаз лежал там под кухонной половицей, в куске пробкового дерева. Раньше он лежал в модели маяка, потом Анта засекла тайник, и пришлось искать другое место. Теперь черный день приблизился, пришло время продавать стекляшку, но надежный скупщик не отвечал на мои звонки, и я забеспокоился.
Я знал, что однажды найду там повестку и мне придется убираться из города, я думал об этом каждое утро, просыпаясь в своей комнате с потеками плесени на северной стене и зеркалом, покрытым зеленоватой ртутной сыпью. А может, даже и повестки не будет, ко мне просто придут двое парней из убойного отдела, наденут наручники, пригнут голову рукой, как жеребцу у ветеринара, и запихнут в зарешеченный фургон.
В тот день, когда они пришли за мной, я шел домой с нехорошим предчувствием, сырые облака сгустились над крышами, январское солнце укатилось далеко наверх и тускло сияло оттуда, будто царский гривенник. Я шел пешком с Каменного острова, где навещал одного ловкача, занимавшегося паспортами еще в девяностых и живущего теперь за глухим забором, недалеко от дачи Клейнмихель. Ловкачу я хотел предложить последний камень – самый чистый, без единого включения, в огранке груша – в обмен на чистый паспорт с шенгенской визой и тысяч двадцать наличными. Не застав хозяина дома, я передал охраннику записку и пошел домой, размышляя о том, что мог бы жить в похожем месте, с фонтаном и латунными цаплями, не спусти я свою прошлогоднюю добычу по мелочам. С неба сыпался редкий снег, похожий на свалявшийся пух из старушечьей перины, он лез в глаза и в рот и даже на ощупь казался теплым.
У самого дома я поскользнулся на обледенелом люке и с трудом удержался на ногах, рискуя уронить пакет с двумя бутылками совиньона, купленными для латышки, сам я вина не пью, заботливый Джа не любит соперников. После оттепели ударили морозы, и лед в неубранном городе превратился в черные раскатанные дорожки, по которым брели хмурые прохожие, растопырив руки, будто канатоходцы.
«Тойоту» у подъезда я заметил не сразу, она была такой грязной, что сливалась с покрытым сажей желтым фасадом, за рулем сидел мужик в вязаной шапке, приоткрывший окно, чтобы стряхивать пепел в снег. Разбираться, кто у меня в гостях – милиция или прежние подельники, смысла уже не имело. Неприятности были разного толка, но одинаково свинцовые.
Я решил переждать шухер у соседки-проводницы, надеясь, что она окажется в рейсе; когда-то я прокантовался у нее дня три и с тех пор знал, где она прячет запасной ключ. Дело принимало дурной оборот: кто бы ни были эти люди, они могли поселиться у меня в мансарде и гонять там чаи в ожидании момента, когда у хозяина квартиры кончится терпение. Представив себе латышку, сидящую на кухонной табуретке со связанными руками, я почувствовал, что горло начало саднить, будто от махорки, у меня это признак надвигающегося бешенства. Если это менты, то Анта сидит на табуретке, а если старые знакомые, то она лежит с юбкой, завернутой на голову. Я представил себе ее ноги в голубых чулках, похожие на два клинка раздвоенной мусульманской сабли, и горло у меня окончательно пересохло.
Когда прошлой зимой я положил часть добычи в почтовый ящик, я сделал это не в приступе щедрости, а в порядке надежной инвестиции – то, что попало в руки моей жене, выдрать можно только вместе с руками. Значит, на несколько лет я избавлен от ее писем, звонков и приступов безумия. Теперь она сто раз подумает, прежде чем искать меня, припрячет хабар за пазуху и затаится. Закрыв почтовый ящик на ключ, провалявшийся полгода в кармане моего пальто, я бросил ключ в щель, подумал немного и бросил туда ключ от квартиры. Теперь у меня оставался один дом, одна женщина и один ворованный кристалл углерода, который я собирался продать, чтобы уехать из города. Дом был чужим, женщина шлюхой, а на камне висело мокрое дело, так что, если подумать, у меня оставалось не так уж много. Уезжать надо было как можно быстрее, возле дома на Ланской уже не раз появлялся незнакомый парень в красной стеганой куртке, с беззаботным видом топтавшийся во дворе. Одно время я думал, что он навещает соседку-проводницу, приторговывающую коноплей, но, когда я зашел к ней и задал пару вопросов, оказалось, что парень не из ее клиентов, приблудный пшют какой-то. Или мент.
Завернув в проходной двор, я открыл дверь котельной, тихо спустился по железной лестнице, кивнул сидевшему там в прожженной телогрейке кочегару Тимуру и вышел через дворницкую с другой стороны здания. Квартира проводницы была на третьем этаже; поднявшись по лестнице, я посмотрел на серую «тойоту», уже засыпанную сверху рыхлым снегом, и подумал, что она стоит там не меньше двух часов. На звонок никто не ответил, я постоял немного на площадке, выжидая, потом подошел к перилам у лифта, отвернул голову чугунной змейке и запустил руку поглубже, в самый хвост. Ключ лежал там, где положено. В квартире пахло застоявшейся водой и гнилыми стеблями, я прошел в спальню, обнаружил там вазу с увядшими розами и вышвырнул их в мусорное ведро. Розы были длинные, пришлось согнуть их пополам, уцелевший шип воткнулся мне в ладонь, я увидел каплю крови и вдруг вспомнил, как ровно год назад стоял в чужой комнате и смотрел на кровь, чернеющую в мелких бисерных дырках на лице покойника.
Ювелира я убивать не собирался, я взломщик, а не мокрушник. Мне сказали, что в лавке будет чисто, в квартире над лавкой вообще никого – хозяева уехали на дачу, в Парголово, а охранная система подключена к местному участку, китайское барахло, пластиковая коробка с десятью кнопками. Вход в лавку был защищен ребристой железной шторой, но, как часто бывает, владелец устроил еще один вход – из своей квартиры на втором этаже, и этот вход был попроще, стальная дверь, два прута и дырка в полу. С пультом охраны долго возиться не пришлось, а тусклый брусничный зрачок камеры я заметил еще на улице, когда отпирал входную дверь, она легко снялась с крючка и показала мне провод, тянущийся к серверу.
Будь я ювелиром, скупающим краденое, поставил бы себе немецкую систему со спутниковым сигналом, но тельщик был наглым и уверенным в себе стариком, он даже сейф держал на виду, под прилавком, чтобы далеко не ходить. Я этот сейф полчаса искал – снимал картины со стен и книги с полок в гостиной, забрался с головой под кровать, расчихался, вдохнув серой мягкой пыли, и почувствовал себя киношным жандармом, перетряхивающим жилище курсистки в поисках гектографа и прокламаций.
Сейф оказался в глубине прилавка, и я открыл его в два счета, поиграв с последней клавишей. Вариантов было не так много: мой наводчик-барыга был уверен в девяти первых цифрах, только десятую не смог разглядеть. Открыв дверцу, я выгреб два бархатных мешочка, один прозрачный, с бледно-желтыми камнями, длинную кожаную коробку, в которой лежало колье, обещанное наводчику, и тощую пачку банкнот. Я встал на колени и принялся было рассовывать добычу по карманам, но услышал тяжелое астматическое дыхание, похожее на скрип половицы, и обернулся. Старик стоял прямо за моей спиной с высоко занесенной блестящей штуковиной в руке. Штуковина была тяжелой на вид, размером с колодезное ведро, и изображала грудастую пастушку, пасущую овец на поляне с высокой острой травой, вот этой травой он и собирался меня ударить, но не успел.
Я запомнил его лицо, хотя смотрел на него меньше минуты, – впалые щеки и глаза глубоководной рыбы, круглые от удивления. Еще бы ему не удивляться. Камни были свежие, в сейфе и двух дней не пролежали. Схватив его за руку, я попытался отобрать пастушку, но старик заорал и вцепился мне в запястье зубами. Я разозлился и что было силы толкнул его на пол, пастушка хрустнула и осталась у меня в руке, а серебряная поляна с овцами упала старику на лицо, прямо на широко открытый орущий рот. Стало тихо. Я не сразу понял, что хозяин лавки захлебнулся кровью, и какое-то время пытался заткнуть ему рот рукавом своей куртки.
Глаза старика были открыты и смотрели мимо меня, в потолок, густо заросший гипсовой лепниной, я проследил за его мертвым взглядом и увидел еще один глазок камеры, прячущийся в листве. Возиться с камерой уже не было смысла, сервер я отключил, а диск вынул и положил к себе в карман. С хозяином лавки все обстояло значительно хуже. Выносить его было некуда, да и не в чем, старик был здоровенный и в мусорный мешок поместился бы разве что частями. Я оставил его лежать на полу с серебряной поляной, воткнувшейся в разбитый рот, на бархатной подкладке поляны белела этикетка с ценой: 299999. Пастушку я сунул в карман куртки, закрыл сейф, посмотрел на свои следы на гранитной плитке, взял в чулане швабру, плеснул на пол воды из графина и хорошенько размазал грязь по полу.
Выбрался я через квартиру над магазином, так же как и забрался, спустился по черной лестнице, пахнущей почему-то мочеными яблоками, на первом этаже остановился, вывернул куртку наизнанку, надвинул шапку на глаза и быстро пошел по улице. На проспекте не было ни души, четыре утра – мертвое время, чугунные питерские сумерки, белесый лед под ногами казался мягким и серым, будто оконная вата. У рыбного магазина на углу я столкнулся с заспанным дворником, попросившим у меня сигарету, я покачнулся, уцепившись за его рукав, сунул ему в ладонь всю пачку и пожаловался на блядей с нарочитым восточным акцентом. Вместе с моей трехдневной щетиной этот акцент остался у него в памяти, так что единственный свидетель будет утверждать, что видел подвыпившего кавказца, идущего утром от местной девчонки.