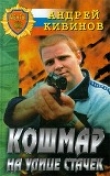Текст книги "Петербург - нуар. Рассказы"
Автор книги: Андрей Кивинов
Соавторы: Антон Чижъ,Андрей Рубанов,Владимир Березин,Павел Крусанов,Лена Элтанг,Вадим Левенталь,Евгений Коган,Сергей Носов,Александр Кудрявцев,Юлия Беломлинская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
– Странноватое, наверное, зрелище со стороны – трое взрослых мужиков с собакой в семь часов утра на площадке со спортивными снарядами посреди спального района.
– Ты должен попробовать, – говорит С. – Вставай сюда.
Пробуем тренажер для совместной ходьбы.
Быстро слезаю.
– Чего-то я реально на измену подсел. С., скажи, что все в порядке.
С. слезает с тренажера.
– Нет, все плохо.
Отхожу в сторону, набираю сестру:
– Алло.
Та же хрипотца.
– Вставай, тебе на работу.
– Да, да. Я уже встала.
Эта хрипотца в ее голосе. Если бы не она…
Гуляем по району. На улице немного легче. К. впереди с Шельмой.
– Ты похож на бейсболиста из шестидесятых в этой куртке «Adidas».
– С., у меня такая мощная паранойя. Никак не отпускает. Главное, я знаю, что все это мой бред. Но остановить его не могу.
– Спальный район. Везде, куда ни посмотришь, серый цвет. Действует угнетающе. Здесь у каждого паранойя.
– Слушай, ты говорил, что у П. с компанией где-то в этом районе репетиционная точка. Где она?
– Вон там.
Машет на здание с круглой башней за рядом многоэтажек. Неряшливо машет.
Дождь и трава – вот что успокаивает. И еще эта ярко-зеленая куртка. Кислотная куртка бейсболиста.
Возвращаемся на квартиру. Сажусь в кресло. Шельма укладывается на диван рядом с рукой и начинает ее лизать.
К. за привычным занятием – забивает косяк.
Раскуриваемся. Потом К. делает кофе, заправляет его, раздает.
Надо позвонить М., но еще рано, она спит. Кажется, если услышу родной голос, это меня спасет. Или уменьшит страдания.
Следующие часы проходят незаметно, перешагивая друг друга.
Пьем кофе, курим штакет за штакетом, играем в игру «Поиск самого дикого видео на ютубе». Правила такие: по случайным ключевым словам находится видео, после просмотра которого запускается следующее, выбранное из тех, что предложил ютуб. И так далее. Доходим до итальянской рекламы штор и восточногерманских агиток. Дальше надоедает.
Некоторые видео откровенно пугают своей дикостью. Жмусь в кресле. Хочется на улицу, там было легче. Замкнутое пространство усиливает паранойю. Хочется уехать, но пока рано. Могут замести. Потряхивает.
– С Пушкиным у меня особые счеты, – говорит К. – Я проиграл ему девушку, в которую был влюблен.
Пушкин продолжает обретать цвет.
– Конечно, не самому поэту. Его дальнему родственнику.
К. подходит к окну
– Вот эта надпись. – Он показывает за окно. – Она меня каждый раз выводит из себя.
Подхожу, смотрю. Большая световая вывеска секонд-хенда.
– И кто придумал им дизайн! Это же дико. Эти цвета. Надо срочно туда сходить.
Собираемся, выходим.
Для десяти часов утра в магазине полно народа. Вещи развешены на вешалках в строгом порядке, и вообще этот секонд отличается от подобных мест, где обычно товар навален кучами.
С. и К. перебирают вешалки. Средняя цена товара – 200 рублей. На штуку выходит целый гардероб. С. присматривается к клетчатым брюкам клеш и матерчатой сумке в стиле Олимпиады-80. К. теряется за рядами одежды. Поверх рядов движутся две головы. У каждой в ухе по белому наушнику. Головы озираются и мониторят обстановку. Движутся навстречу.
Тороплю С., но он основательно увлекся шопингом.
Становится не по себе. Срочно нужно выйти. А вдруг там, на улице, уже ждут? Вдруг на улице принималово? Два-два-восемь. От четырех до восьми.
Точно, таков уговор! К. поймали на сбыте, он договорился: К. и С. накачивают жертву по уши, выманивают на улицу и там сдают с рук на руки. Статистика по району не страдает.
Две головы сжимают круг, спешно иду на выход. Кассирши внимательно провожают взглядом. И они в это вовлечены? Масштабно мыслят ребята. Задерживаю дыхание, делаю лицо «я был готов, вы не застали меня врасплох» и выхожу.
Дождь. Ничего не происходит. Никто не бросается на меня, не заламывает руки, не прижимает к тротуару здоровенной ногой, не извлекает из карманов пакетики с серо-желтым порошком, не орет в лицо. Ничего, кроме дождя. Гуляю под ним, затем возвращаюсь обратно.
Двое с наушниками по-прежнему курсируют между рядами одежды, зыркают по сторонам. В такие моменты начинаешь понимать Филипа Дика.
С. нахожу в примерочной, идем к кассам. С. пробивают сумму вдвое меньшую, чем стоимость покупок. Что это – простая оплошность или плата за услуги? Проверим на выходе. Вновь задерживаю дыхание.
Ничего.
Гуляем под линиями электропередач. Смотрю вверх, черные струны теряются в сером небе. Дождик усиливается, но менее приятным от этого не становится. Хотя трава потеряла тот сочный, яркий, привлекательный вид, дождя хочется все больше. Быть может, он способен остудить перегретый мозг.
Разделяемся. К. уходит за покупками. Мы с С. гуляем по району. Люди косятся на нас.
– Как-то в этот раз не очень, – говорю. – Да и с К. не на одной волне. Хотя он угощает бесплатно. С чего бы это?
– Да. Не знаю, может, так принято. В следующий раз надо и ему взять кислоты.
С. не смотрит в глаза. Что же он скрывает?
– Я тебя спрошу в последний раз. Ты только ответь мне серьезно. Все ли в порядке? Мне не о чем беспокоиться? И П. пошел репетировать, а не в какое другое место.
С. косится:
– Да, все в порядке. П. от нас пошел на репетицию.
– Почему они тогда нас не взяли?
– Должно быть, не хотели, чтобы кто-нибудь им мешал. Хотели сами вырубить спидов.
Ответы С. успокаивают, но ненадолго.
– У нас с тобой классные трипы получались. Помнишь, под Новый год?..
– Да. Должно быть, между нами есть духовная связь, мы подходим друг другу для этих дел. Мы легко попадаем на нужную волну.
Ходим под дождем, совсем промокли. Натыкаемся на К. Идем домой. Колотит, руки в карманах джинсов.
Дома К. возвращается к Пушкину, С. уходит на кухню писать стих.
Иду в ванную, умываю лицо. Вода бархатом устилает кожу. Смотрю в зеркало. Что-то изменилось в лице: заострились ли скулы, появился ли алмазный блеск глаз. Что-то неуловимое, это пугает. Стряхиваю морок.
Звоню М. Берет трубку, бодро отвечает. Спрашиваю, можно ли к ней вечером приехать.
– Конечно приезжай. Я тебя жду.
– Но только если очень вечером.
Спокойствие. Вот оно.
Пытаюсь работать в записной книжке, руки подрагивают, выходит банальщина про любовь и самопожертвование. Но потом внезапно записываю: «Вглядываясь в зеркало, никогда не знаешь, каких чудовищ увидишь».
К. скручивает косяк, заправляет кофе. Надоело бегать в туалет, но кружку беру. К. просит последить по Интернету, правильно ли будет читать поэму «Медный всадник». Вступление читает без запинки.
Ищу стихи на свой вкус Читаю из Маяковского («дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг»), Бродского («ни страны, ни погоста…»), заканчиваю Окуджавой:
Он умел бумагу марать под треск свечки,
Ему было за что умирать у Черной речки.
Плачу.
– Ну-ну. Что-то у вас с носами – С. там шмыгает на кухне, теперь вот ты, – говорит К.
Два часа дня. Спускаться в метро пока рано. Но свалить жизненно необходимо. Здесь стало душно и тесно. Прощаемся.
Мы с С. идем к нему, он недалеко отсюда живет. Идем по длинным, как вены, улицам. Наркотик не хочет покидать тело, потряхивает. Руки в карманах мокрых джинсов.
Перед тем как забуриться к С., гуляем на пустыре вокруг озера Долгого. Пустырь обступают свежие многоэтажки, хотя всего два года назад город здесь заканчивался. Под ногами поплывшая от дождя глина. Одинокая машина, водитель которой с недоумением смотрит вслед. Утки. Рябь на воде переходит в рябь на небе.
У С. отпиваемся зеленым чаем, ведем разговоры на окололитературные темы.
В гости заглядывает П. с девушкой. Она поет в одной из уральских групп, которую в числе прочих относят к волне новой музыки. Все очень на спидах, зрачки во всю радужную оболочку. Присматриваюсь к П. – сейчас он меньше всего похож на человека, способного на то, что нарисовало мое воображение. Играет роль? А на самом деле все дела уже обделаны и его послал К., чтобы меня успокоить?
– Хочешь амфетамина? – спрашивает П. в коридоре.
– Нет. Я им и так по самые уши загружен.
Говорим о музыке, о шульгинской кислоте, о просветленных состояниях. Девочка воодушевленно рассказывает о своих опытах с веществами.
Захожу в ванную, проверяю зрачки. Хотя бы выгляжу не как человек с кровоизлиянием в глаз. Можно ехать.
На улице по дороге к метро собран, сосредоточен и готов ко всему. В этой зеленой куртке, с высушенным кислотой мозгом чувствую себя древним викингом, только что сожравшим мухомор и пробирающимся через неизведанные земли.
Хочу оказаться скорее дома и убедиться, что все в порядке. Но в таком прожженном состоянии там появляться нельзя. Еду к М. на Петроградку. Это меньшее из зол. Из метро С. пишу СМС: «Мы выше одноклеточных. Люди в метро ненастоящие – типичные образцы для наркомана. Давай будем выше этого». Думаю, это мой «банан».
Девять вечера. М. радостно встречает в дверях. Проходим в ее комнату. Она садится мне на колени. Смотрит в глаза:
– Красивые у тебя глаза.
Молчу.
– Как повеселился?
Молчу.
– Как провел ночь?
– Я еще не ложился.
– Ага.
Она внимательно изучает мое лицо.
– Ну и сколько капель на этот раз сожрали?
– Две.
– Ага, понятно.
М. отворачивается. Волнистые волосы закрывают ее лицо. Она вздрагивает. Хочу ее обнять, но она отстраняется. Долго молча сидим.
– Я не ел ничего со вчерашнего нашего ужина в кафе.
– Пойдем, накормлю тебя. Драконья морда.
М. вытирает слезы. На кухне готовит чудесную яичницу с белым хлебом и помидором. Наливаю себе коньяка.
– Это чтобы сняться.
М. молчит. Проглатываю пятьдесят грамм коньяка и еле успеваю доесть яичницу. Начинает вырубать. Дотаскиваю свое тело до кровати, раздеваюсь, падаю и сразу засыпаю.
Спустя несколько часов просыпаюсь от запаха табака. Осторожно открываю глаза.
Тишина. Глубокая ночь. Включена настольная лампа. Распахнуто окно. М. сидит на широком подоконнике и медленно и очень эротично курит сигарету. Алый огонек виден сквозь воздушную полупрозрачную штору. Не могу вспомнить, когда последний раз видел ее с сигаретой.
Павел КрусановВОЛОСАТАЯ СУТРА
Мойка, 48
– Пентаграмма, – сказал Семён Матвеев и стал у стола, опираясь рукою о глобус. – Клянись: пентаграмма, ей-чёрту! И открою великую тайну.
Борис Пильняк. Голый год
Существо человека Демьян Ильич схватывал чётко: смотрел на персик и видел косточку. Так был устроен. Одних занимает вопрос: кто ты, человек? Других: на что ты способен? Демьяну Ильичу хотелось знать: кто в тебе сидит?
Кто сидел в этой деве, он, разумеется, знал. Манеры её были такого рода: с незнакомыми людьми и с теми, кто был ей приятен или хотя бы не очень противен, она держала себя мило и приветливо, но для иных про запас имела норов, и если воспитание не позволяло ей без повода ударить гадёныша по лицу, то клюнуть его в затылок ей ничто не мешало. Для неё Демьян Ильич был гадок. Он понимал: грациозное и глупое создание. Но поделать с собой ничего не мог.
Что она ему? Когда Демьян Ильич видел её, в нём оживали странные противоречия. «Мой ум созрел для зла…» – с внутренней усмешкой думал он. И в то же время ему хотелось нежно трогать её, поглаживать и даже, может быть, попробовать лизнуть эту по-девичьи припухлую, покрытую нежным абрикосовым пушком щёку. Это было так просто, это было так страшно… При подобных мыслях сердце Демьяна Ильича тяжело надувалось, кровь вязко густела, и в груди хранителя делалось тесно и жарко. Ну что же, если нельзя быть вместе, то можно быть рядом… И в голове его рождался план. Прихоть? Он не поступал по прихоти, это было не в его правилах, но тут особый случай – чувств своих Демьян Ильич смирить не мог. Если нельзя быть вместе, то можно быть рядом… План складывался шаг за шагом – такие люди, в ком оживают несмиряемые чувства, становятся чудовищно изобретательны. План поспевал, ворочаясь в мозгу среди горячих мыслей, как стерлядь в вареве ухи. Он поспевал. Он складывался. Он сложился. Нет, Демьян Ильич не желал ей той же участи, какой одаривал других. Но как иначе? Она останется и будет с ним. Так, этак ли он не отдаст её…
– Гхм-м… – прочистил хранитель заржавелое горло.
И через царящий в доме кавардак – привычный и уже удобный – отправился в ванную совершать туалет. Ведь и самую прекрасную новость способен убить запах изо рта вестника.
Взять хотя бы утконоса. Дела его плохи – неспроста он угодил в Красную книгу МСОП, а это значит, что законным путём приобрести зверька в виде экспоната (чучело) музею практически невозможно. Во-первых, добыча утконоса в Австралии запрещена и по австралийским законам сурово наказуема. Во-вторых, запрещён и сурово наказуем вывоз незаконно добытого утконоса за пределы Австралии. В-третьих, в соответствии с целой гроздью международных конвенций и договоров, попытка ввоза преступно добытого и незаконно вывезенного из Австралии утконоса в большинство стран, чтящих правила мирового общежития, тоже запрещена и наказуема. Тройной кордон. Конечно, можно попробовать найти чучело на вторичном рынке, но предложения там довольно ограничены, и утконос, скорее всего, будет сед от пыли и трачен молью. Конечно, существует практика межмузейных обменов, но это привилегия крупных учреждений с богатыми фондами. Конечно, есть покрытые мраком пути нелегальной коммерческой зоологии, но…
В здешнем заведении за стёклами старинных витрин красовались целых три чучела утконоса. Недурно для небольшого – в один тесно заставленный зал – музея при кафедре зоологии университета носящего имя вполне приличного писателя, которому декабристы поломали жизнь, разбудив в нём революционного демократа Коллекция музея начала формироваться ещё в позапрошлом веке при Женских естественных курсах гимназии Лохвицкой-Скалон, а в 1903-м музей переехал сюда на набережную Мойки, в новоиспечённый Императорский Женский институт. С тех давних времён музейные витрины хранили два особо редких экспоната чучело трёхцветного ары (Ara tricolor), вымершего кубинского попугая, последний экземпляр которого был подстрелен в 1864 году на болоте Сьенага-де-Сапата, и могучего жука-усача Xixuthrus heyrovskyi. Красавец-попугай пострадал за своё великолепие – перо его пошло на дамские шляпки, а когда хватились, восстановить поголовье или хотя бы сохранить некоторое количество особей в неволе оказалось уже невозможно. Жук-усач, запертый под стекло в энтомологической коробке, был бурый, разлапистый, как корень мандрагоры, и к настоящему времени тоже вымер. Некогда он обитал на островах Фиджи, где туземцы лакомились его толстыми, продолговатыми, точно любезно изготовленные самой природой колбаски, личинками. В итоге аборигены, не чувствуя меры вещей, сожрали всю популяцию вида.
С 1909 года на протяжении четверти века здешней кафедрой зоологии заведовал знаменитый профессор, учёный с мировым именем, – при нём музей серьёзно пополнил фонды и стал едва ли не лучшим вузовским музеем страны. Среди редких и экзотических объектов удивлённого посетителя встречали тут покрытый коричневой костяной чешуёй, как огромная еловая шишка, африканский ящер панголин, иглистый мадагаскарский тенрек, семипоясный и девятипоясный броненосцы из пампасов Южной Америки, австралийская ехидна, американский трёхпалый ленивец и четырёхпалый муравьед тамандуа… Фантазия составителей средневековых бестиариев бледнела рядом с этими существами, как бледнеет извлечённая из пучины медуза, светившаяся во тьме, но погасшая на свету Список экзотов, однако, на перечисленных экспонатах не заканчивался. В антикварных витринах и на полках застеклённых дубовых шкафов выкатывали круглые глаза лемуры и фавны, кривлялись мартышки-гусары, дрилы, гверецы и игрунки. Что уж говорить про белых и бурых медведей, каланов, коала, летучих лисиц, варанов, крокодилов, моржей, ламантинов и дюгоней… А птицы? А заспиртованные аскариды и цепни в толстых стеклянных колбах? А моллюски? А иглокожие и морские звёзды? А энтомологический отдел? А рыбы? А губки? А рептилии и амфибии? А морские членистоногие? А рога и головы копытных на стенах под потолком? Всё за один раз не могли объять взгляд и вместить память. Целиком коллекцию не удалось бы втиснуть в пределы отведённого пространства, поэтому часть экспонатов была выставлена в учебных аудиториях. Может, для Иного музея – фи, крохи, а для другого – законный повод для сдержанной гордости…
Случайная публика здесь не водилась: изредка приходили группы любопытных студентов, удивляли собранием приехавших на очередную конференцию гостей, время от времени ректорат распоряжался показать нужным людям музей как объект, включённый в список наиболее ценных достояний вуза, – вот, пожалуй, и всё. В остальное время двери музея были по большей части заперты, а ключ находился в распоряжении угрюмого Демьяна Ильича, третий год исполнявшего должность хранителя фондов. Ещё имелась в распоряжении хранителя каморка с верстаком, инструментами и вместительной морозильной камерой. За верстаком он производил мелкий ремонт экспонатов, а в холодильнике, в ожидании ножа чучельника, хранил материал – шкуры и тушки зверей и птиц, добытые по случаю или преподнесённые в дар заведующим кафедрой, иной раз промышлявшим ружьём. Там, в каморке либо за закрытыми дверями музея, среди витрин, Демьян Ильич отсиживал рабочие часы в первобытном одиночестве, как Адам в объятом мёртвым сном Эдеме.
– Затмение какое-то… Из головы вон… – каялась лаборантка Лера, и ресницы её за стёклами очков взмывали и опускались, как перья опахала.
– Нет, не затмение, – гремел Цукатов. – Хуже – халатность, чёрт дери.
– Казните меня, казните – виновата…
– Из всех паразитов, пожирающих человека, после предательства я больше всего не терплю червя халтуры – плохо сделанную работу, выдаваемую за сделанную как надо, – выговаривал профессор Цукатов Лере за скверно составленную заявку на реактивы, материалы и лабораторную посуду. – Внутри меня разливается чёрная желчь, когда я вижу на экране какие-нибудь «Войны жуков-гигантов». Да, первоклассная техника. Да, отличная съёмка И что же? Там есть пауки и сверчки, богомолы и скорпионы… есть осы и муравьи, сколопендры и кузнечики… есть, чёрт дери, крабы и тигровые пиявки – нет только жуков-гигантов! Вообще никаких жуков! И вместо толкового комментария – полуграмотная трескотня! Деляги от профессии, тягающие карася на стороне! Их пожрал червь халтуры! Развратила аудитория невежд, не только не желающих учиться, но требующих низведения знания до собственного мышиного уровня!
Доктор биологии профессор Цукатов был паразитологом, крупным специалистом по нематодам. Черви грезились ему повсюду и во всём. За годы работы нематоды, эта крошечные создания, свили гнёзда в его мыслях, разрослись до огромных размеров и набрали такой вес, что они, эти мысли, отяжелев, плыли по глади его сознания, как плыли по Ладоге в строящийся Петербург баржи, гружённые пудожским камнем, – медленно и неотвратимо. Уже сами мысли казались ему червями, паразитирующими в человеке и заставляющими хозяина действовать сообразно их, червей, нуждам.
– Я поняла, я всё исправлю… – хлопая пушистыми ресницами, каялась статная Лера. Она была виновата, но считала, что заслуживает снисхождения – её измотал затеянный дома ремонт, который, как ей казалось, и стал виновником этой несмертельной промашки. – Два эксикатора, пипетки, пробирки с крышкой шестнадцать на восемнадцать, парафиновая лента, этил ацетат, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – поправлял Цукатов.
За окном кабинета заведующего кафедрой зоологии шёл первый в этом году снег. Он запорошил двор, облепил огромные дубы, поднявшиеся выше четвёртого этажа, и кружил над чёрной водой Мойки, страшась коснуться её посверкивающего опасного глянца. Летом зелёные кроны закрывали часть пейзажа, и воды не было видно. Сейчас, пока ещё не схваченная льдом, она чернела за ветками деревьев и оградой набережной, медленная и покатая. В сочетании со свежей охрой зданий чистый снег выглядел празднично, как в памяти детства.
Взгляд Цукатова ещё сверкал, но буря отступила: дух праведного гнева покидал профессора, возвращая его в обычное состояние педантичной строгости – не ищущей жертву нарочно и даже добродушной по существу. Цукатов заведовал кафедрой, но он был мужчиной, крепким и не старым, и, как мужчина, готов был прощать женщине за приятность форм грех мелкой нерадивости.
– Пробирки центрифужные, бюретки с краном, стрип-планшеты, – бормотала Лера, – пинцеты гладкие и пинцеты с зубом, спирт, серный эфир…
– Серный эфир не надо, – терпеливо поправлял Цукатов.
Дверь кабинета без стука отворилась, и на пороге появился профессор Челноков – приземистый, плотный и, несмотря на давно разменянный седьмой десяток, по-юношески энергичный. Он только что отчитал пару и был возбуждён от влившихся в него токов молодых энергий. Известный орнитолог профессор Челноков любил общаться с молодёжью, и молодёжь отвечала ему взаимностью – добрых шесть поколений студентов звали его между собой Главптицей. Челноков мог похвастать отличной памятью, но со временем свойства вещей начинают хромать – он помнил кучу историй из своей и чужой жизни, однако порой забывал, кому и сколько раз их уже рассказывал. В своё время Цукатов учился у Челнокова и тоже за глаза называл его Главптицей. Теперь Цукатов делил с ним кабинет заведующего кафедрой, рабочие столы их стояли рядом на низком, в одну ступень, помосте у окна, отгороженные от остального пространства шкафом и невысокой деревянной балюстрадой. Соседство их сложилось хоть и вынужденно (в кабинете Челнокова шла какая-то нескончаемая перестройка), но по взаимной приязни. Кроме того, в недалёком прошлом Челноков сам заведовал кафедрой зоологии, однако по причине возраста оставил должность.
– А ведь у нас в музее – ни одного пгиличного пгимата. То есть… э-э… человекообгазного, – изящно картавя, вернулся к прерванному лекцией разговору Челноков. Речь шла о том, как наилучшим образом использовать на нужды музея внезапно образовавшиеся деньги. – Сплошь макаки и пгочие мелкие хвосты. Ни гогиллы, ни огангутанга. Пгекгасного и гыжего, как мандагин. Нехогошо.
– У нас много чего нет, – сказал Цукатов. Сам он предполагал усилить экспозицию рептилий и подумывал о слоновой черепахе с далёких Галапагос. О чём и сообщил.
– Слоновая черепаха нам кто? Сват? Бгат? – парировал Челноков, извлекая из шкафа, приспособленного под буфет, банку с кофе. – А шимпанзе – годня. Можно сказать, шестая вода на киселе. – И тут же Лере: – Будешь кофе?
Цукатов сжал губы в нитку: он был сторонником иерархии, не любил смешение чинов и с подчинёнными, как и с начальством, предпочитал оставаться на «вы», рассчитывая, что и те в ответ не допустят в его отношении панибратства. Особенно начальство. С какой стати? Профессор Цукатов расположения начальства не искал, знал себе цену и считал её высокой.
– Нет, – продолжал воодушевлённо Челноков, – в пегвую очегедь надо думать о пгиличном пгимате. Э-э… человекообгазном. Быть может, даже выгогодить угол под семейное капище – как в китайской фанзе. – Челноков уже фиглярил. – У меня дочка летала в Цзянси. Э-э… Китайцы у себя дома, в специальном уголочке, на капище с пгахом пгедков агоматы кугят… и говогят с ними, с пгедками, по-китайски о насущных делах. Девицы о женихах, – Челноков подмигнул прыснувшей в ладошку Лере, – отцы семейств о видах на угожай и о газумном газмещении валютных вкладов…
Аргументы Челнокова были легкомысленны, пусты, безосновательны, собственно, это были и не аргументы вовсе. Но Цукатов слушал коллегу и чувствовал, что против солидного чучела обезьяны ничего не имеет, что, может, это даже вернее, чем чучело черепахи, поскольку проректор по науке в администрацию ушёл с биофака и в своё время, будучи действующим зоологом, участвовал в каком-то дурацком проекте по акклиматизации шимпанзе в Псковской области. Стало быть, имеет к человекообразным тёплые чувства. И формальности рушатся легче.
С тех пор как статус университета возрос – министерство признало его одним из ведущих вузов страны, – картина финансирования заметно изменилась к лучшему. Научные проекты кафедры выигрывали грант за фантом, удалось неплохо оснастить новую лабораторию… Кое-что перепадало и музею. Тут-то и понадобился хранитель – специалист музейных дел, в обязанность которого входили заботы о пополнении фондов, реставрации старых экспонатов и музейной мебели.
Демьян Ильич имел отменные характеристики – успел поработать даже в Зоологическом музее РАН. Цукатов специально ездил на Стрелку Васильевского и справлялся о соискателе у замдиректора Зоологического музея, с которым водил знакомство. Тот Демьяна Ильича аттестовал как специалиста серьёзного, знающего дело, хотя как человек он был не подарок – угрюмый и замкнутый. С коллективом Демьян Ильич сходился тяжело, чем-то неприятно настораживая людей, почему и не приживался надолго на одном месте, зато имел свои, тайные (но вполне бюджетные) пути добычи материала для экспонатов, вплоть до самого редкого, почти невероятного, и обладал навыком выделки чучел, недурно оценённым штатными таксидермистами музея.
Угрюмый характер будущего сотрудника Цукатова не пугал – ему, стороннику иерархической дистанции, тёплые отношения с сослуживцами были ни к чему, главное – дело, а разговаривать с людьми и добиваться от них дела он, по собственному убеждению, умел. Цукатов и впрямь был из тех, кому не надо играть желваками на скулах и хрустеть суставами пальцев, разминая кулак, – и без того все видели, что он крут. К месту было и умение Демьяна Ильича раздобывать необходимое – пора обновлять и развивать здешнее музейное собрание. Вот только добываемый им материал – туши, шкуры, а равно и готовые чучела, – как правило, не имел сопроводительных документов. Но и это обстоятельство Цукатова не смущало – работая с коммерческими фирмами, поставившими в своё время в музей коллекцию раковин морских моллюсков и стеклянный куб с экспозицией насекомых и арахнид Юго-Восточной Азии, он получал от них недвусмысленные предложения оформить документы на любого зверя, вплоть до диплодока, добытого на сафари в болотах Экваториальной Африки. Разумеется, за умеренную плату. Через открываемые ими конторы-подёнки можно было обналичить и выделяемые на приобретение экспоната казённые деньги, так как по каналам Демьяна Ильича плавал только чёрный нал. Приняв в штат хранителя, профессор Цукатов дважды услугами этих контор уже пользовался. В первый раз, когда Демьян Ильич по его просьбе достал замечательное новенькое чучело самки аллигатора – такое огромное, что его пришлось разместить сверху, под потолком, на музейном шкафу, напротив пристроенного подобным же образом сивуча. А во второй – когда Демьян Ильич в порядке личной инициативы предложил приобрести для музея свежее чучело павлина взамен истрёпанного за столетие старого.
Профессор Цукатов подошёл к окну и некоторое время смотрел на снег, на побелевшие деревья, на запорошенный стеклянный купол атриума торгового дома за Красным мостом, на протоптанные по двору студентами цепочки чёрных следов, на небо, обещавшее ранние сумерки, но уже не мрачные, а подсвеченные расстеленной повсюду пушистой зимой. Внутри его плавно и широко разливался покой заснеженной земли.
– Китайцы в плане кухни большие озогники. – Не прерывая речи, Челноков снял с подставки клокочущий чайник. – Я в их гестоганы ходить побаиваюсь. Заметили – у них довольно кгупные общины в наших гогодах, однако совсем нет кладбищ. Как думаете, почему?
– Пригласите ко мне Демьяна Ильича, – обратился Цукатов к Лере, уже понявшей, что она прощена, и шурующей в шкафу в поисках кофейной чашки. Потом повернулся к Челнокову: – Да, шимпанзе. Пожалуй, шимпанзе. Так будет лучше.
_____
Неприбранность жилища Демьяна Ильича ничуть хозяина не волновала и по существу была чистой видимостью – каждая вещь здесь знала своё место. Протяни руку – и она уже в ладони. Брось – и легла туда, откуда взял. Инструменты столярные и скорняжные, склянки с кислотами, солями, щелочами, квасцами, лаками и мышьяковым раствором, формы для гипсовых отливок тонких лодыжек (дистальных отделов ног) каких-то копытных, россыпи стеклянных глаз с ручной росписью радужки и бликом в зрачке, баллоны монтажной пены, клеи, тряпки, обрывки шкур, перья… Демьян Ильич в чучельном деле был алхимик, как Гварнери в скрипичном. Он изобрёл особый раствор для консервации свежего материала, чудесный состав на́мази для пикелевания птичьих шкур и выделочный раствор для шкур зверей, изменяющий свойства мездры, делающий шкуру эластичной и неподвластной плесени и грибку. Много загадок отгадал он в своём ремесле, много знал особенных ухваток, таких, что оставались для других непостижимыми. Отмока, расчистка мездры от прирезей мышц, обработка очинов перьев, обезжиривание и мытье, пикелевание, сушка и отволаживание – на каждый шаг в деле он имел свой секрет и тайный ключ. Мех на выделанных им шкурах лоснился и не редел, перо никогда не выпадало. Рецепты его обработки, тёмные тропы потаённого искусства, ускоряли дело впятеро, а то и вдесятеро. Другому мастеру в такой срок шкуру не выделать, а смонтируешь зверя или птицу с невыделанной – загниёт, провоняет и посыплются мех и перо. А если не загниёт – не избежать ссыхания шкуры на чучеле, искорёженных форм, лопнувших швов и загибания пришовных краёв над обнажённым манекеном, которые не исправить никакими бандажами и креплениями. У Демьяна же Ильича и в короткий срок всё выходило превосходно – угрюмой благодатью снизошёл на него гений ремесла.
– Инволюция… Гхм-м… – Указательный палец хранителя возносился ввысь. – Инволюция… Да… Из ангела родится змей, а не обратно…
Он говорил сам с собой в минуты, когда настроение его становилось цветным. Демьян Ильич придумал наконец, как заманить чертовку в логово. Она придёт сама – ремонт затеяла, а он исподтишка сосватал ей потолочного мастера. Подложного – сквернавца одного из столярки музея на Стрелке, жадного до денег и глупого как табуретка. Тот приведёт её к Демьяну Ильичу, как будто показать работу, мол, днями натянул тут потолок – пойдёмте поглядим и убедимся в его необычайных совершенствах… А с мастером Демьян Ильич потом сочтётся – позовёт к себе расплатиться и разбудит в нём хоря.
Лера недолюбливала и немного побаивалась хранителя музейных фондов. Взгляд у Демьяна Ильича был острый, жалящий, брови густые, лохматые, лицо желтоватое, костяное, характер нелюдимый, скверный. Однажды, встретившись с ним в коридоре у дверей генетической кухни, где увлечённые наукой студенты варили кашу дрозофилам, Лера машинально улыбнулась ему большим ртом и махнула под очками ресницами. И, уже разминувшись с хранителем, услышала вслед: «Гхм-м… Знатный страус». Уши у Леры покраснели, по спине побежали нехорошие мурашки. Неслыханный хам!