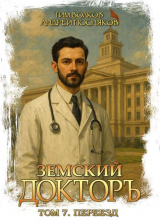
Текст книги "Переезд (СИ)"
Автор книги: Андрей Посняков
Соавторы: Тим Волков
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Глава 21
Наверное, нужно было бы зайти к Семашко, обсудить дела. А потом и Валдису заскочить. А потом уже и к Анне, домой, отдыхать, само собой. Все-таки август, а в августе так приятно лежат вечером на кровати с любимой женой, с распахнутыми окнами и слушать птиц…
Но все планы на вечер изменило одно письмо.
Заводской день выдался на редкость спокойным. Ферментеры гудели ровно, лаборанты, уже набравшиеся опыта, уверенно проводили замеры, а в цехе экстракции вовсю пахло сладковатым запахом амилового спирта – верный признак того, что очередная партия пенициллина уже скоро будет готова. Иван Павлович даже позволил себе погрузиться в расчеты по оптимизации выхода лизина, как в кабинет вошел секретарь.
– Иван Павлович, вам письмо. Из Московского хирургического госпиталя. Нарочный ждет ответа, говорят, очень срочно.
Сломав сургучную печать, доктор пробежал глазами по знакомому убористому почерку профессора Воронцова.
«Уважаемый Иван Павлович! Срочно требуются ваши глаза и ваше мнение. Поступила партия раненых с Северного фронта, случаи сложные. Ваш приезд крайне необходим. Жду Вас.»
Тревожный холодок пробежал по спине. Воронцов, старый военврач, прошедший Русско-Японскую и всю Великую войну, слов на ветер не бросал. Если пишет «срочно» и «сложный» – значит так оно и есть и дело плохо.
Пришлось менять планы, хотя надежды провести вечер с Анной Львовной все еще не таяли.
Через полчаса «Минерва» уже лихо заворачивала к знакомому зданию госпиталя. Обычная размеренная жизнь лечебного учреждения была нарушена. По коридорам сновали санитары с носилками, доносились сдержанные стоны, в воздухе висел тяжелый дух йодоформа, пота и крови.
Профессор Воронцов встретил его в своем кабинете. Лицо профессора было серым от усталости, но глаза горели напряженным, профессиональным огнем.
– Иван Павлович, спасибо, что откликнулись и примчались. Извините, что оторвал от дел. – Он ткнул пальцем в разложенные на столе истории болезней. – Вот, прибыли с Мурманского направления. Транспорт с ранеными попал под артобстрел. У большинства – не просто огнестрельные ранения, а сложные оскольчатые переломы бедра и большеберцовой кости. Кости раздроблены, фрагменты смещены.
Иван Павлович кивнул, мысленно представляя себе эту кошмарную картину. Без современной аппаратуры собрать такую кость – ювелирная работа.
– Я понимаю, – сказал он. – Но я же оставил вам подробную карту применения пенициллина для профилактики сепсиса при таких ранениях. Дозировки, схемы…
– И мы уже начали ее применять, и низкий вам поклон за это! – мягко перебил его Воронцов. – Но пенициллин, коллега, спасает от гангрены и заражения крови. Он не склеит осколки кости. А без этого… – профессор тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. – Без этого их ждет либо ампутация, либо пожизненная хромота и инвалидность. Молодые парни, Иван Павлович! Стране нужны они здоровыми.
– Что вы предлагаете? – прямо спросил Иван Павлович, догадываясь, к чему клонит старый хирург.
– Иван Павлович, вы хирург от бога. У вас нестандартных и уникальных идей, прорывных и дерзких – просто уйма в голове!
– Будет вам!
– Так и есть.
– И все же…
– Хирургический остеосинтез, – ответил профессор. – Вот что я хочу. Скреплять осколки механически. – Воронцов подошел к шкафу и вынул оттуда несколько странных предметов, завернутых в стерильную марлю. С металлическим лязгом он выложил их на стол. – Вот.
Иван Павлович взял в руки один из предметов. Это была пластина из тусклого, желтоватого металла с аккуратными отверстиями для шурупов. Рядом лежали несколько толстых металлических штифтов-гвоздей.
– Латунный сплав, – пояснил Воронцов. – Есть и стальные, и даже серебряные. Метод не новый, имманжелы применяли еще в прошлую войну, но… – он многозначительно посмотрел на Ивана Павловича.
– Но слишком высок процент осложнений, – закончил мысль Иван Павлович, с профессиональным интересом вертя пластину в руках. – Нагноение вокруг инородного тела, металлоз, отторжение. Без эффективной антибиотикотерапии это была лотерея, где выигрыш – сросшаяся кость, а проигрыш – сепсис и смерть.
– Именно так! Я же говорю, что вы зрите прямо в корень! – голос Воронцова дрогнул от волнения. – Но теперь-то у нас есть ваш пенициллин! Мы можем подавить инфекцию! Мы можем поставить эти операции на поток, сделать их рутиной, а не героической попыткой! Я уже провел две таких операции. Но я взял самые легкие случаи. Пока все стабильно.
– Так…
Воронцов глянул ему прямо в глаза.
– Иван Павлович, я не могу один. Мне нужна ваша помощь, ваш авторитет, ваш… ваш взгляд. Вместе мы можем создать здесь, в этом госпитале, первый в России специализированный центр травматологии и ортопедии. Спасти не десятки, а сотни и тысячи конечностей! Я уверен, вы разбираетесь в этом очень хорошо.
«Разбираюсь», – подумал Иван Павлович и, отложив пластину, прошелся по кабинету. Мысли неслись вихрем. Он смотрел на эти примитивные, с точки зрения его времени, импланты, и видел за ними сломанные жизни. Профессор был прав. С пенициллином они получали в руки недостающий пазл. Они могли совершить прорыв не только в фармакологии, но и в хирургии.
Но ведь есть и обратная сторона медали – есть риски. Из чего делать протезы? Латунь? Медь и цинк, которые будут окисляться в тканях. Сталь? Она будет ржаветь. Нужны инертные сплавы. Ванадиевая сталь? Или… Он мысленно перебрал доступные материалы.
«Ниобий? Нет, его добыча и обработка… Вольфрам? Слишком тяжел и хрупок. А если попробовать чистый тантал? Он химически инертен, как стекло. Но где его взять? Производство дико дорого.»
Он остановился у окна, глядя на санитаров, выносивших из палатки окровавленные бинты.
– Вы правы, Александр Петрович, – тихо сказал он, оборачиваясь. – Шанс есть. Но мы должны подойти к этому с научной, почти аптекарской точностью. Нам нужен правильный металл. Инертный. И чтобы стоимость производства его была не заоблачная. Также нам нужны инструменты. Специальные дрели, отвертки, шаблоны для сверления. Это должна быть не кустарная мастерская, а производство.
– Я знал, что вы меня поддержите! – просиял профессор. – Я уже договорился с инженерами с завода «Богатырь». Они готовы взяться за изготовление инструментов по нашим чертежам… по вашим чертежам, Иван Павлович. А по металлу… Я слышал, на бывшем заводе Гужона есть опытные партии нержавеющей стали. Мы могли бы испытать ее.
– Хорошо, – кивнул Иван Павлович, подивившись такой инициативности профессора. – Давайте начнем. Но с условием: первые десять операций мы проведем вместе. Я буду ассистировать вам. Мы составим протокол на каждого больного, будем вести дневник наблюдений, фиксировать малейшие изменения. Мы должны быть уверены на все сто, прежде чем тиражировать метод.
Лицо Воронцова озарилось такой радостью, что стало похоже на лицо ребенка.
– Согласен на все условия, Иван Павлович! Вы только покажите, научите. А уж я и другим докторам передам. Идемте, я покажу вам первых пациентов.
– Что, прямо сейчас⁈ – удивленно воскликнул Иван Павлович, поглядывая в окно, за которым уже царила ночь.
– Там очень тяжелые больные, – совсем тихо произнес профессор. – Некоторые и до завтра уже не доживут. На вас вся надежда.
Пришлось идти.
Они вышли из кабинета и направились в палату. Иван Павлович шел, смирившись с предстоящей бессонной ночью и уже обдумывая, какую именно марку стали можно считать наиболее биосовместимой в этих условиях, и где раздобыть хотя бы несколько килограммов тантала для экспериментов. Одна битва постепенно перетекала в другую, и на этот раз его оружием должен был стать не шприц с антибиотиком, а скальпель и кусок холодного металла.
* * *
Госпитальный коридор казался бесконечным. Профессор Воронцов шел быстрым, энергичным шагом, его белый халат развевался, и профессор походил на какого-то супергероя из комиксов. Иван Павлович едва поспевал, чувствуя, как усталость от заводских забот накатывает новой волной, теперь уже – хирургической.
– Вот они, коллега, – Воронцов распахнул дверь в большую палату, где в несколько рядов стояли железные койки. – Цветы войны. Самые сложные случаи.
Воздух здесь был густым и тяжёлым, наполненным тихими стонами, прерывистым дыханием и тем специфическим запахом гниющей плоти и антисептиков, который Иван Павлович ненавидел всей душой.
Они подошли к первой койке. Молодой парень, бледный как полотно, с заострившимся носом, смотрел в потолок стеклянными глазами. Его левая нога ниже колена была забинтована в неуклюжий, просочившийся сукровицей кокон.
– Красноармеец Степанов, – тихо, для одного Ивана Павловича, пояснил Воронцов. – Осколочное ранение голени. Раздроблена малоберцовая, большая берцовая – по типу «бабочки». Пытались репонировать в полевом лазарете, но… – Он многозначительно хмыкнул. – Теперь вторичное смещение, начинается нагноение. Ампутация – вопрос двух-трёх дней.
Иван Павлович кивнул, молча поднял температурный лист. Лихорадка. Организм проигрывал битву.
– Что скажете? – с другом сдерживая любопытство, спросил профессор.
Иван Павлович не ответил. Вместо этого аккуратно размотал бинт. Картина открылась безрадостная: нога распухшая, синюшная, с несколькими зияющими ранами, из которых сочился гной. Но самое страшное было видно на свежей рентгенограмме, которую профессор достал из картонного футляра – кость была разломана на несколько крупных осколков, беспорядочно наложившихся друг на друга.
– Так… понятно… Следующий, – сдавленно сказал Иван Павлович, не в силах больше смотреть на мучения юноши.
Вторым был мужчина постарше, с обветренным, осунувшимся лицом. Он лежал, сжимая зубы, но в его глазах стояла не боль, а какая-то обречённая ярость. Его бедро было неестественно вывернуто и укорочено.
– Командир взвода, Кожемяко, – отчеканил Воронцов. – Пулевое, бедро. Пуля прошла навылет, но кость… – Он провёл пальцем по снимку, где бедренная кость была расколота вдоль, как полено. – Интерпозиция мягких тканей. Самостоятельно не срастётся. Классический случай для штифта.
Третий пациент был без сознания. Юное, почти детское лицо, покрытое каплями пота. Правое предплечье – сплошная грязная повязка.
– Снайпер. Безымянный, документов при нём не было, – голос Воронцова дрогнул. – Мина. Лучше бы убило сразу. Лучевая и локтевая кости превращены в мелкую крошку на протяжении семи сантиметров. Кисть висит на лоскутах.
Иван Павлович отошёл к окну, глядя на госпитальный двор. Трое. Трое молодых, сильных мужчин, которых ждала либо смерть, либо инвалидность. И он держал в руках ключ. Рискованный, несовершенный, но ключ.
– Есть небольшой запас протезов… – сказал Воронцова.
– Хорошо. Берём всех троих. Сейчас. Пока не поздно. Начнём со Степанова. Ему хуже всех.
Час спустя операционная погрузилась в гипнотический ритуал подготовки. Резкий, едкий запах эфира сменился сладковатым – хлороформа. Металлические лотки блестели под светом мощной лампы. Иван Павлович, вымыв по локоть руки, стоял и смотрел, как сестра расстилает стерильные простыни. Он чувствовал странное спокойствие. Здесь, под ярким светом, не было ни шпионов, ни политики. Была лишь проблема, которую нужно решить.
Первым на стол подняли Степанова. Когда Воронцов скальпелем вскрыл старую рану, наружу хлынул густой, зловонный гной. Иван Павлович, не моргнув глазом, принялся за работу – резец, зажимы, отсос. Он искал осколки кости, промывал полость физраствором с хлорамином. Наконец, в ране обнажилась кость. Картина была удручающей.
– Пластина, – потребовал Иван Павлович.
Ему в руки положили латунную пластину.
Хирург примерил её к кости, стараясь совместить отломки. Пришлось использовать костные щипцы, чтобы притянуть их друг к другу. Звук скрежета кости о металл заставил сжаться желудок.
Иван Павлович вкрутил первый шуруп. Потом второй. Кость, послушная усилию, сложилась.
– Пенициллин, – распорядился он, и сестра подала шприц с желтоватой жидкостью. Он обильно оросил рану, ткани вокруг пластины. – Теперь только швы и время.
Операция на бедре у Кожемяко была технически проще, но физически тяжелее. Пришлось применить большую дрель, чтобы проделать канал в костномозговой полости. Звук работающего сверла и вибрация в руках были непривычными и пугающими. Длинный стальной штифт вошёл в кость с глухим скрежетом, скрепив отломки в единый стержень. Командир взвода, выходя из наркоза, первым делом потянулся к ноге, нащупал её целой и издал короткий, сдавленный звук, похожий на рыдание.
Третий, безымянный снайпер, стал самым долгим испытанием. Пришлось практически лепить кость заново, собирая мелкие осколки, как пазл. Использовали и тонкие проволочные швы, и маленькие пластинки. Рука превратилась в анатомический муляж, опутанный металлом.
Когда всё было закончено, Иван Павлович отступил от стола, чувствуя, что спина затекла, а пальцы сами собой складываются в положение, удерживающее инструмент.
Он и Воронцов молча стояли у раковин, смывая с рук кровь и запах чужих страданий. Понимали – это трое что-то вроде пробной партии. Если все получится, если пенициллин, который изготовил завод, поможет и импланты приживутся, то это будет означать… самый настоящий прорыв в медицине.
– Ну что, коллега, – первым нарушил тишину профессор, и в его голосе звучала неслыханная гордость. – Три жизни.
– Рано еще что-то говорить конкретное… Мы подарили им три шанса, Александр Петрович, – поправил его Иван Павлович, глядя на свою дрожащую руку. – Теперь главное, чтобы эти шансы не отняла инфекция. Я останусь с ними сегодня. Буду лично контролировать введение пенициллина.
– Нет, Иван Павлович, – остановил его профессор. – Вы и так сегодня сделали многое. Я сам проконтролирую. А вы идите отдыхать. Уже очень поздно. Завтра вам все доложу – как прошла ночь.
Иван Павлович спорить не стал.
Выйдя из операционной, он обнаружил, что привычный путь к выходу перекрыт – шаркающая по полу швабра санитара и расставленные ведра с известкой красноречиво намекали на ремонт.
– Обновить велено, – извиняющимся тоном сообщил санитар. – К приезду комиссии. Вам на вход? Тогда через глазное отделение.
Пришлось сворачивать в боковой коридор.
Здесь было тихо, пахло лекарственными травами и чем-то слабым, цветочным. Иван Павлович шел, глухо отбивая каблуками такт, и вдруг замер.
На дубовой скамье, встроенной в нишу стены, сидела девушка. Она была погружена в чтение небольшой книжки в потрепанном переплете. Но не это привлекло внимание доктора. Она держала книгу в нескольких сантиметрах от лица, а между страницей и ее глазами была огромная, но мощная лупа. Без нее она, видимо, не могла разглядеть ни единой буквы.
Иван Павлович, всегда относившийся к любым проявлениям неправильного обращения со зрением с профессиональной ревностью, не удержался. Он мягко кашлянул, чтобы не напугать.
Девушка вздрогнула и опустила книгу. Ее лицо, обрамленное темными, гладко зачесанными волосами, оказалось удивительно кротким. Большие, очень выразительные глаза смотрели куда-то в пространство мимо него, не фокусируясь.
– Простите, я не хотел вас беспокоить, – тихо сказал Иван Павлович. – Но, знаете, читать при таком свете, да еще и с лупой… Вы только сильнее утомляете глаза. Ночь на дворе, а вы… читаете.
Девушка улыбнулась. Улыбка у нее была какая-то беззащитная и в то же время светлая.
– Я знаю, доктор. Но иначе я не могу прочесть ни строчки. А так хочется… Это стихи. – Она слегка покраснела.
– Стихи? – Иван Павлович присел рядом на скамью, отложив в сторону свой саквояж. – Это, конечно, прекрасно. Но зрение – дар бесценный. Его нужно беречь пуще всего. Вам ведь здесь помогают?
Он кивнул на коридор глазного отделения.
– О, да! – в ее голосе послышались живые, искренние нотки. – Мне уже сделали операцию. В харьковской клинике, у самого доктора Гиршмана. А сюда меня направили для окончательного обследования и наблюдения. Говорят, все прошло успешно. Скоро меня выпишут.
– Гиршман? – уважительно протянул Иван Павлович. – Слышал, конечно. Крупнейший специалист. Значит, надежда есть?
– Да, – прошептала она. – Уже сейчас… я различаю очертания, вижу свет. Раньше был только тусклый мрак. Это кажется чудом. Я почти забыла, как выглядят лица, деревья, небо… Теперь я смогу все это увидеть снова. И вот, читать могу снова. Правда с лупой. Страсть как люблю читать.
Она говорила с такой одухотворенной восторженностью, что Иван Павлович невольно улыбнулся. После кровавой работы в операционной, после грохота завода этот тихий, искренний восторг был подобен глотку свежей воды.
– Это и есть чудо, – согласился он. – Восстановление зрения… Нет большей радости для врача. Вы обязательно все увидите. И стихи сможете читать уже без лупы.
– Вы думаете? – она снова улыбнулась, и все ее лицо озарилось изнутри.
– Я в этом уверен. – Иван Павлович поднялся, снова чувствуя тяжесть в ногах. Ему нужно было идти домой. Но этот короткий разговор почему-то вернул ему силы. Он кивнул девушке на прощание. – Берегите себя. И выполняйте все предписания врачей.
– Спасибо, доктор. Обязательно.
Он уже сделал несколько шагов по коридору, как вдруг остановился. Что-то заставило его обернуться. Простая человеческая вежливость? Желание запомнить этот мимолетный образ надежды среди больничных стен?
– Простите за бестактность, – сказал он, возвращаясь. – Мы так и не познакомились. Меня зовут Иван Павлович. Я хирург.
Девушка повернула к нему свое невидящее, но удивительно одухотворенное лицо. Ее губы тронула та же кроткая, беззащитная улыбка.
– Каплан, – тихо и четко произнесла она. – Фанни Ефимовна.
Глава 22
Иван Павлович застыл, и мир сузился до узкой полоны паркета между ним и скамьей, где сидела эта девушка. Это имя – «Каплан, Фанни Ефимовна» – прозвучало в его сознании с оглушительной силой, словно взрыв. В висках застучало, в глазах потемнело.
Каплан. Та самая. Покушение на Ленина. Ранение. Террор. Расстрел.
Первая, животная реакция – схватить ее, запереть, немедленно позвонить Валдису!
«Арестуйте ее! Она убийца!» – кричало внутри.
Но тут же, холодной волной, накатила трезвая, леденящая мысль. А что я скажу? «Товарищ Иванов, я, доктор Петров, только что из будущего и знаю, что эта полуслепая девушка через несколько месяцев выстрелит в Ленина»? Его поднимут на смех. В лучшем случае сочтут сумасшедшим от усталости, в худшем – заподозрят в провокации. И даже если, чудом, ему поверят и Каплан арестуют… Что тогда?
Он вспомнил хрестоматийные строчки из учебников. Покушение Каплан было лишь частью широкой кампании левых эсеров и других противников власти. Если уберут ее, человека-символ, на ее место придет другой. И этот другой, в отличие от полуслепой, неумелой Фанни, может оказаться метким стрелком. И тогда вместо ранения последует смерть. А смерть Ленина в 1918 году… Его мозг, хранящий знания из будущего, нарисовал мгновенную, жуткую картину: мгновенное ужесточение режима, бешеную подозрительность, волну красного террора, по сравнению с которой реальная история покажется детской игрой. Нет, арест Каплан мог не предотвратить трагедию, а лишь усугубить ее, обернувшись тысячами новых смертей.
Тут надо действовать иначе… Но как?
Он стоял, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Любое действие – опасно. Любое бездействие – преступно. Он был зажат в тиски истории, как в костные щипцы.
И тут его взгляд упал на лупу, лежавшую на книге на коленях у девушки. На ее кроткое, ничего не подозревающее лицо. Она еще не преступница. Она пациентка. Она жертва. И как врач, он не мог этого игнорировать.
Собрав всю свою волю, Иван Павлович сделал шаг вперед. Его голос прозвучал чуть хрипло, но удивительно спокойно.
– Фанни Ефимовна, вы сказали, что вас скоро выпишут. Но зрение – штука тонкая. После таких операций важен не только сам факт вмешательства, но и последующая реабилитация. – Он сделал небольшую паузу, давая ей осмыслить слова. – Я, как хирург, хоть и не офтальмолог, хорошо понимаю эти процессы. Позвольте мне завтра с утра еще раз вас осмотреть. Я заеду в госпиталь по другим делам и зайду к вам. Возможно, я смогу дать какие-то рекомендации или просто проследить за динамикой. Если вы, конечно, не против.
Он посмотрел на нее, пытаясь разглядеть в этом лице, в этих невидящих глазах, хоть крупицу того фанатизма, что приписывала ей история. Но видел лишь растерянность и легкую надежду.
Фанни на мгновение замерла, словно удивленная таким вниманием. Потом ее губы снова тронула та же застенчивая, светлая улыбка.
– Вы очень добры, доктор. Я… я не против. Буду очень благодарна. Мне кажется, зрение стало немного… расплывчатым сегодня к вечеру. Я списала это на усталость.
– Вероятно, так оно и есть – тем более вы читаете книгу в полутьме. Но лучше перестраховаться, – Иван Павлович кивнул, хотя она этого не видела. – Значит, договорились. До завтра, Фанни Ефимовна.
– До завтра, Иван Павлович. И спасибо вам.
* * *
Следующее утро застало Ивана Павловича в госпитале с первыми лучами солнца. Он почти не спал. Образ хрупкой девушки с лупой и страшное имя «Каплан» стояли перед ним, не давая покоя. Он должен был увидеть ее снова, но теперь не как случайную попутчицу, а как объект самого пристального, двойного изучения – врача и человека, пытающегося заглянуть в бездну грядущей истории.
Он разыскал дежурного врача глазного отделения, представился коллегой из наркомздрава, курирующим новые методики, и попросил историю болезни Фанни Каплан. Молодой офтальмолог, польщенный вниманием такого важного человека, с готовностью вручил ему тонкую картонную папку.
Иван Павлович уединился в небольшой сестринской комнате и развернул пожелтевшие листы, исписанные разными почерками. Читал, и мороз шел по коже.
Каплан (Фейга) Ройдман-Каплан Фанни Ефимовна. 1890 г.р. Поступила для обследования после курса лечения в Харьковской глазной клинике д-ра Гиршмана.
Анамнез: В 1906 г., в возрасте 16 лет, от случайного взрыва получила тяжелейшие ожоги лица и рук, множественные ранения осколками.
Иван Павлович усмехнулся. Как сухо написано. «От случайного взрыва…»
Взрыв произошел от самодельной бомбы, которую Каплан собирала – для покушения на киевского генерал-губернатора Сухомлинова.
В условиях антисанитарии и тяжелейшего труда, состояние глаз резко ухудшилось. Отмечается помутнение роговицы в центральной зоне (лейкома), вероятно, посттравматического и дистрофического характера. Диагностирована почти полная слепота. Светоощущение с неправильной проекцией.
Вот оно. Источник ее незрячести. Не болезнь, а следствие взрыва и ужасов каторги, на которую ее сослали после. Так, что там дальше? Ага… Долго время нет никаких записей. Оно и понятно – кто ее на каторге лечить будет? А потом… Потом видимо произошла амнистия. Повезло, Временное правительство практически спасло ее.
Каплан, почти слепая, приехала в Харьков к лучшему специалисту – Гиршману. Тот провел операцию – кератопластику, пересадку роговицы. Смелая для того времени методика. И, судя по всему, успешная.
Состояние после кератопластики. Роговичный трансплантат прижился. Зрение улучшилось до уровня предметного восприятия, различает свет, очертания крупных объектов. Требуется длительная реабилитация и наблюдение.
Он закрыл папку. Общий портрет вырисовывался – даже через эти сухие медицинские записи. Перед ним был человек, сломленный и физически, и, вероятно, душевно. Не монстр, а изувеченная жертва собственных заблуждений и жестокости системы. Это понимание не отменяло ужаса от знания ее будущего поступка, но придавало ему трагическую, многогранную глубину.
Взяв с собой офтальмоскоп и несколько капель эфедрина для проверки реакции зрачков, он направился в ее палату.
Фанни сидела на кровати, все так же с книгой и лупой. Она была одна.
– Доброе утро, Фанни Ефимовна, – тихо сказал он, входя.
Она вздрогнула и повернула голову на звук.
– Доброе утро, доктор. Вы пришли.
– Как и обещал. Как вы себя чувствуете? Говорили, зрение к вечеру подводило.
– Да… все плывет. И глаза болят, когда пытаюсь что-то разглядеть.
– Это нормально, – успокоил он ее, подходя ближе. – После таких операций мышцы глаз сильно напряжены. Давайте я посмотрю.
Он попросил ее отложить книгу и сесть прямо. Включив офтальмоскоп, он направил узкий луч света в ее глаза. Она инстинктивно зажмурилась.
– Постарайтесь не закрывать глаза, Фанни Ефимовна. Мне нужно оценить реакцию зрачков.
С огромным усилием воли она заставила себя держать глаза открытыми. Иван Павлович увидел, как она сжимает пальцы в кулаки.
«Терпеливая», – отметил про себя.
Он внимательно изучил ее глаза. Роговица на одном глазу действительно была мутной, с бельмом. Но на другом он увидел аккуратный, прижившийся трансплантат – островок прозрачной ткани. Удивительная работа Гиршмана. Тем боле по этим временам.
Зрачки медленно, но реагировали на свет. Это хороший знак.
– Все в порядке, – сказал Иван Павлович, выключая прибор. – Процесс заживления идет хорошо. Но глазам нужен покой. Я сейчас попрошу сестру сделать вам прохладный компресс. Он снимет напряжение и боль.
Он вышел и через несколько минут вернулся с медицинской сестрой, которая несла тазик с водой и чистые салфетки. Пока сестра, под его руководством, аккуратно накладывала влажные прохладные салфетки на закрытые веки Фанни, Иван Павлович сидел рядом.
– Вам стало легче? – спросил он через несколько минут.
– Да… – ее голос прозвучал расслабленно. – Спасибо. Очень приятно. Как будто тяжесть снимают.
Он посмотрел на ее лицо, скрытое теперь под компрессом, и подумал о той страшной цепи, что привела ее сюда. Взрыв, каторга, слепота, чудесное возвращение зрения… и новый, готовящийся взрыв, на сей раз – политический. Можно ли разорвать эту цепь? Не арестом, а чем-то иным? Состраданием? Лечением? Или история неумолима, и он лишь наблюдает за обреченной, бессмысленно пытаясь облегчить ее путь к роковой черте?
Иван Павлович заметил книгу еще вчера, но сейчас, в свете утра и после прочтения ее истории, корешок привлек его внимание сильнее. Это был не сборник стихов, как он предположил вчера из-за ее восторженности. Политическая брошюра, изданная на тонкой, серой бумаге. Название он разглядеть не успел, но общий характер издания был ясен.
– Вы интересуетесь политикой, Фанни Ефимовна? – осторожно спросил он, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально.
Она на мгновение смутилась, пальцы ее сжали корешок.
– Это… необходимость, доктор. Чтобы понимать, что происходит в стране. После стольких лет в неволе… хочется осмыслить.
– И какие же выводы? – он продолжал мягко допрашивать, сам не зная, зачем рискует. Но ему отчаянно хотелось понять ход ее мыслей.
Сначала она говорила сдержанно, но постепенно, словно прорвало плотину. Голос ее, тихий и кроткий, зазвучал жестко, в нем появились стальные, режущие нотки.
– Выводы? Выводы просты, доктор. Они обманули революцию. – Она говорила о большевиках. – Они обещали землю – развязали продразверстку, обещали мир – втянули страну в новую бойню с собственным народом, обещали фабрики рабочим – ввели на заводах казарменный порядок. Это не диктатура пролетариата, это диктатура партийной бюрократии! Они заливают страну кровью. И этот позорный Брестский мир, который распинает Россию ради утопии мировой революции!
Она говорила страстно, почти не сбиваясь. Надо же, такая хрупкая, нежная, а говорит – что валуны переворачивает!
Иван Павлович слушал, и ему становилось холодно. Это была не растерянная пациентка, а идейный боец, фанатик, чья ненависть была лишь прикрыта слабостью зрения.
– Фанни Ефимовна, – начал он, выбирая слова с величайшей осторожностью, будто ступая по тонкому льду. – Я не политик, я врач. И хотел бы вам немного возразить. Я вижу другую сторону. Я вижу, как впервые у нас появляется шанс победить эпидемии. Создается реальная, а не декларативная система здравоохранения. В наркомздраве работают энтузиасты, которые сутками не спят, чтобы наладить производство лекарств. Вот, к примеру, пенициллин…
– Лекарства! – она с силой хлопнула ладонью по одеялу, и он вздрогнул. – Чтобы лечить раны, нанесенные этой же властью? Это лицемерие! Можно ли строить больницы на костях? Можно ли говорить о светлом будущем, попирая все человеческое в настоящем? Нет, доктор! Пока они у власти, не будет ни мира, ни свободы, ни справедливости. Их путь – тупик, залитый кровью.
– Но разве террор – выход? – не удержался он, и тут же понял, что перешел грань.
Она замерла. Ее лицо, обращенное к нему, исказилось. Кротость исчезла без следа, ее сменила холодная, слепая ярость.
– Выход? Выход в том, чтобы очистить страну от узурпаторов! Любыми средствами! – ее голос сорвался на крик. – Я думала, вы врач… что вы понимаете боль и страдание. А вы… вы один из них! Или их прислужник, оправдывающий палачей! Пожалуйста, оставьте меня. Уйдите.
Она отвернулась к стене, ее плечи напряглись и начали слегка вздрагивать. Разговор был окончен. Мост, который он пытался осторожно навести, был сожжен с ее стороны дотла.
Иван Павлович медленно поднялся.
– Хорошо, – тихо сказал он. – Я ухожу. Желаю вам… здоровья.
Он вышел из палаты, и дверь закрылась за ним с тихим щелчком, который прозвучал в тишине коридора как приговор.
* * *
Осмотр троих прооперированных бойцов вселил в Ивана Павловича и профессора Воронцова осторожный оптимизм. Температура у всех троих пошла на спад, отеки уменьшались, а главное – не было и намека на воспаление вокруг ран. Красноармеец Степанов, вчера бывший на грани, сегодня смог проглотить несколько ложек бульона.
– Коллега, вы просто волшебник! – не удержался Воронцов, сияя. – Ваш пенициллин творит чудеса! Смотрите – ни эритемы, ни нагноения! Мы стоим на пороге новой эры в хирургии! Остеосинтез станет рутинной операцией!
– Рано радоваться, Александр Петрович, – Иван Павлович, стараясь заглушить в себе тревогу, касавшуюся совсем другого пациента, покачал головой. – Нужно наблюдать как минимум неделю. Главное – избежать отторжения импланта и поздних инфекционных осложнений.
– А я все оптимистично на это смотрю! – улыбнулся Воронцов. – И с энтузиазмом!
– Все же я не был бы так…
– Иван Павлович! Ну не скромничайте! Вы подумайте сами. До вчерашнего дня сложный оскольчатый перелом был приговором. Ампутация, инвалидность, зачастую – смерть от сепсиса. А сегодня? Сегодня трое бойцов, которых мы с вами подняли со того света, лежат в палате, и у них не только целы конечности, но и есть все шансы на полное восстановление! Без вашего пенициллина это было бы немыслимо! Мы доказали, что остеосинтез – не рискованная авантюра, а рабочая методика!
– Мы доказали, что она может сработать в трех случаях, при тщательном контроле и с мощнейшим антибиотиком, которого нет больше ни у кого, – осторожно поправил его Иван Павлович. – Это пока лишь единичные удачи, Александр Петрович. До «новой эпохи» еще далеко.








