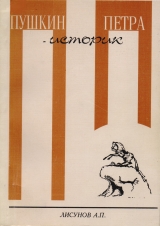
Текст книги "Пушкин - историк Петра"
Автор книги: Андрей Лисунов
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
В том же духе была выдержана и беседа поэта с Леве-Веймаром: “История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы (...) Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию
110
этого великого характера и с какой радостью, с каким удовольствием правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять “даже словами” мятежников, приходивших просить у него милости” 182. Конечно, разговаривая с иностранцем, Пушкин избегает резких оценок и находит оправдание тем поступкам реформатора, которые в разговоре с соотечественником безоговорочно осудил бы. Вместе с тем, он раскован и охотно говорит о замысле всей книги. Как будет ясно из дальнейшего анализа текста “Истории Петра”, Пушкин на самом деле не видел принципиальных изменений в поведении самодержца ни в зрелом возрасте, ни в дни кончины. Между тем поэт обладал уже печальным опытом первой исторической публикации о Пугачеве: “Сказано было, что “История Пугачевского бунта” не открыла ничего нового, неизвестного”(IX,389). В июне-июле Пушкин пишет статью “Об истории Пугачевского бунта”, пытаясь опровергнуть это утверждение, ссылаясь на то, что вообще “вся эта эпоха была худо известна”. Выход новою исторического произведения мог бы заглушить пересуды, но осложнившиеся отношения с властью мешали тому.
О глубине разрыва между поэтом и царем можно судить по пушкинской статье “Вольтер”, написанной этим же летом: “...настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что, наконец, независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы” (XII,81). Поэт пытается отредактировать “Медный всадник” с учетом царских помет, но останавливается, понимая, что это невозможно, и переписывает поэму в прежнем виде для представления к общей цензуре. Одновременно он пишет известный поэтический цикл, в котором духовная сторона жизни, казалось бы, полностью овладевает поэтом. Но уже 1 сентября Пушкин получает известие о запрете статьи, посвященной Радищеву и предназначенной для “Современника”. В ней тоже содержалась попытка миротворства. Поэт слегка коснулся темы Петра, назвав его законы строгими, а не жестокими, и привел
111
стихотворение Радищева, где лишь упоминается имя реформатора и Екатерины II, но дух статьи все равно не понравился цензуре. Вместо призывов к милосердию и соучастию в судьбе совестливого человека приходилось готовить быструю замену – выдержки из Джона Теннера, в которых поэт вновь раздражен и несдержан: “...с изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы, родословные гонения в народе, не имеющем дворянства (...) талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму” (XII, 104). Очевидно, Пушкин имел свое представление о демократии и самым тесным образом увязывал его с деятельностью Петра: “Вот уже 140 лет как табель о рангах сметает дворянство; и нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке”183.
Вместе с комментарием к Джону Теннеру Пушкин опубликовал в “Современнике” статью “Мнение М.Е.Лобанова о духе словесности”, написанную еще в разгар истории с “Выздоровлением Лукулла”, где прямо выразился: “Нельзя требовать от всех писателей стремиться к одной цели. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других” (XII,69). И хотя Пушкин писал о свободе выбора жанра, в условиях того времени это вполне могло быть воспринято, как призыв к свободомыслию. 13-14 сентября поэт представляет цензуре отрывок из записок “О древней и новой России” Карамзина: “отрывок, заключающий краткое обозрение древних времен, и из новой истории некоторые места, относящиеся до царствования Петра Великого, Анны Ивановны и Екатерины Великой” 184. Более месяца рукопись ходит по правительственным инстанциям, и наконец, ее запрещают с довольно многозначительной формулировкой: “так как она в свое время не предназначалась
112
сочинителем для напечатания” 185. Вероятно, при дворе были хорошо осведомлены об обстоятельствах возникновения записок. Такая формулировка закрывала всякую возможность публикации карамзинской рукописи, а вслед за ней появление “Истории Петра” и “Медного всадника”, как бы развивающих идеи признанного историографа.
Незадолго перед этим Пушкин видится с Корфом и вскоре получает от него известную библиографию Петра. Вместе с благодарностью поэт пишет строки, которые, по мнению Попова, свидетельствуют, что “до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе, касающейся эпохи Петра I”186: “Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна” (XVI,168). Фейнберг справедливо замечает, что библиография Корфа состояла из большого числа компилятивных работ, с которыми Пушкин не обязан был знакомиться. К тому же письмо наполнено самоиронией: “Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности)” (XVI,1263) – и по существу является перифразой дежурной отговорки Пушкина Только Келлеру он проговорится: “Эта работа убийственная (...) если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее” 187. Незадолго до смерти, чувствуя приближение скорой развязки, поэт сознается близкому человеку -Плетневу – по словам Никитенко, “что историю Петра никак нельзя писать, то есть ее не позволят печатать”188.
Но в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года он вроде бы противоречит себе, называя Петра “целой всемирной историей”. Письмо это обязательно надо рассматривать в сопоставлении с черновиком, раскрывающим сложный характер пушкинской мысли. Начинается он утверждением, что “Петр Великий укротил дворянство, опубликовав Табель о рангах, духовенство – отменив патриаршество” (XVI,260). Пушкин делает исторический вывод: “До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того, чтобы ее упрочить”, т.е. остановить, поскольку “Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления” (XII, 205), а затем повторяет еще более эмоционально:
113
“Вот уже 140 лет как (Табель о рангах) сметает дворянство” (XVI,260). Однако поднятая Чаадаевым тема требовала иного интонационного и содержательного разговора. Существовала связь между Петром и общественным цинизмом – в том же разрушении традиционных устоев России но довольно опосредованная и тщательно маскируемая властью. Пушкин понимая, что может увязнуть в доказательствах, переписал письмо, оставив нетронутым один вывод: “Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом , справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние”. О своем отношении к Петру Пушкин умолчал, назвав его “всемирной историей”, потому что, с одной стороны, всемирная история ни плоха и ни хороша, а речь шла о сопоставлении западной и российской культуры, а с другой – Чаадаев и так знал мнение поэта о Петре из недавних разговоров в Москве. Но Пушкин все же не отослал письмо, видимо, понимая, что в таком виде оно лишь укрепит друга в его прозападном настроении.
К тому времени стало очевидным, что издательская деятельность поэта терпит убытки – вместо ожидаемых 2500 подписчиков Пушкин едва набрал 700. Финансовый крах журнала означал потерю всякой, даже теоретической надежды выбраться из нужды и вернуть себе независимость. Поэт пытается исправить положение – готовит к публикации “Капитанскую дочку”, издает миниатюрного “Евгения Онегина”, пишет одну-две тетради “Истории Петра” (вероятно, “1700”-“ 1702” годы). “Я очень занят. Мой журнал и мой Петр Великий отнимают у меня много времени; в этом году я довольно плохо устроил свои дела” (XVI,1342), – сообщает он отцу. Пушкин пытается отвлечься разбором бумаг, привезенных А.И.Тургеневым из Франции, и разговорами: “Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II”189.
Перед смертью поэт пишет начало статьи “О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного Рая”, где есть следующие строки:
114
“Шатобриан на старости лет перевел Мильтона для куска хлеба (...) Тот, кто, поторговавшись немного с самим собой, мог спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность. Уклонившись от палаты перов, где долго раздавался красноречивый его голос, Шатобриан приходит в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью” (XII, 144). Последнее обстоятельство особенно волновало Пушкина. На полях письма Вяземского к Уварову по поводу книги Устрялова “О системе прагматической русской истории” Пушкин написал об историческом труде Полевого: “...он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести” (XVI, 1339)Именно такой труд не хотел делать поэт под руководством и покровительством царя. Но издать самостоятельно “Историю Петра” Пушкин не мог, и возможно, есть доля истины в свидетельстве А.Н.Вульф: “Перед дуэлью Пушкин не искал смерти: напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт, по свидетельству близкого к нему современника, располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское (...) и там, на свободе предполагал заняться составлением “Истории Петра Великого”” 190. Действительно, трудно предположить другую причину, которая заставила бы царя отпустить поэта, сохранив за ним право самостоятельно опубликовать историческое произведение. Но как бы то ни было, само возникновение подобного слуха уже свидетельствует об особой, понятной современникам, роли “Истории Петра” в творческой судьбе поэта.
Все иностранные дипломаты, сообщая о смерти поэта, подчеркивали официальный статус нахождения Пушкина при дворе. “Император поручил ему написать историю Петра Великого, и г.Пушкин в последние годы занимался изучением и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи”,– замечает, например, секретарь шведо-норвежского посольства Густава Нордин и добавляет: “...те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне
115
оплакивают его преждевременную кончину” 191. Скорее всего, Нординг имел в виду общение с Пушкиным, отмеченное в дневнике поэта: “Разговор с Нордингом о русском дворянстве, о гербах (...) Гербы наши все весьма новы. Оттого в гербе князей Вяземских, Ржевских пушка. Многие из наших старых дворян не имеют гербов”. Понятно, что Пушкин высказывал критическое отношение к Петру. Наверное, поэтому на прошении Жуковского о дозволении напечатать “Материалы для истории Петра Великого” царь написал: “Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого” (Х,482). И все же спустя три года он разрешил, хотя и не без купюр, публикацию пушкинской работы, но она не нашла заинтересованного издателя. Принято считать, что именно эти цензурные изъятия, профессиональные и точные, по мнению Фейнберга, повредили книге. Но они были немногочисленны и смысл пушкинской работы нс изменяли, хотя и делали несколько расплывчатым. Не следует забывать, что свободолюбивая лирика гонимого властями поэта в самом искаженном и порой нелепом виде доходила до читателя, потому что она была нужна ему. В чиновной, полуинтеллигентной России, возлюбившей своего преобразователя, пушкинский труд вызвал недоумение и был решительно отторгнут.
Итак, важным моментом полноценного изучения пушкинского наследия является более точное, с учетом исторической работы поэта, определение главной темы его творчества в ЗО-е годы – исследование героя петровской эпохи. При этом следует иметь в виду, что поэт использовал определенный историко-художественный метод, основанный на критерии нравственной оценки, и сосредоточил свою критику, прежде всего, на “духе времени”, а не на анализе социальных отношений.
116
Глава 5
Структурные и текстологические особенности рукописи “Истории Петра”.
При изучении исторического труда Пушкина важно учитывать, что несмотря на его, казалось бы, очевидную незавершенность, в композиционном отношении он представляет собой вполне законченное произведение: есть начало, конец, четкое деление на главы. Кроме того, по справедливому замечанию Фейнберга, в “Истории Петра” содержатся “близкие к завершению и даже совсем готовые страницы исторической прозы Пушкина” 192. Все это должно было насторожить исследователей. Как получилось, что Пушкин, доведя свое исследование до конца, оставил его в неоформленном виде? Произошло это в конце 1835 года, о чем безоговорочно свидетельствует запись в последней тетради рукописи. Но для нашего вопроса больший интерес представляет другая дата – ведь если бы Пушкин стал перерабатывать свое произведение, то, вероятно, начал бы не с конца, а с начала рукописи. К сожалению у этой даты нет безоговорочного подтверждения.
В начале первой и третьей тетради “Истории Петра” стоят соответственно две записи без обозначения года – “16 янв. 11 1/2 ч.” и “25 января”. В своей работе Попов полагал, что “есть основания сопоставить эти усиленные январские занятия с дневниковой записью от февраля 1835 г.: “С января очень занят Петром”” 193. В комментариях к первому академическому изданию “Истории Петра” это сопоставление приняло более утвердительную форму: “В начале первой тетради записей Пушкина (№ 390) стоит: “16 янв. 11 1/2 ч.<1835 г.>...”(Х,482). Было бы справедливо рядом с обозначением года поставить знак вопроса. В примечаниях к последнему академическому изданию 1979 года
117
Томашевский и вовсе не сомневается, что “этим определяется начало записей .
Между тем, сама фраза “С генваря очень занят Петром” бесспорно означает лишь одно, что поэт в этом месяце работал над “Историей Петра” особенно напряженно. Слово “занят”, даже с указанием отправной точки действия, только предположительно, как один из вариантов прочтения, можно соотнести со словом “начал”. Но тогда следует более убедительно, чем это сделал Попов, объяснить пушкинские строки из писем к жене, относящиеся к лету 1834 года: “Ты спрашиваешь меня о “Петре”? идет помаленьку; скопляю материалы – привожу в порядок” (XV, 154) и ““Петр 1-й” идет; того и гляди напечатаю 1 -й том к зиме” (XV, 159). Исследователь утверждает, что “если исходить из сохранившихся бумаг Пушкина, то нет никаких данных предполагать, чтобы до 1835 г. Пушкиным была проделана какая-либо систематическая работа по Петру. Анализируемые нами рукописи 1835 г. во всяком случае не обнаруживают следов каких-либо предшествующих архивных занятий” 195. Иными словами, Попов оспаривает Пушкина. Томашевский же и вовсе игнорирует эти строки поэта. Однако, их наличие свидетельствует, что в приведенной выше дневниковой записи поэта не могло идти речи о начале пушкинской работы, а значит, сама запись не может служить основанием для точной датировки рукописи.
Далее Попов замечает, что “палеографические признаки рукописей не дают более твердых, уточняющих указаний для датировки, но вместе с тем находятся в соответствии с вышеизложенными соображениями” 196. С первой частью высказывания автора можно согласиться – палеографические признаки, действительно, не дают и не могут дать решительных сведений, но заявление о “соответствии” требует критического отношения. Так, утверждение Попова: “В первых тетрадях преобладает бумага 1833 г., с шестой тетради – 1834 г.” 197 не совсем справедливо. Во-первых, не с шестой, а как минимум с седьмой, если иметь в виду, что рукопись
118
следующей восьмой тетради утрачена, а во-вторых, начиная с 23-й тетради, преобладание бумаги 1833 года возобновляется. Причем, если брать во внимание не только год, но и номер бумаги можно сделать довольно любопытное открытие (см. Приложение 2). Первые и заключительные главы “Истории Петра” написаны на бумаге, чаще используемой поэтом в последний год жизни. Таким образом, середина рукописи оказывается наиболее ранней. Есть своя закономерность в распределении первых и последних глав: по времени написания именно первые являются самыми поздними. Тетради с “1695-1698 гг.” по “1701-1702 гг.” написаны на той же бумаге № 139 с водяным знаком “А.Г 1833”, что, например, и предсмертная статья Пушкина “О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая””198 или черновик письма Аршиаку от 27 января 1837 года. 199 Писал Пушкин на ней и раньше, в 1835 году “Сцены из рыцарских времен”200 и предположительно в 1834 году наброски неоконченной статьи о Дельвиге, но пик ее использования пришелся на конец 1836 – начало 1837 годов.
Сам по себе факт этот говорит немного без следующего замечания: начиная с девятой тетради, Пушкин как бы неожиданно, разом переходит на бумагу №41 с водяным знаком “А Г 1834”, которую наиболее интенсивно использует в том же, 1834 году, и частично в 1835-ом. Так, например, на ней написаны черновик письма к Бенкендорфу 201 от 23 ноября 1834 года, а также известные “Замечания о Пугачевском бунте” 202 . С 21-й тетради поэт начинает постепенный переход на новую бумагу – в ней появляется лист “<А>Г18<..>” № 139, предположительно 1833 года. Затем следует тетрадь состоящая из 8 листов бумаги № 41 “А Г 1834”; 4-х листов бумаги № 40 “А. Гончаровъ 1834” и 6-ти – бумаги № 38 “А. Гончаровъ 1833”. С 23-й тетради использование бумаги № 41 “А Г 1834” прекращается, и вплоть до 30-й рукопись пишется на оставшихся двух видах, с существенным преобладанием последнего, на котором Пушкин в результате и заканчивает свою работу. Бумага № 40 “А. Гончаровъ 1834” применялась поэтом в 1835 – начале 1836 годах
119
при написании прозаических отрывков “И ты туг был” 203 , “От этих знатных господ” 204. Сведений о бумаге № 38 “А. Гончаровъ 1833” крайне мало. Известно, что Пушкин пользовался ею при написании записки об Аристове 205 к материалам по “Истории Пугачева” предположительно в 1833-1834 годах.
Если следовать утверждению Попова, что “История Петра” писалась Пушкиным в течении одного 1835 года, то палеографический анализ ее скорее настораживает, чем соответствует наблюдениям исследователя. Расширение же временных рамок пушкинской работы в большей степени соответствовало бы решению возникшей проблемы.
Существующее нарушение в порядке заполнения рукописи можно объяснить одним – случайным соединением двух различных редакций “Истории Петра”. Предположим, Пушкин закончил первую из них в декабре 1835 года, о чем свидетельствует дата, поставленная поэтом в конце рукописи, и начал новую, в январе 1836 года, уничтожая по мере переработки предыдущий вариант. Так он поступал и с “Историей Пугачева”. Жуковский после смерти Пушкина, готовя “Историю Петра” к публикации, естественно, соединил обе редакции в единый текст.
На сегодняшний день нет никаких оснований относить даты, проставленные в первой и третьей тетрадях “Истории Петра”, к 1835-му, а не к 1836 году. В пользу последнего варианта говорит только то, что он не заставляет игнорировать пушкинские письма к жене. Кроме того, ему можно найти косвенное подтверждение в структурной организации самой “Истории Петра”.
Так, первые тетради “Истории Петра” охватывают целые периоды в жизни реформатора: “1672-1689”, “1695-1698”, “До 1700 (от казни стрельцов)”, “1700” 206 , “1701-1702”. Но, начиная с “1703” года, Пушкин строго следует погодной разбивке, очень напоминающей начальный этап его работы над “Историей Пугачева” (только там, как отмечалось, разделение шло по месяцам). Лишь в конце рукописи, то есть перед непосредственной близостью новой редакции, поэт как бы
120
возвращается к поэтапному делению – “1724-1725”. Объясняется это, вероятно, тем, что, постепенно знакомясь с историческими материалами и уже в целом представляя их характер и объем, Пушкин решил идти по пути выделения наиболее ярких, ключевых событий в жизни и деятельности Петра.
С точки зрения текстологического анализа резкой, внешне очевидной, разницы между двумя редакциями нет, поскольку в обоих случаях речь шла об одном и том же историческом материале. Мысль о том, что Пушкин изначально “конспектировал” Голикова, не верна, не только потому, что она противоречит творческому духу поэта. В рукописи достаточно ясно отражено критическое отношение Пушкина к автору “Деяний”. Согласиться можно только с одним – первая редакция “Истории Петра” должна была носить предварительный характер, написанный поэтом “про себя”. Смысл повторной редакции заключался не столько в необходимости дополнений, сколько в изменении характера подачи материала, в переориентировке его на читателя. При этом возникали новые вопросы и редакторские уточнения. На первом этапе работы были естественны вставки: “...касательно высылки дворян.<ина> Головнина – (чем дело кончилось? и кто был сей Головнин?)” (Х,182); “24 янв.<аря> издана табель о рангах (оную изучить) (...) Петр создал должность генерал-прокурора (изучить) ” (Х,257); “Что было их преступление? Одна ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать” (Х,273 ). Когда Пушкин обращается к Голикову, он просто указывает том и страницу, не называя фамилии, поскольку отлично знает о ком идет речь.
В новой редакции ссылки на других авторов становятся полноценными, а самому тексту придается вид объективного исторического повествования, что видно уже по первым страницам рукописи: “Стралленберг и “Рукопись о зачатии” повествует, что царица, едучи однажды весною в один монастырь, при переправе через разлившийся ручей, испугалась и криками своими разбудила Петра, спавшего у ней на руках. Петр до 14 лет боялся воды. Князь Борис
121
Алексеевич Голицын, его обер-гофмейстер, излечил его. Миллер тому не верит” (Х,10). Излишне напоминать, что эти сведения есть и у Голикова, но Пушкин очередной фразой отводит подозрение в компилятивности своей работы: “Голиков прибавляет следующие подробности и объяснения...” (Х,23), – и далее следует выдержка. Таким образом, устанавливается водораздел между собственно пушкинским и голиковским текстом. Но уже в тетради за “1706г.(до 5 июля)” поэт делает ссылки, которые говорят о тесном сближении его труда с “Деяниями”: “Сюда относит Голиков свои показания о жестокости шведов за в 1704 году и проч. Ч. 11-254” (X, 95) или “Здесь Голик.<ов> <дает> подробное описание всему, что Петр в 28 дневное пребывание свое в Минске сделал, стр. 259-295 ” (X, 96). Теперь читателю или Пушкину обязательно нужно было иметь под рукой Голикова, чтобы справиться о характере содержащихся в ссылке сведений. Затем поэт и вовсе, как отмечалось, перестает делать полноценные сноски, понятные читателю.
Изменяется и принцип подачи материала. На смену повествовательной манере изложения приходит стиль, свойственный заметкам разного рода, – отдельные фразы и несогласованный текст: “Валмер, Трикат, Кригедербен, Гемелтлай etc, взяты и разорены. В Мариенбурге взята Катерина, в последствии императрица” или: “Из Арханг.<ельска> писал Петр к Апраксину, уведомляя его о спуске фрег.<атов> и о строении корабля св. Илии, посылает собственноручный чертеж Таганрожской гавани, уведомляет, что Автон.<ом> Головни набрал вольницы-2,330, а жен, детей и стариков их (4,390 ч.) отправил на Воронеж. (Петр повелевает Апраксину их упокоить.) Корабли приказывает вывести на Дон, торговлю таганрожскую устанавливает, советует подкупить турецких чиновников, ибо пистоли и в Европе много пользуют. По жалобе Ная на виц-адмирала (?) повелевает Наю не находиться в ведении в.<ице>-адм.<ирала>-etc, etc, (от июля 5, 27 и авг.<уста> 5. Одно без числа)” (Х,63).
В дальнейшем текст, действительно, строится на выдержках из писем Петра, и производит впечатление конспекта, хотя отбор
122
существует, о чем еще пойдет речь. Пушкин как бы изнутри наблюдает жизнь реформатора, стараясь определить свое отношение к нему, при этом совсем забывая о читателе. Трудно поверить в то, что начав с обстоятельного, объемного повествования, поэт мог сознательно перейти к заметкам “про себя”. Естественней предположить обратное, тем более, что для этого есть основания.
Косвенное подтверждение тому можно найти и в истории создания “Пира Петра Первого”. Если бы Пушкин работал над Введением в 1835 году, как утверждает Попов, то, во-первых, дистанция между написанием “Пира” и фрагментом из Введения “Петр, простив многих знатных преступников, пригласил их к своему ст элу и пушечной пальбою праздновал с ними свое примирение (Ломоносов)” (Х,7) -возрастала бы до года, а во-вторых, между ними встала бы другая запись из тетради за “1714 год” о тех же событиях, но изложенных под несколько иным углом: “С другими Петр примирился, празднуя их помилование пушечной пальбою, etc, etc.” (Х,211). Очевидно, что во втором случае Петр празднует “их помилование”, а не “свое примирение”. Учитывая изменения, происходящие в пушкинском мировоззрении, правильнее предположить развитие мысли поэта от “их помилования” к “своему примирению”, а не наоборот. Во всяком случае “Пир” выдержан в этом направлении (“Светел сердцем и лицом; И прощенье торжествует, Как победу над врагам”). Все становится на свои места, если согласиться с тем, что Введение написано в начале 1836 года, тогда оно по времени и по смыслу совпадает с “Пиром Петра Первого”.
Открытие Фейнбергом в “Истории Петра” фрагментов пушкинской исторической прозы так же не противоречит нашему наблюдению. Наибольшее их количество сосредоточено как раз в первых тетрадях рукописи, а начало “Истории Петра” вообще имеет вид полноценного исторического повествования. Вместе с тем, уже в тетради за “1706” случайность вкрапления авторского текста становится заметной. Пушкин как бы выносит за скобки расширительное толкование сведений, полученных у Голикова, не решаясь на
123
самостоятельную их обработку: “По требованию (довольно наглому) Аренштета Петр через Головкина отвечал...” (X, 103); “...мира же хотел он искренно и готов был заключить его на одном условии: иметь единый порт на Балтийском море. Вообще инструкция есть chef d,oeuvere дипломации и благоразумия” (Х,104). Наибольшей художественной выразительности Пушкин достигает в тех местах, которые либо не освещены, либо слабо представлены у Голикова. Это, например, относится к делу царевича Алексея и казни Монса.
Вероятность существования нескольких редакций рукописи “Истории Петра “ подтверждается наличием в ней двух вступительных статей, тоже находящихся в разной степени готовности: “Извлечения из Введения Штраленберга” и “Очерка введения”. Первое вступление имеет вид развернутого плана и более соответствует основному тексту произведения, второе – краткое изложение отдельных направлений работы. Исследователи ставили “Очерк введения” то в начало (Томашевский), то в конец (Попов) “Истории Петра”, пытаясь определить логическое место его соединения с рукописью. Получалось так, что почти все из намеченного Пушкиным в “Очерке” заметно не согласовалось, прежде всего, с первыми страницами пушкинского труда. Можно предположить, что, скорее всего, “Очерк” был написан Пушкиным в начале работы над первой редакцией “Истории Петра” в первой половине 1834 года и отражал идеи, изложенные им в “Путешествии из Москвы в Петербург”. Особенно это относится к финальной фразе введения: “Просвещение развивается со времен Бориса; правительство впереди народа; любит иноземцев и печется о науках” (Х,291). Для сравнения: “...со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения” В 1836 году смысл этого утверждения изменился. Диалог с властью зашел в тупик; отпала всякая надежда на цивилизованную оппозицию. Оказывается, петровские реформы тоже не затронули “Нравы дикие, свирепые” (Х,291). Правительство, следуя путем реформатора, только умножало народные бедствия. Планы
124
Пушкина менялись, но он, видимо, сохранил “Очерк введения”, как ключевой, имеющий архивную ценность документ, отражающий начальный этап работы над “Историей Петра”.
Остается только один вопрос, способный вызвать серьезное возражение. Поскольку, как отмечалось, палеографические сведения не дают определенного ответа, а текстуальный анализ затруднен спецификой пушкинской работы, определение точного места соединения различных редакций рукописи выглядит проблематичным. Не вызывает сомнение то, что тетрадь за “1706” несет все основные черты перехода к рукописи “про себя”. Примеры приводились выше. Однако, учитывая данные палеографического анализа, степень освоения материала, количество ссылок и сносок, изменения в характеристике самого Петра, а также структурное различие, можно предположить, что граница эта приходится на утерянную рукопись за “1703” год. Фрагмент ее Анненков опубликовал в биографии поэта, как свидетельство того, что пушкинский труд не имел “вида настоящего исторического рассказа” 207 . Таким образом, тетрадь за “1704 <год>” следует считать самой ранней из дошедших до нас рукописей “Истории Петра”, хотя текст ее выглядит более проработанным и по манере изложения она примыкает к первым страницам “Истории Петра”, но характер подачи материала в ней больше соответствует начальной работе Пушкина.
Наличие двух редакций “Истории Петра” позволяет сделать ряд важнейших выводов. Во-первых, текст, у которого есть две редакции вряд ли можно назвать конспектом. Это, естественно, избавляет пушкинский труд от определения “подготовительные тексты”. Во-вторых, дата начала работы поэта над рукописью остается открытой – возможен вариант более ранних занятий, что подтверждается письмами Пушкина к жене за 1834 год. Третий, не менее важный, вывод затрагивает вопрос о глубине освоения Пушкиным образа великого реформатора. То, что поэт приступил к повторной редакции, само по себе говорит о завершении этой работы. Вместе с тем, произвольное








