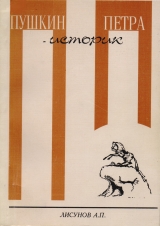
Текст книги "Пушкин - историк Петра"
Автор книги: Андрей Лисунов
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
На этом, по существу, заканчиваются отдельные попытки поэта осмыслить личность реформатора и начинается целенаправленная работа в этом направлении. У Пушкина были все основания писать царю в июле 1831 года: “...Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями и в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю
64
взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III"(ХIV,256). Упоминание имени Карамзина говорит о многом. Прежде всего, оно отсылает к первой пушкинской статье, критикующей “Историю русского народа” Полевого: “...Чем полнее, чем искреннее отдал бы он справедливость Карамзину, чем смиреннее отозвался бы он о самом себе, тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованном бессмертным трудом его предшественника”(ХI,120). Пушкин определяет Карамзина – “первый наш историк и последний летописец” и далее, опираясь на эту мысль, развивает тему, которая вскоре станет основой его будущих исторических исследований: “...Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял как краски, но не полагал в них никакой существенной важности”(ХI,120-121). Таким образом, приступая к “Истории Петра”, Пушкин обладал и определенным методом и богатой историей обращения к предмету своего исследования. Это должно опровергнуть мнение того же Энгельгардта, что “...сквозь призму своего установившегося воззрения на Петра I Пушкин видел или думал, что видит, двойное лицо: гениального создателя государства и старый восточный тип “бича Божия”. Пушкин так и умер, не достигши синтеза, не изобразив историческою Петра” 138. Думается, исследователь, находясь под влиянием уже сформированного мифа о гениальном самодержце-реформаторе, совершил характерную ошибку, ставя перед поэтом сверхзадачу: убедиться в непреходящем величии Петра, в то время, как для Пушкина важным было другое – выяснить характер этого величия.
В оценке государственных усилий Петра и форм их проявления у поэта не было затруднений, так же, как не возникало у него сомнений, что поход Наполеона на Москву являлся безусловным злом и политической ошибкой, но был ли в Петре нравственный смысл сродни
65
наполеоновскому: “Хвала!...Он русскому народу Высокий жребий указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал”(II,216). В стихотворении “Герой”, написанном в конце 1830 года, Пушкин в заключительных строках прямо говорит: “...Оставь герою сердце... что же Он будет без него? Тиран...”(III,253). Политическая оценка не давала ответ на главный вопрос: как быть с “сердцем” Петра – с верным и единственным свидетельством достойного существования человека и общества? Пушкин не случайно вынес в эпиграф библейскую фразу “Что есть истина?”. Июльская революция во Франции и восстание в Варшаве в 1831 году поставили этот вопрос в ряд наиболее значимых для дальнейшей судьбы России, и Пушкин, воспользовавшись приглашением царя поступить на службу, сознательно выбрал труд, в котором предпринял попытку на основе подлинного исторического материала достоверно рассказать о нравственном, а значит истинном смысле царствования Петра.
66
Глава 4
Пушкин в работе над “Историей Петра”
Выразив желание заниматься “Историей Петра” и получив согласие царя, Пушкин приступил к осуществлению своего замысла. Н.Языков писал брату в конце 1831 года: “...Пушкин только и говорит, что о Петре, которого не взлюбляет. Он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.” 139. Сначала поэт вывозит личную библиотеку из Михайловского, которая долгое время была основным источником его исторического и литературного самообразования: “Примите, сударыня, мою искреннюю благодарность за ваши любезные хлопоты с моими книгами (...) велите спросить наших людей в Михайловском, нет ли там еще сундука, посланного в деревню вместе с ящиками моих книг (...), которых я не могу отыскать”(XV, 1), – пишет он в январе Осиповой. Настроение в это время у Пушкина бодрое. Он еще, кажется, не чувствует силы литературных противников, работающих на правительство: “...Если они чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин заварит такую кашу или паче кутью, что они ею подавятся”(ХV,2).
Поэт посылает письмо Блудову, который по службе был связан с государственным архивом, где Пушкин собирался работать: “...Буду ожидать приказания Вашего, дабы приступить к делу, мне порученному”(ХV,5). Но прежде разрешения начать исследования поэт получает от Бенкендорфа очередной выговор за публикацию в “Северных цветах” “Анчара” и отвечает ему убежденно, с некоторым вызовом: “...Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры”(ХV,10). Надежда на разумное действие власти содержится и в его письме к Дмитриеву,
67
где поэт пишет о запрещении журнала “Европеец”, о котором он буквально на днях отзывался, в письме к его издателю Киреевскому, как о соединившем “дельность с заманчивостью”(ХV,9): “...Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники – или, по меньшей мере, клевета устыдится и будет изобличена”(ХV,12).
Отношение к “Европейцу” власть не изменила, но с поэтом она поступила иначе. Николаю и его ближайшему окружению удалось выработать особый стиль наказания подчиненных: незначительно поощряя человека, они ставили его в нелепое положение – нельзя отказаться от подарка, чтобы не прослыть неблагодарным, а приняв -не испытать унижение. В то время как Пушкин писал решительное письмо к Бенкендорфу, в котором поднимал вопрос о своих литературных правах, стремясь освободиться от мелочной опеки, еще не будучи официально уведомленным о начале службы и ожидая неприятностей от публикации “Анчара”, он получает в дар от власти многотомное “Полное собрание законов Российской империи” с сопроводительной запиской следующего содержания: “Шеф Жандармов (...) Генерал-Адъютант Бенкендорф, свидетельствуя свое почтение Александру Сергеевичу, честь имеет препроводить при сем один экземпляр полного собрания законов Российской Империи, назначенного Александру Сергеевичу в подарок Его Императорским Величеством”(ХV, 12). И никаких объяснений по какому поводу и в связи с чем оказана случайная “милость”? Вместо довольно резкого ответа Пушкин вынужден писать благодарственное письмо, в котором, конечно, уже не могла идти речь о “разных неудобствах” царской цензуры. Однако подарок царя как бы оставлял без последствий факт самовольной публикации “Анчара”. К тому же Пушкин мог по своему интерпретировать “загадочный” жест власти в нужном ему направлении: “...Драгоценный знак царского ко мне благоговения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда, и который будет ознаменован если не талантом, то, по крайней мере, усердием и добросовестностью (...) Ободренный благосклонностью
68
Вашего высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою: о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера”(ХV, 14). В заключение, как бы в обмен за услугу, Пушкин соглашается приостановить печатание “Анчара” до высшего соизволения. Это на первый взгляд рядовое событие, комментируемое исследователями как подарок царя поэту для занятий “Историей Петра”, хотя речи о службе почему-то не шло – на самом деле имело куда более важный смысл и ознаменовало начало интриги, которая со временем привела к гибели Пушкина.
Власть, безусловно, провоцировала поэта – она была заинтересована в его исторической работе, но хотела, чтобы инициатива исходила от самого Пушкина – так легче было “направлять перо” гения. Поэту ничего не оставалось делать, как принять правила игры, поскольку занятие “Историей Петра” могло решить многие проблемы. С одной стороны, поправлялось материальное положение, расстроенное женитьбой и карточными долгами, а с другой – появлялась возможность критического осмысления культа реформатора, к которому Пушкин невольно приложил руку в “Стансах”. Все очевидней Петр становился идеальной опорой для разного рода литературных и государственных выскочек, основанием их претензии на власть и решающий голос в обществе. Важно было понять, почему так происходит: “По плодам их узнаете их” (Мф 7,22). И главный вывод, вероятно, заключался в ответе на вопрос, действительно ли: “...Вот уже 140 лет как Табель о рангах сметает дворянство”(ХVI,260), лишая общество лучшей его части? Таким образом тема Петра из политической – общего размышления над судьбой страны – для Пушкина превращалась в проблему гражданского и нравственного выбора, к тому же косвенно затрагивающей и бытовую сторону жизни поэта.
Естественно, полагаясь на свое эстетическое чувство, Пушкин одновременно с историческим исследованием искал художественное решение темы. Весной 1832 года Пушкин делает набросок поэмы “Езерский” о “просто гражданине столичном”. Сам по себе этот факт
69
можно объяснить и обращением к простому человеку, и усилением гражданской позиции поэта, и народностью, но опасность ошибочных выводов, вызванных общими рассуждениями, будет велика, если не принять во внимание, что писались строки в самый разгар переговоров о начале работы над “Историей Петра”. Пушкина прежде всего интересовал герой петровской эпохи 140 – не просто человек, но дворянин, поскольку, по меткому замечанию Карамзина, “Петр ограничил свое преобразование дворянством” 141. И народность поэта заключалась не в демократизации его творчества, не в поисках человека из толпы – это петровские реформы унизили героя: "Я мещанин, как вам известно, И в этом смысле демократ”(V,99) – а в точном определении предмета внимания и болезни, поразившей общество.
Известно, что разрешение на занятия в архиве последовало незамедлительно: 24 февраля поэт подал прошение, а 29-го получил ответ. Очевидно, по мнению власти, такая оперативность должна была настроить поэта на серьезную работу. Пушкин принимает условие и уже 10 марта посещает библиотеку Вольтера, о чем свидетельствует запись в дневнике. Эту дату можно считать фактическим началом работы поэта над “Историей Петра”. Однако Пушкину для решения денежного вопроса необходим был и официально установленный срок. 3 мая он пишет Бенкендорфу: “Его величество, удостоив меня вниманием к моей судьбе, назначил мне жалование. Но так как я не знаю, откуда и считая с какого дня я должен получать его, то осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с просьбой вывести меня из неизвестности" (XV,20). На этот раз ответ задержался. История с назначением жалования поэту вызвала развитие интриги в верхних эшелонах власти. Н.А.Муханов записал в дневнике: “[ Блудов] сказал Пушкину, что он о нем говорил государю и просил ему жалования, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельроде. Странный ответ: я желал бы, чтобы жалование выдавалось от Бенкендорфа. – Почему же не от вас? (...) – Для того, чтобы избежать дурного примера”142. Враги поэта хорошо понимали, какую
70
реакцию вызовет у Пушкина перспектива служить в ведомстве, за связь с которым поэт уже высмеял Булгарина в широкоизвестной эпиграмме. Провокация была очевидной и не нашла поддержки у Бенкендорфа.
После обмена письмами между двумя руководителями всесильных ведомств Нессельроде подал прошение царю назначить Пушкину жалование “со дня определения его в ведомство Министерства иностранных дел” 143. Была наложена резолюция: “Высочайше повелено требовать из Государственного казначейства с 14-го Ноября 1831 года по 5.000 р. в год на известное его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги титулярному советнику Пушкину” 144. 27 июля поэт расписался в получении денег “...с 14-го Ноября 1831 г. по 1 Мая сего 1832 года всего 2319 р. 44 1/4 к.” 145. Таким образом, обе стороны согласились считать 14-е ноября 1831 года официальной датой начала работы поэта над “Историей Петра”. Факт этот до сих пор не оценен исследователями, хотя он во многом определял поведение поэта в последние годы жизни. Пушкин поступал на службу для исполнения конкретного задания. Вряд ли срок окончания работы заранее оговаривался, но он безусловно присутствовал при составлении договора в форме “разумного” предела. Ситуация была щепетильной. Царя и его окружение не интересовала скрупулезная работа поэта в архиве и достоверность исторического повествования. Нужна была выполненная в хорошем стиле парадная история Петра. Пушкина просто наталкивали на мысль поспешить. В Зимнем дворце полным ходом шли работы по созданию зала Петра I. Если иметь в виду, что в начале 1836 года Бенкендорф уже предлагал царю заменить поэта, то вероятно, речь шла о сроке в два-три года. Вместе с тем, Пушкин, опираясь на опыт Карамзина, свободно распоряжавшегося своим временем, имел право на год-другой отложить исполнение заказа.
Ожидая решение власти, поэт 27 мая в письме к Бенкендорфу предлагал свои условия соглашения: “...Служба, к которой он146 соблаговолил меня причислить и мои литературные занятия заставляют
71
меня жить в Петербурге, доходы же мои ограничены тем, что доставляет мне мой труд. Мое положение может обеспечить литературное предприятие (...) стать во главе газеты...”(ХV,23). Пушкин предлагает власти выбор: либо дать ему приличное жалование, либо – возможность самому зарабатывать на жизнь, и начинает работу над “Историей Петра”, тем самым подчеркивая, что со своей стороны приложит известное старание. Есть, по крайней мере, одно свидетельство этому – записки А.Н.Муравьева: “...Четыре года я, не встречался с ним по причине Турецкой кампании и моего путешествия на Востоке, и совершенно нечаянно свиделся в архиве министерства иностранных дел, где собирал он документы для предпринятой им истории Петра Великого” 147.
Жалование, которое в итоге получил Пушкин, было недостаточным. Вместе с тем, формальное разрешение на издание газеты вроде бы давало возможность дополнительного заработка. Это был единственный краткий момент, когда, казалось, интересы власти и поэта, если не совпадали, то и не противоречили друг другу. Пушкину вернулось хорошее настроение. По свидетельству Муханова, он хотел “...доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе сие было” 148. Поэт даже пытается советовать редактору запрещенного “Европейца” Киреевскому, как обращаться с властью, чтобы добиться взаимопонимания, и не скрывает при этом удовлетворение от решения собственной проблемы: “...Вы одни не действовали (...) Вы должны были оправдываться из уважения к себе и, смею сказать из уважения к государю, ибо нападения его не суть нападения Полевого или Надеждина (...) начните Ваше письмо тем, что, долго ожидав запроса от правительства, Вы молчали до сих пор по ect (...) Мне разрешили на днях политическую и литературную газету. Не оставьте меня, братия! (...) Напишите мне несколько слов (не опасаясь тем повредить моей политической репутации)”(ХV,26).
Пушкин ринулся организовывать дело, которое, с одной
72
стороны, позволяло ему вести действенную литературную борьбу, а с другой – поправить материальное положение. Вероятно, получив в конце июля деньги и определившись в сроке, Пушкин на какое-то время откладывает работу над “Историей Петра” и занимается газетой. В это же время, где-то в августе 1832 – январе 1833 г. Душкин, продолжая размышлять над художественным воплощением темы петровской России, внес в рабочие тетради план повести о дворянине-пугачевце Шванвиче. Поездка в Москву в конце сентября – начале октября, которая в основном была посвящена изданию первого номера “Дневника” и долговым обязательствам поэта, привела к неожиданному результату. Нащокин рассказал Пушкину историю человека, пострадавшего от чиновного произвола: “Мне пришел в голову роман, и я, вероятно, за него примусь, но покамест голова моя кругом идет при мысли о газете”(ХV,34). А уже 2 декабря поэт писал П.Нащокину: “....первый том “Островского” кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение (...) Я написал его в две недели (...) Мой журнал остановился, потому что долго не приходило разрешение (...) Я и рад. К будущему успею осмотреться и приготовиться”(ХV,37). Известно, что до конца года Пушкин напряженно работает над “Дубровским”. Почему поэт не стал издавать газету? Возможно, Пушкин решил, что внимание к герою петровской России, а значит и к самой “Истории Петра”, для него важнее. Во всяком случае, поэт должен был почувствовать разницу между тем, как быстро власти допустили его к занятиям в архиве, и той неопределенностью, которая возникла вокруг выпуска газеты, и, подталкиваемый таким образом, вынужден был вернуться к главной теме.
Работая над “Дубровским” и описывая мытарства героя, Пушкин был удовлетворен им, но с приближением развязки романа, к середине января, работа неожиданно замедляется. Поэт отвлекается, пишет стихотворения из цикла “Подражание древним”. Где-то в январе, в первой или второй декаде, начинает новую рабочую тетрадь, известную как “Альбом без переплета”, с перебеленных Х-Х1 строф
73
“Езерского”: “Над омраченным Петроградом (...) Нева шумела; бился вал”, где рядом с описанием наводнения: “Нева в волненьи возмущенном Приподымалась <...>”(V,97), вновь возникает ставшая привычной тема разложения старинного русского дворянства – строфы : “...Мне жаль, что сих родов боярских Бледнеет блеск и никнет дух (...) Что исторические звуки Нам стали чужды, хоть спроста Из бар мы лезем в tiers etat” 149.
Интересно, что, занимаясь изучением истории французской революции летом 1831 года, поэт размышлял в заметке “О генеральных штатах”: “Третье сословие равняется нации минус знать и духовенство. Рабо де Сент-Этьен. Это значит: нация равняется народу минус его представители”(ХII,196). Таким образом, Пушкин возражал против того, чтобы считать третье сословие носителем народного мнения. Более того, в противовес ему, он называл знать “отборной частью нации, хотя и облеченной чрезмерными преимуществами, но представляющей собой класс просвещенный и имущий”, который “неразумно обессиливать”. То, к чему это могло привести на русской почве, поэт принялся исследовать на примере судьбы Дубровского. В своих заметка “О дворянстве” Пушкин делал довольно загадочный, на первый взгляд, вывод, ставя рядом два, казалось бы, взаимоисключающих события: “Падение постепенное дворянства; что из того следует? Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т.д.”(ХII,206). В конце 1834 года в дневнике поэт так объяснил столь неожиданное сопоставление: “... Что касается до tiers etat, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много”(ХII,335).
По мысли Пушкина, ослабление дворянства привело к тому, что, с одной стороны, новая безродная аристократия, совершая дворцовые перевороты, изнутри разлагала верховную власть в стране,
74
а с другой – обнищавшие дворяне, стремясь восстановить утраченные права, открыто выступали против государства. Причем последние, действительно, как показало исследованное поэтом пугачевское восстание, могли, объединившись с нижними сословиями, превратиться в реальную силу и принести немалые бедствия. Таким образом, Дубровский мыслился поэтом вовсе не как освободительный герой, а как важное лицо в “эдакой страшной стихии мятежей”. И все же Дубровский не злодей, а только несчастное следствие петровских преобразований, поэтому и нет у Пушкина по отношению к нему черных красок. Показать отрицательную его сторону должен был выбор Марии, как выбор Татьяны в “Онегине”. Но мотивация поступка героини “Дубровского” выглядела неубедительной, а любой другой финал разрушал ткань произведения, а главное – не показывал безнадежность бунта героя. Неочевидная, на первый взгляд, связь между романом и “Историей Негра” была понятна Нащокину. 10 января он писал Пушкину: “...Что твой роман – Петр 1-й и т.д. – будет ли что нынешний год нового?”(ХV,40).
В 20-х числах января 1833 года вышла книга Павла Сумарокова “Обозрение царствования и свойств Екатерины Великия”, о которой Пушкин сказал: “Что слово, то несправедливость”(IХ,398). Возможно, прочтение ее заставило поэта вспомнить о Шванвиче. 31 января Пушкин записал в рабочем “Альбоме без переплета” замысел “Капитанской дочки”, где Шванвич сдает крепость Пугачеву. История нравственного падения дворянина могла стать хорошей основой для воплощения пушкинского замысла. К тому же связь с историческими событиями, еще лучше – сами события, представленные в виде документов, могли с большим успехом свидетельствовать о пагубных последствиях петровских преобразований.
В прелестных письмах, многие из которых писались рукой Шванвича, речь, по существу, шла о восстановлении допетровских порядков. Это обстоятельство требовало тщательной проверки, и Пушкин незамедлительно приступил к собиранию материалов о
75
восстании. Сначала он обратился к Свиньину за “Памятными записками” Храповицкого – секретаря Екатерины II, а затем, используя в качестве предлога данное ему разрешение работать в архивах, попытался достать закрытые сведения о Пугачеве.
Любопытно, что разговор на эту тему с военным министром Чернышовым происходил сразу же вслед за тем, как царь напомнил поэту о его обязанностях: “...на масленице царь заговорил как-то со мной о Петре I"(ХV, 53), – писал Пушкин Погодину. Поэту давали понять, что приближается время предварительных результатов. И, видимо, для него это не было неожиданностью, поскольку он тут же сослался на загруженность: “...трудиться мне одному над архивами невозможно и что помощь просвещенного, умного и дельного ученого мне необходима”(ХV, 53).
Имя Погодина возникло не случайно. Сначала Пушкин хотел привлечь его к работе над “Дневником”. Тогда же поэт послал Погодину письмо, в котором между прочим писал: “...Ваша “Марфа”, Ваш “Петр” исполнены истинной драматической силы (...) предрекаю Вам такой народный успех, какого мы, холодные северные зрители Скрибовых водевилей и Дидлотовых балетов, и представить себе не можем”(ХV,27). Вероятно, это условие и определило выбор Пушкина. Однако, выдвигая столь вескую причину задержки основной работы, Пушкин вряд ли мог рассчитывать на то, что ему разрешат еще и побочный исторический труд. Поэт вынужден был скрывать свои занятия “Историей Пугачева”. Вместе с тем, он нисколько не лукавил, когда определил ее частью труда им оставленного.
Исследование “Истории Пугачевщины”, как назвал ее поэт при первом представлении царю, интересно прежде всего тем, что, являясь как бы ответвлением “Истории Петра”, оно отражало характерные особенности всех исторических занятий Пушкина. Получив в конце февраля первые две книги из архива Инспекторского департамента, он заводит “архивные” тетради, которые разбивает по месяцам: “сентябрь 1773-го”, “октябрь и ноябрь 1773”, “декабрь 1773”, т.е.
76
использует принцип временного деления, который, как считается, он просто перенес в “Историю Петра”, “конспектируя” Голикова в 1835 году. Приходится признать, что подобное деление не было механическим воспроизведением чужого труда, о чем еще пойдет речь, а отражало собственно пушкинский, поэтапный, подход к освещению исторического материала.
Обращает на себя внимание скорость, с какой поэт осваивал архивные документы 150. Можно предположить, что посещая архивы год назад, Пушкин работал не менее напряженно и над “Историей Петра”. Настораживает лишь отсутствие предварительных записей, которые могли бы это подтвердить. Вместе с тем, их след хорошо виден в рукописи 151. С манерой поэта превращать текст первоисточника в заготовку будущего исторического труда можно столкнуться в той же “Истории Пугачева”. Исследователи отмечают, что “многие эпизоды из донесений с мест пересказаны в “архивных тетрадях” так зримо и отчетливо, что они потом почти дословно будут включены в “Историю Пугачева”152. Вывод этот особенно важен, поскольку основной ар!умент сторонников “незавершенности” “Истории Петра” сводится к утверждению, что Пушкин должен был в окончательном варианте представить иной, более самостоятельный текст. Как видим, поэт стремился не столько к оригинальности, сколько к достоверности своего исторического повествования.
11 марта, получив письмо поэта, Погодин записал в своем дневнике: “...Письмо Пушкина об Петре. Пошли удачи. Пушкину хочется свалить с себя дела. Пожалуй, мы поработаем”153. Конечно, Погодин не понял Пушкина, как и не понял того, почему поэт неожиданно отказался от его помощи. Погодин писал: “Рад без памяти (...) Но зачем вы зовете меня в Петербург? Мне довольно и Москвы”(ХV,57-58). Пушкину же нужен был помощник именно в Петербурге для занятий в архиве с тем, чтобы царь не сомневался, что работа над “Историей Петра” идет полным ходом. А то, что власть следила за деятельностью поэта, не вызывает сомнения. По случаю разбирательства с делом Убри Блудов
77
докладывал правительству в середине апреля, что нельзя полагать, чтобы Пушкин, живя в Петербурге и занимаясь литературою и собиранием материалов для истории Петра Великого, мог через письма руководствовать Убри. Таким образом подчеркивалось, что работа над “Историей Петра” ведется. Однако возникновение имени поэта в связи с делом молодого дворянина, призвавшего “укреплять дворянство” и “составить оппозицию” чиновничеству, то есть высказавшего антипетровские настроения, говорит о том, что взгляды Пушкина не представляли секрет для правительства. Ждали только в каком виде поэт решится обнародовать их.
14 марта Пушкин в рецензии на “Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина” писал, подразумевая, очевидно, и собственное творчество: “...Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно”(ХI,220). В то же время поэт заносит в “Альбом без переплета” рядом с планом о Шванвиче “Башаринский план” о пленнике Пугачева и вновь обращается к “Езерскому”, где между прочим пишет: XIII строфа – “...Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет” и XIV – “...тайный труд Тебе награда”(V,102,103). Очевидно, что кроме чисто творческих особенностей поэтического труда, Пушкин имеет в виду и определенные трудности гражданской жизни. Не позднее 15 мая он пишет П.Осиповой: “...Петербург совершенно не по мне, ни мои вкусы, ни мои средства не могут к нему приспособиться. Но придется потерпеть года два, три”(ХV,62). Пушкин понимал, что в ближайшие два-три года ему по многим причинам следует закончить “Историю Петра” и тогда он будет свободен.
Двумя месяцами позже в стихотворении Куликова, товарища Нащокина, в строке “Друзей, начальников, врагов” поэт “выскоблит” ногтем последнюю запятую и поставит тире: “...начальники – враги слова однозвучные!” 154. Противоречие между поэтом и властью нарастало, и вместе с тем становился все более очевидным оппозиционный характер “героя петровской эпохи”: “...Кто ваш герой?
78
– А что? Коллежский регистратор. Какой вы строгий литератор! Его пою – зачем же нет? Он мой приятель и сосед”(V, 101). Можно заметить, что коллежский регистратор – самый нижний чин в Табеле о рангах. Впрочем, Дубровский, Шванвич, Башарин – те же мелкие дворяне и возможные соседи Пушкина по имению или по квартире. Правда, их трудно назвать приятелями поэта, и, видимо, в этом была трудность, которая не позволяла им стать настоящими героями пушкинского романа. 17 апреля Пушкин приступил к черновику Пугачева, а спустя чуть больше месяца, 22 мая, завершил работу над первоначальным текстом Пугачева. Возможно, поэт воспользовался паузой для возвращения к занятиям над “Историей Петра”. “...Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы” 155, – пишет Анненков, путая, правда, даты. Пушкины переехали на дачу 21 июня. Но ходить в архивы поэт мог только для занятий “Историей Петра”, поскольку пугачевские документы доставляли ему на дом. К тому же у Пушкина созрел план посетить места, связанные с восстанием Пугачева, а перед этим следовало показать властям, что работа над “Историей Петра” продолжается.
В конце июля Пушкин через Бенкендорфа обратился непосредственно к царю: “Обстоятельства принуждают меня вскоре уехать на 2-3 месяца в мое нижегородское имение – мне хотелось бы воспользоваться этим и съездить в Оренбург и Казань, которых я еще нс видел. Прошу его величество позволить мне ознакомиться с архивами этих двух губерний”(ХV,69,224). Начало последней фразы можно перевести с французского и как “умоляю”. Пушкин в личной форме предлагал ни о чем его не спрашивать, полагаясь на его верноподданнические чувства и честь дворянина, и дать ему возможность самому планировать творческое время и работу над “Историей Петра”. Но царь заставил оправдываться поэта: “Его Величество (...) изъявил Высочайшую свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань, и по какой причине хотите Вы оставить занятия, здесь на Вас возложенные?”(ХV,69,262). Последней
79
фразой Пушкину давали понять, что ему открыли доступ к архивам для важного государственного дела, а не с тем, чтобы он “рылся там и ничего не делал”(ХIV,198), как поначалу шутил поэт.
Теперь, отвечая Мордвинову, Пушкин вынужден был говорить полуправду, тем самым окончательно запутывая свои отношения с властью: “...В продолжении двух последних лет занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки чисто литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду (...) Кроме жалования, определенного мне щедростию Его Величества, нет у меня постоянного дохода; между тем жизнь в столице дорога и с умножением моего семейства умножаются и расходы (...) это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани” Конечно, роман находился только в стадии замысла и Пушкин знал, что на самом деле ему предстоит объяснять появление уже почти готовой “Истории Пугачева”. Умолчал он и о “Дубровском”. Но главное, находясь в неловком положении, поэт сознательно увеличил срок работы над “Историей Петра” до двух лет. В итоге он получил разрешение на четырехмесячный отпуск на новых, невыгодных для себя условиях.








