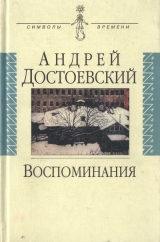
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
Милые дети, благодарю вас за ваши письма; верьте, что всякая строчка ваша в разлуке моей с вами утешает меня несказанно. Целую вас, прощайте.
Скажи мой поклон Василисе[21]21
Василиса – прислуга (прачка).
[Закрыть], ежели она того стоит.
Не пригласить ли тебе, друг мой, Евлампию Н. к тебе погостить, тебе от скуки хоть было бы с кем слово сказать.
Вот второе письмо:
Мая 31-го дня 1835 года.
От всей души радуюсь, единственный милый друг мой, что Творец небесный хранит вас здоровыми. О себе скажу так же, что и мы все здоровы, в деревнях твоих все благополучно, нового и у нас ничего нет, а все старое.
До сих пор, милый друг мой, я утешала тебя, сколько могла, в душевной грусти твоей, а теперь не взыщи и на мне. Последнее письмо твое сразило меня совершенно; пишешь, что ты расстроен, растерзан душою так, что в жизни своей никогда не испытал такого терзания, а что так крушит тебя – ничего не пишешь. Неужели думаешь, что грусть твоя чужда моему сердцу, а ответы твои на письмо мое столь холодны и отрывисты, что я не знаю, отчего такая перемена. Насчет моих денег – не удивляйся и не сумневайся, мой друг, они суть остатки моей бережливости, а приобретать, и я скажу также, что не имею средств. Расходам своим я веду счет, и при свидании ты его от меня получишь и не будешь удивляться моему богатству; своих же я никогда не имела от тебя скрытных и даже одной копейки. В прошедшем письме твоем ты упрекнул меня изжогою, говоря, что в прежних беременностях я ее никогда не имела. Друг мой, соображая все сие, думаю, не терзают ли тебя те же гибельные для обоих нас и несправедливые подозрения в неверности моей к тебе, и ежели я не ошибаюсь, то клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землею, детьми моими и всем моим счастьем и жизнью моею, что никогда не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему пред святым алтарем в день нашего брака! Клянусь также, что и теперешняя моя беременность есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей, со стороны моей – любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего; довольно ли сей клятвы для тебя, которой я никогда еще не повторяла тебе, во-первых, потому, что стыдилась себя унизить клятвою в верности моей на шестнадцатом году нашего союза; во-вторых, что ты по предубеждению своему мало расположен был выслушать, а не только верить клятвам моим; теперь же клянусь тебе, щадя твое драгоценное спокойствие; к тому же и клятва моя, я полагаю, более имеет вероятности, судя по моему положению: ибо которая женщина в беременности своей дерзнет поклясться Богом, собираясь ежечасно предстать пред страшный и справедливый суд его! Итак, угодно ли тебе, дражайший мой, поверить клятве моей или нет, – но я пребуду навсегда в той сладкой надежде на провидение Божие, которое всегда было опорою моею и подкрепляло меня в горестном моем терпении! Рано или поздно Бог по милосердию своему услышит слезные мольбы мои и утешит меня в скорби моей, озарив тебя святою своею истиной, и откроет тебе всю непорочность души моей! Прощай, друг мой, не могу писать более и не соберу мыслей в голове моей; прости меня, друг мой, что не скрыла от тебя терзания души моей; не грусти, друг мой, побереги себя для любви моей; что касается до меня, – повелевай мною. Не только спокойствием, и жизнию моею жертвую для тебя. Прощай, поцелуй за меня детей. М. Достоевская.
Ради самого Создателя прошу тебя, друг мой, не крушись: уж не болен ли ты, голубчик мой? не предчувствие ли меня терзает? Боже мой, заступница милосердная, царица небесная, сохрани и помилуй тебя, милого моего друга. Ах, когда бы дождаться воскресенья, не получу ли я какой отрады от тебя, души моей! Обо мне не беспокойся, я совершенно здорова, только грустно, мочи нет, грустно!..
А вот еще приписка, написанная на отдельном листочке и приложенная к последующему письму (которого у меня нет), писанному, вероятно, вслед за приведенным выше, в начале июня 1835 года:
Прости меня, дражайший, милый друг мой, что я моею грустию наделала тебе столько горя, но посуди и обо мне, голубчик мой, каково и мне было?.. Ты знаешь, что для меня всегда было невыносимо горько видеть тебя в сей лютой и несправедливой горести, кольми же паче теперь, в разлуке, представлять тебя в своем воображении грустным, расстроенным даже до отчаяния, и отчего же?.. от ложного понятия, которое, Бог знает отчего, тебе приходит в голову. Не жалуйся, друг мой, чтоб я горячо приняла сие вдруг, судя односторонне, нет, друг мой, я, может быть, раз с 50 перечитала твое письмо, думала и передумывала, что бы такая за отчаянная грусть терзала тебя, которой ты в жизни своей не имел; наконец мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце. Горестное предчувствие утвердило меня в сей догадке, и, поверишь ли, друг мой, я света Божьего не взвидела; нигде не могла найти себе ни места, ни отрады. Три дня я ходила как помешанная. Ах, друг мой, ты не поверишь, как это мучительно! Еще ты пеняешь мне, что я неосторожно все доверила бумаге, что лежало на сердце. Но каково же бы было для меня оставить все на безотрадном моем сердце? Ты еще не испытал сего и потому так судишь. Я не сомневаюсь в любви твоей и чту твои чувствования, боготворю ангельские твои правила, – но сама, хотя и люблю еще более, люблю без всяких сомнений, с чистою, святою доверенностью… и любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким под…, тогда как я дышу моею любовью. – Между тем, время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу; веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на провидение, то конец судьбы моей самый бы был плачевный. Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобою, другом моим единственным, все, что имею на сердце, прости, дражайший мой друг. Пишу на лоскутке особенно, чтобы кроме тебя никто не мог читать сего, только заклинаю тебя твоею же любовью, не огорчайся и не сокрушайся обо мне, я давно уже покорилась судьбе моей и обтерпелась. – Целую тебя без счету.
Приведя здесь эти письма моих родителей, я вполне убежден, что, кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовет его человеком угрюмым, нервным, подозрительным, как наименовал его покойный О. Ф. Миллер в Биографии Ф. М. Достоевского (см. стр. 20 первого тома, первого издания сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1883 г.) со слов и воспоминаний будто каких-то родственников. Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким букой. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым. Кто же прочтет письма маменьки, тот, конечно, скажет, что эта личность была незаурядная. В начале 30-х годов владеть так пером и излагать свои мысли не только красноречиво, но подчас и поэтично – явление незаурядное. Этак писать и нынешней высокообразованной светской даме не стыдно, а матушка моя была личность, получившая домашнее образование в 20-х годах текущего столетия в одном из скромных патриархальных московских купеческих семейств.
В заключение не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов; я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: «Да, знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые… и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами… нам с тобою не быть, брат!..»{50}
Этим я и закончу свои воспоминания о детстве своем в доме родительском, т. е. первую квартиру своей жизни.
КВАРТИРА ВТОРАЯ
В ПАНСИОНЕ ЧЕРМАКА
Пансион Леонтия Ивановича Чермака был одним из старинных частных учебных заведений в Москве, по крайней мере в то уже время он существовал более 20 лет. Помещался он на Новой Басманной, в доме бывшем княгини Касаткиной, возле Басманной полицейской части, напротив Московского сиротского дома. В заведение это принимались дети большею частью на полный пансион, т. е. находились там в течение целой недели, возвращаясь домой (ежели было куда) на время праздников.
Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их, и в то же время – присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, – вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л. И. Чермака был близок к этому идеалу. Говорю только близок, потому что совершенства нет ни в чем. Преподавателями в пансион избирались только лица, зарекомендованные казенными инспекторами; таковыми инспекторами в мое время были Ив. Ив. Давыдов, Дм. Матв. Перевощиков и Брашман – все известные профессора Московского университета. В высших же классах даже и преподаватели были профессора университета, напр., Дм. М. Перевощиков по математике и Ив. Ив. Давыдов по русской словесности и другие. Уроки начинались ежедневно в 8 часов утра в следующем порядке: 1) от 8 до 10 час.; 2) от 10 до 12 час. После этого урока следовал обед. Послеобеденные классы были: 3) от 2-х до 4-х, 4) от 4-х до 6 час. вечера. Далее следовали чай и время для приготовления уроков. В 9 час. был ужин, после которого все шли в спальню. Сам Леонтий Иванович, человек уже преклонных лет, был мало или совсем необразован, но имел тот такт, которого часто недостает и директорам казенных учебных заведений. В начале каждого урока он обходил все классы якобы для того, чтобы приветствовать преподавателей, если же заставал класс без преподавателя, то оставался в нем до приезда запоздавшего учителя, которого и встречал добрейшей улыбкой, одною рукою здороваясь с ним, а другою вынимая свою золотую луковицу, как бы для справки. При таких порядках трудно было и манкировать! Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыходно. Я сам испытал это в учебный 1838/1839 год, потому что отец тогда жил в деревне, к Масловичам я перестал ходить, а тетя Куманина брала меня очень редко. Отличных по успехам учеников, т. е. каждого получившего четыре балла (пятичная система баллов тогда еще не существовала), он очень серьезно зазывал к себе в кабинет и там вручал ему маленькую конфетку. Случалось иногда, что подобные награды давались и ученикам старших классов, но никогда ни один из них не принимал этого с насмешкой, потому что всякий знал, что Л. И. – старик добрый и что над ним смеяться грешно! Ежели кто в пансионе заболевал, Чермак мгновенно посылал его к своей жене, говоря: «Иди к Августе Францевне…», но при этом впопыхах так произносил это имя, что выходило к Капусте Францевне, вследствие чего мы, школьники, и называли старушку Капустой Францевной, но все любили и уважали ее. Она сейчас уложит заболевшего и примет первые домашние меры, а затем пошлет за годовым доктором, которым в мое время был Василий Васильевич Трейтер. При этом не могу не сделать сопоставления между Чермаком и Кистером. Василий Васильевич Трейтер был годовым врачом у Чермака на тех же основаниях, как мой папенька был у Кистера, то есть Трейтер был годовым врачом в пансионе, а за гонорар в пансионе воспитывался его сын Александр. Чермак и вида не показывал, что он делает одолжение Трейтеру, напротив, оказывал особое внимание его сыну, как сыну хорошего своего знакомого. Что же касается Кистера, то он на меня не обращал никакого внимания, и как бы явно показывая, что я у него обучаюсь даром!.. А мальчики как хорошо и зорко могут это заметить и угадать!
Пища в пансионе была приличная. Сам Леонтий Иванович и его семейство (мужского пола) постоянно имели стол общий с учениками. По праздникам же, вследствие небольшого количества остававшихся пансионеров, и весь женский персонал его семейства обедал за общим пансионским столом.
Чермак содержал свой почти образцовый пансион более чем 25 лет, ученики из его пансиона были лучшими студентами в университете, и в заведении его получили начальное воспитание люди, сделавшиеся впоследствии видными общественными деятелями. Помимо двух Достоевских (Федора и Михаила Михайловичей) я могу указать на Губера, Геннади, Шумахера (впосл. сенатора), Каченовского (литератора, сына проф. В. Т. Каченовского) и Мильгаузена (бывшего потом профессором Московского университета){51}.
Я слышал впоследствии, что Л. И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности. Ежели рассматривать это обстоятельство с коммерческой точки зрения, то Чермака нельзя отнести ни к неосторожным, ни к несчастным банкротам. Можно сказать, что все могущие быть сбережения (а они могли быть значительны) Леонтий Иванович Чермак принес в дар московскому юношеству!
Итак, как выше упомянуто, я поступил в пансион Чермака в августе месяце 1837 года. Мне было уже 12 лет, но я поступил только в первый класс. Это было желание папеньки, чтобы я начал школу с самого начала. От этого я потерял один год, но оказался в выигрыше в том, что был в классе ежели не первым, то из лучших. Кстати, об этом первенстве. В пансионе Чермака ни в одном классе не существовало пересадок учеников по баллам, и не было ни первых, ни последних. Каждый занимал в классе место, какое хотел, но, раз занявши, оставался на этом месте по всем урокам в течение всего года. Списки же учеников в тетрадях для проставления баллов велись в алфавитном порядке. Конечно, в первое время пребывания в пансионе мне все казалось и дико и скучно! Мысль, что все близкое мне стало далеким, не раз мелькала в моем детском уме. Но и тут нашлось утешение. Некоторые воспитанники старших классов, бывшие товарищи братьев, не раз останавливали меня вопросами: «Ну что, Достоевский, как поживают твои братья, что тебе известно о них?..» Я отвечал, что знал, и вопросы эти очень утешали меня тем, что и здесь, в кругу всех чужих, имелись лица, которые знали и сочувствовали моим родным братьям.
Учителей в первом классе было немного. Во-первых, батюшка – священник, а затем учитель русского и латинского языков, а также арифметики. Новые языки преподавались гувернерами. Законоучителем был священник из Петропавловской (на Новой Басманной) церкви, Лебедев. Он в мое время был уже старичком. Для меня же он был замечателен тем, что он венчал моих родителей, и он же вместе с отцом Иоанном Баршевым и хоронил мою маменьку, следовательно, он был для меня как бы знакомым человеком. О нем, как о преподавателе, ничего оказать нельзя, это был учитель, задающий отселе и доселе. С третьего класса он уже не был моим учителем, да и вообще оставил пансион. На его место, по совету инспектора, взят был законоучитель 2-й московской гимназии (что на Разгуляе) священник Богданов из прихода Никола в Воробине; но о нем после. Учитель русского и латинского языков был один и тот же, это – Никанор Александрович Елагин. Для низших и средних классов это был учитель незаменимый! Не мудрствуя лукаво, он преподавал разумно и толково и заставлял учеников вполне понять то, что они заучивают. Грамматику этих двух языков он преподавал почти параллельно. Переводили же мы в первых двух низших классах Epitome historiae Sacrae{52} с латинского на русский язык; а когда несколько статей было переведено письменно, то мы в классе, при закрытом латинском тексте, силились переводить с русского на латинский. Конечно, сии последние упражнения были классные, в присутствии учителя. Как человек Елагин был большой оригинал. Во-первых, его хорошая сторона была та, что он никогда не манкировал и не опаздывал в класс. Это были ходячие часы. Когда он входил утром в переднюю, то было без 5 минут восемь, и ровно с последним звуком боя часов он входил в класс и садился на кафедру. У него был брат – часовой мастер, Никанор Александрович, бывая в пансионе каждодневно, взял на себя как бы обязанность проверять часы, стоящие в передней. С Чермаком он говорил почему-то всегда на немецком языке. Выйти из класса ранее хотя бы тремя минутами он не позволял себе. Часто после звонка о перемене Чермак отворял дверь класса и говорил: «Никанор Александрович, ес ист шон цейт». – «Нейн, Леонтий Иванович, нох цвей минутен, мейн ур ист рихтиг…» И никакие силы не могли выгнать его из класса. Еще особенность: он чрезвычайно не любил, когда в класс входили дамы; а это иногда случалось, потому что маменьки часто любопытствовали, где сидят их сынки. Не знаю, было ли это случайностью или это устраивалось нарочно, но только при появлении дам он всегда задавал вопрос о повелительном наклонении глагола scire (знать), и ежели ученик конфузился и отвечал тихо, то Елагин громогласно немного в нос и нараспев выкрикивал эти формы sci, scite, scitote, sciunto[22]22
Но сейчас же и переводил на русский язык знай, знайте, пусть они знают…, чтобы дамы не подумали чего-нибудь неприличного.
[Закрыть].
Учителем арифметики был старичок, некто Павловский. Он, собственно говоря, не был учителем арифметики, а скорее учителем счисления. Никаких арифметических правил он не объяснял, говоря, что это будет в высших классах, а, придя в класс, задавал каждому ученику цифровую задачу на первые четыре правила арифметики и обращал только внимание на то, чтобы задача была сделана скоро и правильно. В его классе, т. е. в продолжение 2-х часов, каждый ученик успевал сделать задачи по четыре, иной раз и по пяти больших, сдать их учителю для проверки и получить соответствующий балл. Но зато же ученики, как говорится, и насобачились в этом искусстве.
Теперь следует упомянуть о двух надзирателях. Собственно, надзирателей было до пяти человек, но эти двое постоянно бывали в 1-м классе и занимались в нем с учениками как учителя. Первый из них француз m-r Манго. Это был мужчина лет 45-ти, очень добродушный, а главное, ровный господин, никогда он, бывало, не вспылит, а всегда хладнокровный и обходчивый. Обязанность его, кроме надзирательства, была читать с нами по-французски; действительно читал он мастерски, так что и в высших классах часто занимался этим, но по части грамматики был плоховат и не брался за нее. Он был барабанщиком великой Наполеоновской армии; в 1812 году был взят в плен и с тех пор оставался в Москве. Так как он очень правильно говорил по-французски и отлично читал, то ему и было дозволено быть надзирателем или гувернером. У Чермака он был уже очень давно и считался исправным надзирателем.
Другой надзиратель был немец г. Ферман. Этот, в свою очередь, занимался с нами чтением по-немецки. Его брат был учителем гимназии по немецкому языку и учил также и у нас, начиная со 2-го класса.
Все воскресные и праздничные дни я в этот учебный год, то есть в 1837/1838 г., у Чермака не оставался. Выше еще упомянул я, что папенька сделал распоряжение, чтобы меня брали к тетке Настасье Андреевне Маслович; и вот каждую субботу и канун праздника являлся в пансион денщик Осип и уводил меня к тетке. Этот денщик Осип был денщиком почти в продолжение всей службы Масловича, а по выходе Масловича в отставку был уволен в отставку и Осип и поселился у своего прежнего барина за особую уже плату. Этого Осипа я помню с самых младенческих лет, когда он приходил как посланный за чем-нибудь от своих господ. Масловичи жили в Лефортовский части в Госпитальном переулке в доме купца Янкина. Они занимали очень маленькую, даже убогую квартирку. Во-первых, малюсенькая передняя, затем маленький зал, в котором на диване мне приготовляли ночлег, затем еще маленькая гостиная, где на двух диванах по ночам спали обе хозяйки, то есть тетенька Настасья Андреевна и ее дочь, и, наконец, комната дяди, где он постоянно лежал на кровати, и в этой же комнате помещались столовая и чайная, потому что Маслович в другую комнату выйти не мог; он и ел и пил лежа или полусидя. В заключение имелась небольшая кухонька, находившаяся в полном распоряжении денщика Осипа. Обитателями этой квартирки были, во 1-х, тетка Настасья Андреевна, о которой я уже неоднократно говорил. Это была женщина хитрая, и с тех пор, как я начал быть их временным обитателем, она сделалась ко мне не совсем приязненна. Дочка ее, Машенька, или Марья Григорьевна, была окончившая курс в Екатерининском институте, но своей особой не делала ему чести. Это была чрезвычайно пустая, уже пожилая девица, мечтавшая только о женихах; она была дурна собою и очень косила глазами, но, несмотря на это, очень собою занималась. Мать в ней души не слышала и не видела ее недостатков. Сам хозяин Григорий Павлович Маслович, разбитый параличом и постоянно страдающий ревматизмом, вечно лежал на своей кровати, только изредка садясь на ней же, он постоянно охал от ревматических болей.
Не знаю теперь, что мне могло нравиться в пребывании у Масловичей. Собственно говоря, скука была страшнейшая. Сидишь, бывало, у ломберного стола и перечитываешь что-нибудь в учебнике или прислушиваешься к разговорам между маменькой и дочкой. И это продолжалось целый день… Но, несмотря на эту скучищу, я очень бывал рад, когда в субботу отправлялся с Осипом в Госпитальный переулок. Это явление, думаю, ничем более нельзя объяснить, как чувством привязанности к домашнему очагу. При виде тетки Настасьи Андреевны я постоянно вспоминал, как она хаживала к нам в Мариинскую больницу при жизни маменьки, а потому мне было занятно бывать и у них. Сверх того, канун праздников ознаменовывался хождением в баню. Невдалеке, чуть ли не в том же переулке, где жили Масловичи, были торговые бани того же хозяина, то есть Янкина. И вот Осип, управившись с кухней, постоянно водил меня в баню и там отлично вымывал, и это было каждую неделю. В воскресенье же утром я с теткою и с Мар. Григ. ходили в церковь военного госпиталя. Там была великолепная церковь и еще более великолепные певчие, так что посещение церкви доставляло мне особое удовольствие. Помню, что я особенно усиливался, чтобы меня взяли ко всенощной перед Рождеством, что и исполнилось. К заутрене же перед Пасхою, хотя я и проснулся вовремя, но, несмотря на все мои просьбы, идти не позволили. – Не знаю, платил ли папенька сколько-нибудь за то, что меня брали, или ограничивался присылкою деревенских продуктов, только помню, что однажды зимою приехала целая подвода из деревни с мукою, крупой, а также и с живностью. Привезли несколько пар битых мороженых гусей и уток. И вот, каждый обед, как только подавали гуся или утку, старик Маслович постоянно говаривал: «Что это за гусь!» или «Что это за утка… Вот у нас, в Малороссии, так действительно гуси и утки!..» Может быть, это было говорено просто как заявление действительного факта… Я сам был впоследствии в Малороссии и знаю, что старик Маслович говорил правду… Но тогда мне каждое подобное заявление было очень горько выслушивать; и я мысленно негодовал на папеньку, для чего он присылал таких плохих уток!..
Году было пройти недолго, и вот приблизились экзамены, а затем каникулы. Разумеется, мои годовые занятия получили одобрение от Чермака, хотя собственно награды я в этот год еще не получил. Приехал в Москву папенька и взял меня на каникулы к себе в деревню.
Странное дело, мне уже исполнилось 13 лет, и я многое отчетливо помню, что происходило в 5-летний возраст мой, а в этот 13-летний возраст я решительно ничего не помню из обстоятельств, сопровождавших поездку мою в деревню и обратное возвращение в Москву. Припоминаю, и то только отрывочно, мое пребывание в деревне, мое ежедневное хождение с папенькой по полям, что впоследствии уже мне надоело, и я стремился остаться как-нибудь дома. Помню, что в этот свой приезд я уже не застал в деревне сестры Вареньки, которая переселилась к Куманиным, ни сестры Верочки, которая была уже отдана в пансион. Были только брат Николя, тогда уже 7-летний мальчик, и сестра Саша, трехлетняя девочка. Оба они постоянно пребывали с няней Аленой Фроловной. Из сей моей последней поездки в деревню более ничего вынести не могу, равно как не припоминаю и обстоятельств своего возвращения в Москву и прощания, увы, уже последнего с отцом! Серьезно, я не помню последнего с ним прощания. Помню себя уже в комнате 2-го класса пансиона Чермака.
В этом втором классе я был в учебный 1838/1839 год.
Обучение происходило тем же порядком и в те же часы, как и в 1-м классе, а потому распространяться об этом более нечего.
По воскресеньям я уже не ходил к тетке Маслович: не знаю, они ли отказались или отец мой более не просил их брать меня, только по воскресеньям я начал оставаться в пансионе. Но я привык уже к пансиону и много этим не скучал.
Тетушка Куманина в этот учебный год брала меня к себе довольно часто, в особенности в большие праздники, и никак не реже одного раза в месяц. Приезжал за мною всегда дядя Михаил Федорович, и он же отвозил обратно.
У тетушки я проводил праздничные дни гораздо веселее, чем у Масловичей, да оно и понятно почему… Тут я виделся с обеими сестрами и с ними говорил по душе. Кроме того, и тетушка иногда удостаивала меня своим разговором, и это я ценил отменно дорого. Перед отъездом моим в пансион тетенька всегда давала мне несколько мелких монет на баню, рассчитывая на четыре бани. В прежние разы я обыкновенно тратил эти деньги на сласти в один, много два дня. Но после перенесенной мною болезни (вши) я первый же раз, возвратясь в пансион, передал Леонтию Ивановичу всю полученную мелочь, вместе с кошельком, объяснив ему, что деньги эти даны мне на баню, но я боюсь, что не сохраню их даже до первой субботы; этим признанием я вызвал добродушный смех старика чуть не до удушливости и с этого же времени начал ходить в баню каждую субботу.
На рождественские праздники приезжал за мною в пансион уже не дядя Михаил Федорович, а лакей Василий Васильевич. Дядя был уже опасно болен и не вставал с постели. В этот приезд я имел свои ночлеги в другой комнате, как помнится, в биллиардной на диване. Дядя Мих. Федорович в эти рождественские праздники и скончался от водяной. Предсмертные мучения его были ужасны.
Далее я был у тетушки на масленице и на две пасхальные недели, т. е. на Страстную и на Пасху. Пасха была ранняя, 26-го марта. Отправляя меня в пансион, тетушка сказала, что не возьмет меня впредь до окончания моих экзаменов, то есть до летних каникул. Конечно, этого, может быть, и не случилось бы, если бы к тому времени не произошла катастрофа, т. е. смерть папеньки.
Пасха, как я сказал выше, была ранняя, и после Пасхи мы достаточное еще время учились, а затем начали приготовляться к экзаменам, которые и в то уже время были довольно трудные и вообще очень обстоятельные. Но вот наступили экзамены, вот они и кончились. Все ученики разъехались по домам, только один я остался. Экзамены сошли для меня весьма благополучно; я был переведен в 3-й класс и удостоился получить награду: книгу. Прошла уже целая неделя после экзаменов, и я каждый день поджидал или самого папеньку или приезда за мною лошадей. Но день проходил за днем, а желание мое обрадовать папеньку полученною мною наградою не осуществлялось. – Наконец настал Петров день (29 июня). Я почти целый день проводил в тенистом саду, бывшем при пансионе. После обеда, часу в 5-м дня, вдруг меня зовут к Чермаку, говоря, что за мною кто-то приехал. Я мгновенно бегу в дом и в нижнем коридоре встречаю двух человек: дядю Дмитрия Александровича Шера и Тимофея Ивановича Неофитова. Оба они встретили меня с какими-то постными лицами; но, не говоря уже об этих постных лицах, одно неожиданное появление обладателей этих лиц внушило во мне ожидание чего-то ужасного.
– Давно ты не получал известий от папеньки? – спросил меня после первого приветствия дядя Шер.
– Да, давно уже; здоров ли папенька, приехал ли уже в Москву? Я ежедневно ожидаю его.
– Твой папенька приказал тебе долго жить, – брякнул на это Шер.
Что со мною сталось – уже не помню. Знаю только, что меня нашли в дортуаре, в верхнем этаже здания, лежащим на чьей-то койке и истерически рыдающим. С Чермаком чуть не сделался удар, когда он увидел меня в таком положении. Наконец, меня привели в сад и опять отвели к приехавшим двум господам. От них я узнал, что папенька умер уже несколько недель и что меня не извещали потому, что не желали тревожить меня во время экзаменов. Узнал также, что брат Николя и сестра Саша уже взяты из деревни и находятся теперь у дяденьки Александра Алексеевича и что меня теперь повезут туда же. Долго не мог я хоть сколько-нибудь успокоиться, но вот, наконец, собрали все мои вещи и книги, образовался узел порядочный; я распрощался с добрейшим Леонтием Ивановичем и поехал в одном экипаже с дядей Дмитрием Александровичем, а Неофитов поехал в отдельном экипаже.
Расплаканный и расстроенный донельзя, я достиг, наконец, куманинского дома. День был ясный и жаркий, было уже часов б вечера, и дядя, тетя и мои три сестры и брат все находились в саду. Повели и меня в сад. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что сестры и брат, а равно и весь дамский персонал были в трауре. Я подошел к дяде и весь в слезах и рыдая припал к его груди. Этим как будто бы безо всяких слов и без всяких просьб я поручал себя его доброте и покровительству. Сцена произошла трогательная, даже дядя, человек крепкий и твердый, казалось мне, прослезился; тетя же и бабушка приняли меня в свои объятия и горько расплакались.
– Ну, полно, полно, – прервал эту сцену дядя, – иди к сестрам и брату и постарайся успокоиться.
Тогда только я бросился целовать сестер и брата, и вскоре первая жгучая боль обрушившегося на меня несчастия притупилась. Мы так долго не видались, что разговорам не было конца. Конечно, Шер и Неофитов отрапортовали дяде и тетке, как встречено было мною известие, а равно и то, что я учился хорошо и получил награду. Вскоре позвали опять меня и велели показать мою награду. Этим, кажется, окончательно горе мое притупилось; но мне ведь было всего 14 лет!!.
Затем пошло пребывание мое в доме Куманиных целые летние каникулы. Времяпровождение каждодневно одно и то же. Все мы, подростки, проводили время в саду, сидя преимущественно в беседке и только изредка прогуливаясь по дорожкам сада. Из всего 1 ½ месяца, проведенного мною в этот раз в доме дяди, только два-три обстоятельства остались у меня в памяти. Во-первых, я помню литературные чтения, происходившие в том же саду. Эти чтения так много напомнили мне наши домашние чтения в уютной гостиной Мариинской больницы! Настоящие же чтения совершались под открытым небом в тени густого тополя. Читали или сестра Варенька, или тетка Катенька{53}, а иногда даже и сама тетенька. Тетенька читала очень хорошо, «истово», – как говорила она. Куманины в этот год получали «Отечественные записки» изд. А. А. Краевского, и это был первый год их издания под сказанною редакциею. В летнем номере книжки был помещен роман Основьяненко «Пан Халявский»{54}, и вот это-то произведение тетушка, прочитавши сперва сама, порешила, что его можно прочесть и молодому поколению, по этой же причине и устроились садовые чтения, при которых присутствовал и я и с удовольствием прослушивал читанное. Во-вторых, вспоминаю приезд государя императора в Москву для закладки храма во имя Христа-Спасителя. На закладке храма, падкая до всех зрелищ, непременно хотела быть и бабушка Ольга Яковлевна, и вот она прямо заявила, что пойдет со мною на закладку. И, действительно, мы пошли. Радости моей не было конца – но это длилось недолго! Толкаемые со всех сторон и часто сжимаемые тысячною живою массою, мы еле-еле двигались и положительно ничего не видели, кроме давящей нас толпы. Но тем не менее бабушка рассказывала всем, что она отлично видела всю церемонию закладки. То же почти говорил и я, но в душе сознавая, что это была чистейшая ложь.








