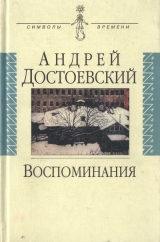
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Весь учебный 1835/1836 год я провел как в чаду. Имея столь впечатлительный для своих лет характер, я не вынес в своей памяти ни одного приятного впечатления; да и вообще все то, что было со мною в этот год, я решительно позабыл, все происшествия как будто заволоклись туманом, тогда как более ранние впечатления рисуются в моей памяти очень рельефно. Я не помню за весь год, чтобы на меня было обращено хоть какое-нибудь внимание, чтобы хоть один из учителей задал урок собственно мне или спросил меня выученное. Ежели я что-либо приобрел за этот год, то это во французском и немецком языках. Эти предметы, как я выше упомянул, преподавал сам Кистер и преподавал очень хорошо. Тогда только что вошла в употребление метода с картинками: на печатных раскрашенных картинах, наклеенных на картонные листы, изображались различные предметы, а равно животные и птицы, и к ним принадлежали печатные рассказы на французском, немецком и русском языках, различные признаки и свойства нарисованных на картинах предметов. Эти признаки и свойства разнообразились и дополнялись самим преподавателем, и мы прямо в классе, без всякого урока и приготовления, занимались практическими рассказами про различные предметы на французском и немецком языках и заучивали это наизусть. Вот это только и осталось у меня в памяти.
Но год скоро прошел, наступила весна. У Кистера в Сокольниках была своя большая дача, и он часто заставлял водить поочередно каждый класс на прогулку в Сокольники. Там, на даче, нам приготовляли ранний обед и чай, и избранный класс, погуляв в роще, пообедав и напившись чаю, возвращался в город. Помню, и я раза два-три участвовал в этих прогулках и вынес об них очень приятные впечатления.
Учебный год закончился в пансионе публичным актом. Экзаменов не было, по крайней мере в низшем классе, но на публичный акт задавалась на выучку какая-нибудь басня или стихотворение на русском, французском или немецком языках, и воспитанники вызывались поочередно и произносили заученное ими. В этом и состоял весь акт. Публики же, действительно, бывала масса, и публика преимущественно дамская, великосветская. На акте этом предлагали гостям чай, прохладительные напитки и мороженое. Конечно, я не был избранником, удостоившимся что-нибудь произнести на акте, но помню, что папенька на акте был. Не это ли было причиною неудовольствия папеньки, вследствие которого я следующий год не был уже в пансионе Кистера. Это ли или какое другое обстоятельство было причиною, но я взят был из пансиона Кистера окончательно и считал себя очень счастливым этим решением родителей.
После нашего акта скоро окончились экзамены и у старших братьев, и они были отпущены на каникулы. И мы все трое братьев в скором времени поехали вместе с папенькой в деревню. Эта поездка памятна для меня тем, что я первый раз ехал в деревню с папенькой и братьями, и мне казалось, что я еду не домой, а просто я гости к маменьке. Про пребывание свое в этом году в деревне я ничего не могу отметить особенного. Все воспоминания свои о деревне я сообщил уже выше и не могу подразделить, какие из них случились в какой год. Конечно, мы все уже подросли, и игры наши не могли быть столь детскими, как прежде. Помню, что мы пробыли в деревне, по обыкновению, до осени и осенью возвратились из деревни в Москву вместе с маменькой.
С возвращением нашим в Москву я поступил опять под ферулу братьев и сестры. Опять начались занятия недельные и отчеты в них по субботам. Но скажу откровенно, что занятия эти были для меня очень полезны, и я, право, под надзором братьев успевал гораздо более, нежели в пансионе Кистера.
С осени 36-го года в семействе нашем было очень печально. Маменька с начала осени начала сильно хворать. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но, видимо, утешал себя надеждою на поддержание сил больной. Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель.
В это время квартира наша сделалась как бы открытым домом: постоянно у нас бывали посетители. С 9 часов утра приходили доктора во главе с Александром Андреевичем Рихтером{39}. Из сочувствия к отцу, как своему товарищу, они, навещая маменьку, каждый день делали консилиум. Склянки с лекарствами и стаканы с различными извержениями загромождали все окна и ежедневно убирались, сменяясь новыми. С полудня приезжала тетенька Александра Федоровна (в эти разы, т. е. в сильную болезнь маменьки, она приезжала, впрочем, одна, без сопровождения бабушки) и оставалась до вечера, а иногда и на ночь. Часов около четырех съезжались родные и полуродные, ежели не для свидания с маменькой – к ней посторонние не допускались, – то для оказания сочувствия папеньке. Бывали Куманин Александр Алексеевич, Шер, Неофитов, Маслович Настасья Андреевна и многие другие. Вспоминаю, что посещения их не утешали, а только расстраивали папеньку, который должен был рассказывать каждому про течение болезни. Мне кажется, и сами визитеры очень хорошо это понимали, но все-таки ездили для исполнения приличий и принятых обычаев. – Вечером часов в 6 опять появлялись доктора для вечерних совещаний. Это было самое горькое время в детский период нашей жизни. И немудрено. Мы готовились ежеминутно потерять мать. Одним словом, в нашем семействе произошел полный переворот, заключенный кончиною маменьки. В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно. Помню ночь, предшествовавшую кончине маменьки, то есть с 26-го на 27-е февраля. Маменька перед смертною агонией пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, и все мы рыдали. Вскоре после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в 7-м часу утра 27 февраля она скончалась на 37-м году своей жизни. Это было в субботу сырной недели. Все приготовления к похоронам, троекратные в день панихиды, шитье траура и проч. были очень прискорбны и утомительны, а в понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны.
Спустя несколько времени после смерти маменьки отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище.
Надо сказать, что еще гораздо ранее отец, через посредство главного доктора Мариинской больницы Александра Андреевича Рихтера, подавал докладную записку Виламову о принятии братьев в училище на казенный счет. Ответ Виламова, очень благоприятный{40}, был получен еще при жизни маменьки, и тогда же была решена поездка в Петербург. Осуществление этой поездки чуть-чуть было не замедлилось. Но прежде, нежели сообщу причину замедления, расскажу о том впечатлении, которое произвела на братьев смерть Пушкина.
Не знаю, вследствие каких причин, известие о смерти Пушкина дошло до нашего семейства уже после похорон маменьки. Вероятно, наше собственное горе и сидение всего семейства постоянно дома были причиною этому. Помню, что братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах с старшим братом несколько раз повторял, что, ежели бы у нас не было семейного траура, он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину. Конечно, до нас не дошло еще тогда стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина, но братья где-то достали другое стихотворение неизвестного мне автора. Они так часто произносили его, что я помню и теперь его наизусть. Вот оно:
Нет поэта, рок свершился,
Опустел родной Парнас!
Пушкин умер, Пушкин скрылся
И навек покинул нас.
Север, север, где твой гений?
Где певец твоих чудес?
Где виновник наслаждений?
Где наш Пушкин? – Он исчез!
Да, исчез он, дух могучий.
И земле он изменил!
Он вознесся выше тучей,
Он взлетел туда, где жил!
Причина, которая чуть не замедлила поездку отца в Петербург, была болезнь брата Федора. У него, без всякого видимого повода, открылась горловая болезнь, и он потерял голос, так что с большим напряжением говорил шепотом, и его трудно было расслышать. Болезнь была так упорна, что не поддавалась никакому лечению. Испытав все средства и не видя пользы, отец, сам строгий аллопат, решился испытать, по совету других, гомеопатию. И вот брат Федор был почти отделен от семейной жизни и даже обедал за отдельным столом, чтобы не обонять запаха от кушания, подаваемого нам, здоровым. Впрочем, и гомеопатия не приносила видимой пользы: то делалось лучше, то опять хуже. Наконец посторонние доктора посоветовали отцу пуститься в путь, не дожидаясь полного выздоровления брата, предполагая, что путешествие в хорошее время года должно помочь больному. Так и случилось. Но только мне кажется, что у брата Федора Михайловича остались на всю жизнь следы этой болезни. Кто помнит его голос и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный – более грудной, нежели бы следовало.
К этому же времени относится и путешествие братьев к Троице. Тетенька Александра Федоровна, по обычаю, ежегодно весною ездила на богомолье в Троицкую лавру, и на этот год упросила папеньку отпустить с нею и двух старших сыновей для поклонения святыне перед отъездом их из отчего дома в Петербург. Впоследствии я часто слышал от тетеньки, что оба брата во время путешествия услаждали тетеньку постоянною декламациею стихотворений, которых они массу знали наизусть.
Папенька после смерти маменьки решился совсем переселиться в деревню (он подал уже в отставку), а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле покойной. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, чтобы обозначены было только имя, фамилия, день рождения и смерти, на заднюю же сторону памятника выбрали надпись из Карамзина: «Покойся, милый прах, до радостного утра»… И эта прекрасная надпись была исполнена{41}.
Наконец наступил день отъезда. Отец Иоанн Баршев отслужил напутственный молебен, и путешественники, усевшись в кибитку, двинулись в путь (ехали на сдаточных), о котором хотя и мельком, но так поэтично упомянул брат Федор Михайлович 40 лет спустя в одном из нумеров «Дневника Писателя». Я простился с братьями и не видался с ними вплоть до осени 1841 г.
По отъезде папеньки мы остались одни, под присмотром няни Алены Фроловны; но, впрочем, существовал и высший надзор. Главою семьи осталась сестра Варенька; ей в это время шел уже 15-й год, и она все время отсутствия папеньки занималась письменными переводами с немецкого языка на русский, как теперь помню, драматических произведений Коцебу{42}, которыми ее снабжал Федор Антонович Маркус. Сей последний ежедневно заходил в нашу квартиру, чтобы узнать, все ли благополучно, и чтобы посмотреть всех нас, детей. Он же, кажется, ежедневно выдавал деньги на провизию для нашего стола и вообще был хозяином квартиры. Я позабыл сказать, что все хлопоты по похоронам маменьки он тоже принял на себя и исполнил этот долг как истинно добрый человек. Кроме посещений его, очень часто навещала нас и тетенька Александра Федоровна вместе с бабушкой Ольгой Яковлевной. Тетушка при виде нас, и в особенности при виде Верочки, Николи и Сашеньки, всегда, бывало, горько расплачется. Прощаясь с нами, она, бывало всех нас, отдельно каждого, перекрестит, чего прежде, при жизни маменьки, не случалось; этим она хотела, видимо, заявить, что в отношении к нам принимает на себя все обязанности матери.
Отец пробыл в отсутствии с лишком полтора месяца и вернулся в Москву уже в июле месяце{43}.
Помню я восторженные рассказы папеньки про Петербург и пребывание в нем: про путешествие, про петербургские деревянные (торцовые) мостовые, про поездку в Царское Село по железной дороге, про воздвигающийся храм Исаакия и про многие другие впечатления.
С возвращением в Москву папенька не покинул своего намерения оставить службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства{44}. Но покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устраивал все дела, – наступил и август месяц. Для перевозки всего нашего скромного имущества приехали из деревни подводы. Сестра Варенька должна была ехать вместе с папенькой в деревню. Меня же решено было отдать в пансион Чермака, на место братьев. Не знаю, по какой причине, или тетенька Александра Федоровна считала для себя неудобным брать меня из пансиона Чермака по праздникам к себе, или сам папенька, не получая вызова со стороны Куманиных, не хотел их просить об этом, – только на счет меня было сделано распоряжение, чтобы троюродная тетка моя Настасья Андреевна Маслович брала меня по праздникам к себе. Мотивировано это было тем, что Масловичи будто бы ближе жили к пансиону, нежели Куманины. Две же мои младшие сестры, Верочка и Сашенька, равно как и брат Коля, конечно, тоже должны были переселиться вместе с отцом и неизменною нянею Аленою Фроловною в деревню.
Но вот настал и день разлуки. Папенька в одно утро отвез меня к Леонтию Ивановичу Чермаку и сдал меня на полный пансион.
Этим фактом кончается первый акт, или, как я принял называть в группировке своих воспоминаний, – первая квартира моей жизни. То есть кончилась жизнь моя в доме отчем, началась жизнь между чужими людьми, начались неизбежные жизненные заботы, которых прежде я не знал и не испытывал. Но прежде, нежели закончу этот период своей жизни, мне хочется более рельефно вырисовать личности моих родителей и их взаимные друг к другу отношения, равно как и отношения их к нам, своим детям. Этого я думаю достигнуть следующим образом. У меня каким-то образом сохранились четыре письма из переписки родителей во время их разлуки в летнее время, когда отец жил в Москве, а мать хозяйничала в деревне{45}. Письма эти, мне кажется, вполне вырисуют как их, так и их взаимные отношения, а потому я и решился их с полною точностью поместить здесь, в своих воспоминаниях. Тем более мне хочется это сделать, что в настоящее время некоторые из этих писем начали истлевать.
Вот эти письма{46}.
Письмо отца к матери из Москвы в с. Даровое
9-го июля [1833] года
Любезнейший друг мой Машенька!
Во-первых, я уведомляю тебя, милый друг мой, что мы все слава Создателю здоровы. Коленька[5]5
Брат Николай.
[Закрыть] наш, слава Богу, поправляется, но очень худ и бледен. Вареньку я отвез на Покровку[6]6
Т. е. к тетеньке А. Ф. Куманиной.
[Закрыть]. Новостей у нас никаких не имеется, выключая, великий князь Михаиле Павлович и великая княгиня Елена Павловна у нас в Москве. Дела мои по приезде[7]7
Т. е., вероятно, по возвращении из деревни от маменьки.
[Закрыть] очень тихи. До сих пор ни одного больного. Что делать, скучно на старость лет при недостатке; но Бог для меня всегда был милостив, потерпим. Более всего меня угнетает дождливая погода. Здесь, в Москве, льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только. Ваза пропадает. Сено у тебя в Даровой хотя и скошено, но, наверное, говорю, что сгниет, а все оттого, что меня не послушались и не сложили в ригу. По приезде нашел, что нанятая моя услуга расстроилась, прачка без меня, взявши у няньки денег, пропадала целую неделю, а кухарка на другой же день сказалась больною – все время лежит и просит, чтобы ее отпустить; беда мне да и только! Старуха [8]8
Недоумеваю, про какую старуху здесь говорится, вероятно, была какая-нибудь приживалка, которую я позабыл.
[Закрыть] дуется, собирается к своим, и, как я подозреваю, она-то и причиною вымышленной болезни кухарки. – Письма твоего ожидаю с нетерпением. Жаль, друг мой, что я у тебя погостил не так, как мне хотелось, все помехи, и я не только не повеселился с тобою, но даже не обласкал твоих певиц[9]9
Деревенские девушки и бабы, которые по праздникам певали у нас в деревенском дому (наверху), как говорили они.
[Закрыть], кланяйся им от меня и поблагодари их. Поверишь ли, что бытность моя у тебя представляется мне как бы во сне; в Москве же встретили меня хлопоты и огорчения; сижу пригорюнившись да тоскую, головы негде приклонить, не говорю уже – горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня; но Бог будет судить их за мои огорчения. Еще тебе скажу, что ямщик, который взялся доставить меня в Москву, при ряде отдал мне свой паспорт, но в Коломне при сдаче в суетах он, а равно и я об нем позабыли, и таким образом билет остался у меня; то ежели, как я и полагаю, он станет спрашивать, то скажи ему, что на следующей почте я пришлю его в страховом письме. Илья Киселев его знает, только подтверди, чтобы ему лично отдали, а без него никому бы и не отдавали; а всего лучше, ежели ты его возьмешь к себе, и, когда явится, сама ему вручи, только призови Илью и спроси, точно ли это тот самый ямщик. – Еще новость: в сегодняшних газетах напечатан манифест о ревизии, то ежели объявят тебе из Нижнего Земского Суда об этом, то, смотри, будь осторожна. Перепиши все семьи и поверь несколько раз, чтобы кого-нибудь не пропустить, равным образом и дворовых, в числе коих надобно переписать и наших московских, как-то: Давида, Федосия (Федора), Семена и Анну, также не пропусти старика дворового, который проживает у матери Хотяинцева. Сию перепись сперва сделай для себя, а подавать не торопись, ибо срок назначен до мая 1834 года, а до тех пор, может быть, кто-нибудь родится или умрет из числа стариков. Затем только посмотри поприлежнее, друг мой, чтобы перепись была самая верная, чтобы кого не пропустить или прибавить, потому что за это определен большой денежный штраф. – Для сведения твоего я постараюсь прислать экземпляр книги, как в таком случае руководствоваться. Насчет нашего дела с Хотяинцевым, поступай так, как между нами было условлено, а лучше ежели ты будешь сообразоваться с обстоятельствами и в нужде советоваться с опытными в сем деле людьми, для чего советую тебе посылать почаще в Каширу и проси совета у Дружинина …кова[10]10
Тут письмо истлело, и несколько букв уничтожено, – вероятно, Шишкова или Набокова.
[Закрыть], которого ежели мои обстоятельства улучшатся, надобно также поблагодарить. Насчет же его мнимой седьмой части, будь покойна, ибо мать его не предъявила при вводе во владение, а во-вторых, пропустила срок и не просила; о сем напишу тебе пространнее в следующем письме, сие я имею от Набокова, который сказал мне, что Небольсина разделилась с Конновой и получила все земли во владение на законном основании, хотя и с приплатою сверх 38 тыс. рублей. Старушка Небольсина, не знаю где и каким образом, тебя знает, очень превозносит твое хозяйство и очень желает быть с тобою знакомою и просила Набокова, чтобы он ее с нами познакомил; то не худо, ежели ты с ними ознакомишься, ибо они могут нам быть полезны насчет дележа, которого они усердно желают. Вот тебе, милый друг мой, письмо о всякой всячине, о приятном и неприятном, но не сетуй на меня, горе одолевает, но Бог милостив, все поправится. Ты же сама меня просила, чтобы от тебя ничего не скрывать. Прощай, друг мой сердечный, будь здорова и, сколько можно, счастлива. Береги себя для моего спокойствия и счастия. Целую тебя до засосу. Детей наших за меня поцелуй, скажи от меня старшим, чтобы учились и не огорчали тебя; посылаю вам всем, милые моему сердцу, любовь мою и благословение. Кажется, что Черемошню нам надобно заложить в частные руки, известно тебе, по каким причинам. Прощайте, друзья мои, и не забывайте любящего вас всею душою и всем существом своим Михайлу Достоевского.
Извести меня, нет ли каких-либо слухов насчет исков Хотяинцева, также и насчет Черемошни, постарайся узнать обстоятельно в Кашире.
На всякий случай, ежели ты узнаешь что-нибудь неприятное для нас насчет Черемошни, то советую прислать ко мне как можно поскорее нарочного.
Вот и еще письмо от 6-го августа, год не обозначен, но, вероятно, того же 1833 года, потому что ведется речь о тех же материях{47}.
Августа 6-го дня [1833].
Здравствуй, любезнейшая моя, ангел мой!
Рад, бесценный друг мой, что ты и дети, хвала Всевышнему, здоровы. Молю его всещедрого, что он всеблагий хранит вас, мои милые! Дай Бог, чтобы вы и впредь были здоровы и благополучны. О себе уведомляю тебя, что я и дети также по благости Божией здоровы, и отчасти покоен.
Сестра А. Ф. тебя благодарит за письмо. Они все здоровы. Настасье Андреевне дал бог внучку от Аннушки. Котельницкие тебе также кланяются. У нас опять со вчерашнего дня пошли дожди и до сих пор льют. Боюсь, друг мой, что он тебе помешает как в уборке овса, так и в посеве, но пусть будет все по воле Божией, возложим все наше упование на него! В субботу утром я по обыкновению моему поспешил, во-первых, на почту, приезжаю, смотрю в реестр, нахожу 40 №, получаю письмо, сажусь в коляску, и, не прочитавши всего на конверте, разламываю его, и, во-первых, попадается на глаза «Любезная сестрица»… и проч…. Вот я стал в тупик и начал тебя прославлять и величать сиречь тако: «Ах она некоштная» – и так дале, и как нечего было делать, то повез письмо на Покровку, отдал письмо с извинением, что по ошибке распечатал их письмо. Сижу пригорюнившись. Вдруг пришла мне мысль в голову, что, может быть, есть ко мне письмо особое. Вот я встаю, прощаюсь и скачу на почту и наконец получаю твое письмо. Тут душа опять вскочила в свою перегородку, и я, разломавши конверт, начал алчными пробегать глазами. Жаль мне дочки[11]11
Не могу разъяснить, про какую дочку здесь упоминается, вероятно, это какое-нибудь иносказание.
[Закрыть], она бедная душою тоскует; постарайся, друг мой, приготовить питьеца поснадобнее и подушистее, авось либо поможет. Детей не торопись присылать, лучше устрой все надлежащим образом и тогда с Богом! Обо мне, друг мой, не беспокойся, я ожидал более, то и мене подожду. Я же полагаю, что этот мошенник[12]12
Здесь под наименованием мошенника подразумевается Чермак.
[Закрыть] их без денег вперед не возьмет. На счет моей услуги не беспокойся, кухарка и прачка, кажется, обе порядочные, то есть, лучше сказать, смирные. Ежели Анна обещается вести себя получше, то мы ей, подтвердивши то же, можем прислать. Она же в деревне почти не нужна. Пишешь ты, что посылала в Каширу и получила все тот же ответ; между прочим, ничего не упоминаешь о 7-й части, или ты, друг мой, до объявления тебе Указа из Нижнего Земского Суда решилась не напоминать Д.[13]13
Кто такой Д. не могу сказать, вероятно, какой-нибудь каширский делец.
[Закрыть] об сем деле, или что он забыл тебя об этом уведомить, напиши мне, друг мой. Пишешь ты, что соседка наша Небольсина вышла за князя Оболенского и что они свадьбу пировали у X.[14]14
X – это, конечно, Хотяинцев.
[Закрыть] теперь у него живут, следовательно, предполагаемое с ними знакомство не обещает ничего для нас хорошего; я говорю насчет дележа, но пусть будет все так, как Богу угодно, будем ожидать. В прошедшем письме я писал тебе коротко о 30 числе, по причине неприятностей, тебе известных, теперь же скажу тебе больше. Я таки, как быть водится, порядком начал трестировать нашего Геркулеса-доброхода. Во-первых, с тем намерением, чтобы ее поистощить, приказал ей пустить кровь с обеих рук, после через день начал ей давать кладь из глауберовой соли, сабура, скамониума, серы горючей, постного масла пополам с вином, разумеется, простым, начал ее выдерживать голодною диетою, назначив в день по 3 фунта мякиша хлеба, по порядочной миске картофельной похлебки, с крепким говяжьим наваром, порядочную чашку каши с молоком и наконец 50 блинцов или же тарелку макаронов, крепко поджаренных с маслом и с довольным количеством медку; ты, думаю, помнишь, что она до этого блюда охотница[15]15
Не знаю, что должна обозначать эта аллегория. Только, думаю и знаю, что дело хотя частью идет о няне, Алене Фроловне; Геркулес-доброход – это, конечно, она, но дальнейшего смысла этой аллегории разъяснить не могу.
[Закрыть], и чтобы больше возбудить аппетит, то я посылал ее каждый день к Сухаревой башне за покупкою провианта, Марье же Ивановне[16]16
Кто эта Марья Ивановна, не знаю, вероятно, одна из приживалок у нас. Но, впрочем, таковой я не помню.
[Закрыть] вина не давал и ставил перед нею штоф вина с намерением больше возбудить жажду к питию оного, и таким образом все было готово, а я в назначенный день, в сопровождении моих актрис, выступил с важностью, где уже зрителей было большое стечение; но для состязания было только двое, а именно старуха, подобная той, которую, помнишь, мальчишки дразнили жандармом, и один пьяный приказный с опухшею рожею. Слышал я, что было и более, но те, посмотрев на заготовленную провизию, стиснув плечами, удалились. Те же, кои остались двое, то больше для вина, и я начал было уже торжествовать, но вдруг, к несчастию, нашли тучи, грянул гром, и все рушилось. Так-то, друг мой, все наши замыслы обращаются ни во что. Старухи все приготовленное одним вечером порешили, и я ни больше ни меньше остался с пустым кошельком. За вареньице и за наливочку благодарю тебя, несравненная моя, медок с чайком кушай, друг мой, и поблагодари за меня старосту. – Прощай, душа моя, голубица моя, радость моя, жизненочек мой, целую тебя до упаду. Детей за меня поцелуй. Кажется, писать нечего, исполни только то, что в прошедших письмах было писано. Прощай, единственный друг мой, и помни навсегда, что я всегда есмь твой до гроба М. Достоевский.
Дождь у нас от субботы и до сих пор, т. е. до понедельника льет, беда да и только. Ежели и у вас то же, то горе нам. Прощай, прекрасная моя.
Сверх этих двух писем в собрании моих писем имеется еще письмо папеньки к брату Федору в Петербург. Не знаю, как письмо это попало ко мне, но оно тоже представляет для меня большой интерес, а потому я и это письмо целиком помещаю здесь. Замечательно только то, что письмо это писано из деревни 27 мая 1839 года, то есть за несколько дней до смерти его. Вот это письмо{48}.
27 мая 1839, с. Даровое.
Любезный друг Феденька!
Два письма в одном конверте я получил от тебя в прошедшую почту; а теперь, не теряя времени, спешу тебе отвечать. Пишешь ты, что терпишь и в лагерях будешь терпеть нужду в самых необходимейших вещах, как-то: в чае, сапогах и т. п., и даже изъявляешь на ближних твоих неудовольствие, в коем разряде, без сомнения, и я состою, в том, что они тебя забывают. Как ты несправедлив ко мне в сем отношении! Ты писал, что состоишь должным 50 р. и просил, чтобы прислать тебе для расплаты, а также и для себя хотя 10 р., вот твои слова. Я выслал тебе семьдесят пять рублей на имя Шидловского, что составляет с лажем 94 р. 50 к., я полагал, что сего на первый случай будет достаточно, ибо знаю, что и в Петербурге рубль ассигнации ходит выше своего значения. Теперь ты, выложивши математически свои надобности, требуешь еще 40 руб. Друг мой, роптать на отца за то, что он тебе прислал, сколько позволяли средства, предосудительно и даже грешно. Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал тоже, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось; теперь пишу тебе, что за нынешним летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. Но это ничто в сравнении с настоящим бедствием. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы! Жара, ветры ужасные все погубили.
Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом! После этого станешь ли роптать на отца за то, что тебе посылает мало. Я терплю ужаснейшую нужду в платье, ибо уже 4 года я себе решительно не сделал ни одного, старое же пришло в ветхость, не имею никогда собственно для себя ни одной копейки, но я подожду. Теперь посылаю тебе тридцать пять рублей ассигнациями, что по московскому курсу составляет 43 р. 75 к., расходуй их расчетливо, ибо повторяю, что я не скоро буду в состоянии тебе послать. Я, Николя и Саша, слава Богу, здоровы. От Вареньки получил недавно письмо, она пишет, что все здоровы. Брата за письмо не вини, я его в нескольких письмах разбранил, что он, ведя переписку с Шидловским, об тебе писал глухо, что ты здоров и не имеешь никаких неприятностей, не имея сам о тебе ни малейшего сведения; но я на него и сам сердит, что он употребляет время на пустое, на стихокорпание. Твой совет я ему передам. Андрюша, кажется, учится хорошо, но от него давно не получаю ни строчки. Вижу, друг мой, что вас солдаты служители совершенно грабят; посоветуйся с кем-нибудь, нельзя ли в лагерях устроить твои дела повыгоднее. Прощай, мой милый друг, да благословит тебя Господь Бог, чего желает тебе нежно любящий отец М. Достоевский.
P. S. Не скучает ли И. Николаевич нашими комиссиями[17]17
И. Никол. Шидловский, знакомый братьев, с которым и отец познакомился, бывши в Петербурге, и очень полюбил его.
[Закрыть].
А вот и два письма маменьки{49}. Оба они писаны в мае месяце 1835 года, то есть тогда, когда маменька была беременна сестрою Сашею.
1835 г. Мая 3-го дня
Здравствуй, бесценное сокровище мое, сердечный друг мой, здравствуй!
Милое письмецо твое я получила, за которое душевно тебя благодарю и посылаю бесчисленное множество поцелуев. Сердечно радуюсь и благодарю Бога, что вы, драгоценные мои, все здоровы и благополучны, а об нас не думай. Мы все, слава Создателю, здоровы, бока мои зажили, а кашля и следов не осталось. Напрасно ты себя беспокоишь такими мыслями; то правда, что в разлуке с милыми всего придумаешь, я это знаю по себе. Новостей у нас никаких нет, кроме того, что посев овса, благодаря Богу, вчера окончили; и сегодня и завтра крестьяне по одному брату на себя, а по другому кое-какие мелочные поделочки исправляют; а на будущей неделе примемся за что-нибудь посерьезнее, да надобно же и лошадям дать вздохнуть, ибо подножный корм еще плох, а в доме у них нет ни сенца, ни соломки. Но теперь есть надежда, что пойдет и травка; вчера и нынче у нас дождички прибесподобные и довольно-таки наделали грязи, и потеплело, только все ветрено. Я крайне трусила, что ржи наши опять засохнут, но теперь так все зазеленилось, что мило посмотреть. Подводу выслать не тороплюсь по тем же причинам, разве в конце будущей недели вышлю. Сегодня вздумалось мне пройтиться по грязи пешком в Черемошню, и что же, на дороге два раза мочил меня дождь, и там не удалось и на поля посмотреть, только и видела, что птиц, телят, да дошаталась по саду, да с тем и домой пришла. Еще та новость, что Левон и староста просят у тебя невесту, хорошеньку Ульяну. Я Михайлу[18]18
Михайло, отец Ульяны, а Левон и староста – два претендента на руку Ульяны для своих сыновей. А Ульяну, вероятно, и не спрашивали.
[Закрыть] спрашивала одного и не добилась толку: за которого угодно вашей милости, да и только; клянется, что для него оба жениха хороши, а сам он никак не может решительно сказать, а за кого мы благословим. Я, друг мой, не могу сама собою сего устроить, а оставляю до твоего приезда, чтобы при тебе и свадьбу сыграть.
Черемошенским беднягам я поделила овса, остального после посева в Черемошне: Исаю дала три четверти, Андрею – три, Михайле – на новое тягло 2 ½ Матвею – одну четверть, всего 9 четвертей с половиною; что делать, не оставить же…[19]19
Одно слово вырвано.
[Закрыть] Даровские же покуда еще не являлись за овсом. Душевно рада я, что вы все, мои голубчики, воскресенье провели денек у родных, и от души благодарю их, что дали вам удовольствие быть всем вместе, я думаю, Варенька была вам очень рада, да к тому же и от меня весточка пришла кстати, как будто и я, мои милые, была с вами. А мне этот день очень было скучно, я все продумала об вас и, разумеется, не придумала ничего хорошего для своего утешения. Прощай, дружочек мой, не взыщи, что в письме моем нет ни складу, ни ладу, пишу все, что на ум попало. Дети целуют твои ручки и радуются, что обещаешь скоро к нам приехать. 45-пудовая гиря[20]20
Речь идет о няне Алене Фроловне.
[Закрыть] свидетельствует тебе свое почтение и благодарит за память твою об ней, детям поручает сказать то же, прибавляя, что она исчезает. У ней кашель, и она думает, что это чахотка. Прощай, сокровище мое, поцелуй за меня детей, не скучай, мой милый, и будь здоров и спокоен, а я пребуду до гроба верная, без границ любящая тебя подруга твоя М. Достоевская.








