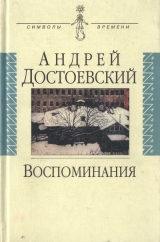
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
* * *
Я уже упомянул выше, что я приехал в Елисаветград 21-го октября 1849 г., в пятницу вечером, т. е. почти уже в ночь.
Ввалившись в неизвестный мне город и притом в местность, резко отличающуюся от той, где я родился и провел свое детство и юность, я невольно почувствовал себя, как в лесу. Восемь дней, проведенных мною в пути в тогдашней дорожной сутолоке, невольно отвлекли мои мысли от моего одиночества. Приехав же на место, я увидел себя совершенно отрезанным от всего прежнего, столь мне дорогого, и принужденным начинать новую жизнь в местности вовсе мне незнакомой. Было о чем подумать. Остановился я в лучшей тогда гостинице г. Елисаветграда, а именно на Большой улице, в гостинице Берингера или, по-уличному, просто у Симки, ибо такую кличку носил еврей, ее содержатель. Занял я в гостинице одну комнату, за которую с двумя самоварами платил по 50 копеек я сутки. Устроившись кое-как в гостинице, я на другой же день, примундирившись, сделал визит председателю городской думы. Он принял меня отменно-радушно и сообщил, что в настоящее время главного начальника, генерала Сакена, нет в городе, потому что он поехал в отпуск в Петербург, но все-таки советовал явиться к полковнику Громовскому, который исправлял должность начальника штаба. Начальник же штаба, генерал Ламберт, был, в свою очередь, тоже в отпуску, так что полковник Громовский являлся в это время главным лицом в городе. Конечно, я явился к полковнику Громовскому, а затем заявил о себе и в строительном комитете, который, собственно, был мифическим присутственным местом и числился при Елисаветградской городской думе. Тут я познакомился с будущим своим тестем Иваном Прокофьевичем Федорченко, занимавшим должность секретаря при Елисаветградской городской думе и строительном комитете, человеком очень почтенным, которого впоследствии я полюбил и уважал как отца.
Между тем я мало-помалу начал знакомиться с обывателями. С первым, с кем я познакомился, – был штатный смотритель уездного училища Григорий Иванович Жуков. В одно из воскресений я встретился с ним в соборе, – кто-то нас представил друг другу, и Жуков сейчас же пригласил меня к себе; у него я и обедал в этот день, а после обеда он меня катал на своем сером жеребце, и мы ездили в загородный сад. Одним словом, он накинулся на меня, как на новичка, и рад был приблизить меня к себе.
Как оказалось впоследствии, это был добрейший старик. Говорю старик, потому что и тогда уже ему было свыше 40 лет, хотя он все еще молодился. У Жукова я вскоре познакомился с офицером генерального штаба Виктором Степановичем Цитовичем. Это был очень милый и образованный человек, и впоследствии я до самого выезда его из Елисаветграда поддерживал с ним знакомство. А затем у того же Жукова познакомился и со всеми учителями гимназии, из которых с одним особенно сблизился, а именно с Семеном Михайловичем Шмаковым, с которым впоследствии и породнился.
Наконец я познакомился и с домом Ивана Прокофьевича Федорченко, впоследствии моего тестя. Как теперь помню, 6 декабря, в праздник (Николин день), я часов в 12 утра приехал с первым к нему визитом. Его самого, к сожалению моему, не застал дома, а потому, передав свою визитную карточку, отправился домой. За это, как впоследствии узнал, был обозван барышнями тюфяком и провинциалом, потому что, по их мнению, не застав дома хозяина, я должен был отрекомендоваться молодым хозяйкам. А барышень в этом доме было три: Домника Ивановна Федорченко, впоследствии моя дорогая и ныне уже умершая жена; во-вторых, Афанасия Ивановна Федорченко, впоследствии Шмакова и моя дорогая свояченица и ныне здравствующая, и, наконец, в-третьих, Марья Осиповна Полуликова, троюродная сестра двух первых, постоянно почти гостившая у них… Я помню, что первое впечатление, произведенное на меня этими молодыми девицами, было вовсе не такое, чтобы я мог предположить, что в скором времени я буду женихом, а впоследствии и мужем одной из них. Все шло своим порядком, но я, мало привыкнув еще к новому своему положению, очень скучал в своем одиночестве. К тому же участь брата, Федора Михайловича, была еще не решена, и я часто обращался к мысли, что будет, что с ним будет!? Наконец эта неизвестность кончилась для меня в начале нового 1850 года. Помню, что, кажется, на другой день нового года, т. е. 2 января приехал ко мне утром Ив. Прокоф. Федорченко, чтобы отдать новогодний визит, и, между прочим, сообщил, что в газетах напечатан приговор наказаний обвиненным по делу Петрашевского и что в приговоре этом в числе обвиненных значится и некто Федор Достоевский, причем полюбопытствовал – однофамилец этот господин мне или родственник… Конечно, я сейчас же заявил, что это мой родной брат, и попросил у него сообщить мне эти газеты, что он и исполнил, вынув их из кармана. По отъезде Федорченко, я сейчас же накинулся на газеты. Это был номер «Северной Пчелы», издаваемой Булгариным, не помню, от какого числа, но помню, что этот номер только что был получен в Елисаветграде{89}. В газете был напечатан приговор, по которому: «Отставной инженер-поручик Федор Достоевский 27-ми лет, за участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против правительства – по заключению генерал-аудиториата подвергался смертной казни расстрелянием. По высочайшей же конфирмации приговорен: „к лишению всех прав состояния, к ссылке в каторжную работу в крепостях на четыре года, и потом к определению рядовым“». И теперь, через 46 лет спустя после этого происшествия, несмотря на то, что брат Федор Михайлович после каторги был не только всепрощен, но и возвеличил имя свое, – я не мог написать этих строк без того, чтобы, как говорит жена, не подрал мороз по коже… Что было тогда со мною – предоставляю судить каждому. Помню только, что в этот день я никуда не выходил из комнаты, читал и перечитывал всю газету, а сентенцию и приговор переписал для себя на бумагу, которая и теперь цела у меня.
Сведение о том, что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу, и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и притом во взглядах только меньшинства встречал сочувствие… Большинство же долгое время чуралось меня…
Мне предстоит упомянуть еще о сыне Ивана Прокофьевича Федорченко – Михаиле Ивановиче, или попросту Мише, как звал я его все время. С детских лет он был идолом в доме как единственный сын отцу и брат сестрам. Сперва он окончил курс в Елисаветградском уездном училище, а затем в Одесской Ришельевской гимназии, потом поступил в Ришельевский лицей на математический факультет. В летнее время моего жениховства (1850) он кончил 1-й курс лицея и перешел на 2-й. В июне месяце он приехал на каникулы в Елисаветград, и я впервые тогда познакомился с ним. Это был юноша лет 18–19, до того симпатичный, как по наружному своему виду, так и по внутренним качествам, что невольно привязывал к себе каждого с ним соприкасающегося. Я полюбил его как брата, и это чувство сохранил к нему на всю жизнь.
В июне месяце день свадьбы нашей был приблизительно определен, и я должен был озаботиться приготовить помещение, т. е. квартиру для семейной жизни. Наконец был окончательно и назначен день нашей свадьбы, а именно на воскресенье 16 июля, и я благополучно дожил до этого дня. Несмотря на существующий обычай, чтобы жених в день свадьбы не виделся с невестой до церкви, то есть до венца, я не исполнил этого предрассудка, просидел у невесты целое утро и был прогнан только тогда, когда нужно было одевать невесту к венцу. Брак был назначен в шесть часов вечера. У меня шафером был Семен Михайлович Шмаков, а у Домники – брат Михаил Иванович. Огромный собор, вмещавший в себя более 6 тысяч человек, был почти полон. Праздно глазеющая публика стояла и впереди, и сзади, и возле нас, так что трудно было протискаться. И вся эта масса народа устремила свои глаза в одну точку, то есть на нас… Я был очень взволнован, а окружающая меня масса народа представлялась мне какими-то блуждающими призраками, как будто бы во сне. Но вот наконец таинство брака окончилось, и мы поехали уже вместе, как муж и жена, к батюшке на вечер. Помещение в квартире моего тестя было очень небольшое, а потому были приглашены только самые близкие знакомые. На вечере солидные люди играли в карты, а молодежь танцевала. Хотя как молодого, т. е. новобрачного, меня и приглашали танцевать, но я решительно отклонился от этого, потому что никогда не любил и никогда не умел хорошо танцевать, а на молодого смотрят вообще взыскательно. К полуночи был сервирован парадный ужин, во время которого я с Домникой сидели на парадном месте, и нам часто приходилось подслащивать горечь вина. Одним словом, все шло вслед старых дедовских обычаев. В 1 часу ночи ужин кончился, гости разъехались, а я с женою поехал в свою квартиру, где мой добрый Михайло встретил меня с хлебом и солью, что он сделал на свои деньги и сюрпризом мне. Итак, холостая и одинокая жизнь моя была закончена, и я начал новую семейную жизнь. Говорили в городе, что на нашем венчании оттого было много любопытных зрителей, что в г. Елисаветграде давно уже не бывало так называемых интеллигентных свадеб. Но с моей легкой руки, как говорится, вслед за нашею были еще две свадьбы в очень скором времени, а 25 июля состоялась свадьба Шмакова с Афанасией Ивановной, и молодые поселились во флигеле отчего дома.
Спустя несколько времени мы, две молодые пары, т. е. я с Домникой и Шмаковы, делали первые визиты всем бывшим на свадьбах и некоторым не бывшим, но с которыми мы думали быть знакомыми. Скоро мы перезнакомились со всем елисаветградским «обществом». Это были: Погорелко, содержательница пансиона; семейство Дербушевых, с которыми мы были дружественно знакомы во все пребывание наше в Елисаветграде; купцы братья Макеевы, торговавшие красным товаром, оба женатые; другой купец Турчанов Гаврила Константинович и его жена Любовь Егоровна; почтмейстер Федор Корнеевич Гордеев; инженер Александр Федорович Чумаков и его жена; священник, магистр богословия, Михаил Иванович Скворцов и его жена Марья Афанасьевна, оба образованные люди; другой священник, вдовец Федор Михайлов, еще очень молодой человек, весельчак, которого молодежь прозвала поп-казак, на что он, впрочем, не обижался; аптекарь Петр Петрович Паскалин, содержатель единственной в городе аптеки, очень уважаемый человек, делавший много добра; доктор Антон Антонович Гольштейн и жена его Елизавета Дмитриевна; как к лучшему доктору в городе мы всегда обращались за медицинскими советами к нему. Оба они, как муж, так и жена, были рождены евреями и крестились, по женитьбе их в г. Елисаветграде. Оба они Дмитриевичи потому, что у них был крестным отцом барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен. Сам Гольштейн, помимо искусства врача, был страстным любителем преферанса. Ни один его визит к пациенту не проходил без рассказов о какой-нибудь курьезной преферансовой игре. Одну из таковых он подшил на подкладку своей шинели и при встрече с знакомыми распахивал шинель и говорил: «Видите игру… играл семь и остался без двух». И с этими словами запахивал шинель и бежал дальше.
Как вспоминаю теперь, 1851 год не особенно был приятен для нас вследствие различных случившихся обстоятельств. Во-первых, в этом году батюшка по неприятностям по службе должен был оставить службу секретаря в Елисаветградской думе. Сильно не хотелось ему еще в таких сравнительно не старых годах оставлять службу, но обстоятельства сложились так, что он должен был это сделать. Эти невзгоды отражались, конечно, на Домнике, а следовательно, и на мне. Далее случилась и для меня лично одна крупная неприятность, которую я долго не мог переварить и затем позабыть. Из Кременчугского поселенного штаба был препровожден в елисаветградский строительный комитет безымянный скандальный донос на мою служебную деятельность. Донос настолько был грязен и неправдоподобен, что даже военное начальство не сочло возможным произвести по нему какое-либо дознание, а просто без всяких распоряжений препроводило этот донос в строительный комитет. Не далее как месяца через два я узнал сочинителя этого доноса, а именно это был аудитор Аникиев, неудачный жених Афанасии Ивановны. И от кого же я узнал об этом?.. Трудно догадаться. Да от самого же Аникиева! Он сам заговорил об этом со мною, и, когда я спросил его, что собственно побудило его это сделать, он, не смущаясь, ответил: «Шмакову я отмстить не мог, он служит по мин. нар. просв., самому Федорченко я тоже лишился способа отмстить, так как он оставил службу, а отмстить я хотел, и вот я избрал вас!.. И еще буду стараться пакостить вам, сколько достанет у меня сил!». Что мне было делать?.. Заявить кому-нибудь об этом? Но никто не поверит. Побить?.. Но он был солдафон ражий, и мне с ним было не справиться!.. Итак, я ограничился только тем, что плюнул ему в физиономию. Он, конечно, проглотил эту любезность…
Когда я сообщил об этом домашним, то батюшка и Шмаков сказали мне, что они были давно уверены, что сочинителем доноса был Аникиев и что они со стороны даже слышали об этом, только мне не говорили, чтобы не волновать меня.
Вести из Москвы тоже были не совсем благоприятны: из двух писем сестры Варвары Михайловны от 1 октября и 25 ноября я узнал, что дядя Александр Алексеевич был при смерти, но что ему хотя и лучше, но все-таки он лишился движения ног вследствие паралича, и у него замечается размягчение мозга. Писала также Варвара Михайловна и о том, что брат Михаил Михайлович два лета сряду (1850–1851 гг.) прожил в деревне, и что он предлагает имение отца оставить за собою, оплатив братьям и сестрам деньгами за причитающиеся им части, но не сразу, а в продолжение 10 лет, и что, по ее мнению, это не слишком выгодно для остальных наследников! Еще бы!
От зятя Александра Павловича Иванова (муж Верочки) я тоже получил письмо с теми же известиями. Он по моей просьбе прислал мне, как опекун над имением, в сентябре месяце с доходов имения сто рублей.
С нашей квартирой, так недавно мною отделанной, тоже было неблагополучно: хозяин наш, Корицкий, сам захотел переселиться в нее, да кроме того, мне перестали выдавать квартирные деньги на чертежную, – пришлось квартиру менять.
11 июня 1852 года я получил письмо от зятя Александра Павловича Иванова, письмо деловое, которое он писал как опекун. Оно так серьезно, что я выписываю из него здесь главную суть дела: он пишет:
а) что в июле 1852 года сестре Саше минет 17 лет и что вследствие этого опека над имением должна уничтожиться;
б) что вследствие этого имение (оставшееся после отца) должно будет остаться или в общем управлении, или должно быть разделено;
в) что как первое, так и второе немыслимо без продажи имения;
г) что отец заплатил за оба имения 12 тысяч рублей серебром, и что при жизни его оно было заложено в 5 ½ тысяч серебром в опекунском совете; но что, несмотря на это, имение приносило отличнейший доход;
д) что предполагаемый мною (в прежних моих письмах к Иванову) раздел есть самый справедливый, т. е. разделить все имение сообразно взятым нами частям из капитала;
е) что по квитанциям, хранящимся в опеке, явствует, что брат Мих. Мих. получил за все время со смерти отца 2745 руб. серебром; я получил 1475 руб. и брат Николай Мих. – 871 рубль, т. е. всего получено нами капиталу 5091 р. сер. или 17 818 руб. ассигнациями;
ж) что продать имение можно и теперь за 50 000 рублей ассигнациями, т. е. по 500 рублей за ревизскую душу, так как всех душ считалось 100;
з) что за вычетом долгов: 1) опекунскому совету 22 400 рублей ассигн., 2) долгу Варваре Михайловне 1800 руб. и 3) на межевые планы и расходы 350 руб. ассигн., всего же за вычетом 24 550 рублей останется чистого капитала 25 450 руб.;
и) что к этому капиталу должно присоединить капитал, взятый нами, братьями, а потому весь капитал, подлежащий разделу, выразится в 25 450 + 17 818 = 43 268 руб. ассигн.;
к) что из суммы этой следует вычесть 3/14 части сестрам, то есть 9270 рублей и затем для трех братьев останется к разделу 33 998 руб. ассигн., то есть каждому по 11 332 руб. ассигнациями;
л) что за вычетом нами взятых сумм надлежит получить: 1) брату Мих. Мих. 11 332 – 9507 = 1725 руб. ассигн.; 2) мне 11 332 – 5162 = 6170 руб. ассигн. и 3) брату Николе 11 332 – 3.048 = 8284 руб. ассигн.
Проект этого раздела составлен был Ивановым, согласно моей мысли, и я был совершенно с ним согласен.
Далее Иванов писал, что он сыскал покупщицу на имение, т. е. свою жену, а нашу сестру Верочку. Что они готовы дать за имение 50 000 руб. ассигнациями и что, ежели я на это согласен, то чтобы заявил об этом письменно, а также и прислал прошение на уничтожение опеки. И то и другое я исполнил и отписал Иванову 21 июня 1852 года.
В начале сентября месяца (10-го числа) я получил опять письмо от Александра Павловича Иванова в ответ на мое от 21 июня. В письме этом он извещал меня, что дело о покупке ими имения близится к концу, и что я скоро получу деньги за свою часть, и притом в несколько большем количестве, а именно 2000 рублей серебром.
25 октября я получил опять письмо от зятя Александра Павловича Иванова, и на этот раз с известием об окончательном решении дела по продаже моей части наследства, и с высылкою на мою долю двух тысяч рублей серебром. Мы были очень рады окончанию этого дела и не медля, по совету батюшки, пристроили эти деньги, т. е. отдали их из 10 годовых процентов старику Турчанову, у которого хранились, то есть были в обороте также и батюшкины сбережения. Из этого же письма Алекс. Павл. Иванова узнал я и о затее брата Михаила Михайловича открыть фабрику и торговлю папирос с сюрпризами. Эту затею он предпринял тоже сейчас по получении своей части денег, и я тогда, мысленно пожелав ему всевозможного успеха, никак не предполагал, что эта торговля его лет через 5–6 доставит ему уже солидный капитал! Из того же письма я узнал еще о московской новости, а именно, что Тимофей Иванович Неофитов недавно умер.
10 октября 1852 г. Бог дал нам первого ребенка – дочку Евгению. Тихо и мирно прошел конец 1852 г., затем весь 1853, а 1854 ознаменовался рождением 1 сентября второй дочки – Марии{90}.
Письма, полученные мною в 1854 году из Москвы и Петербурга, принесли мне много важных и большею частью хороших известий о случившемся с близкими моими родственниками. Главнейшее из этих известий было сообщение сестры Варвары Михайловны (весною 1854 г.), что сестра Саша вышла замуж за подполковника Николая Ивановича Голеновского.
Получив это письмо, я счел нужным написать дяде письмо, в котором и благодарил его за новый знак внимания и любви к нашему семейству, проявленный им в устройстве судьбы сестры Саши. В том же письме сестра Варвара Михайловна сообщила:
1) что брат Федор Михайлович окончил свой 4-летний срок каторги, поступил рядовым в 7-й батальон отдельного Сибирского корпуса и что с ним можно теперь вести переписку; 2) что брат Михаил Михайлович открыл папиросную фабрику и что дела его идут хорошо; 3) что брат Николя в этом году должен кончить курс в строительном училище; 4) что падчерица Юлия Петровна Карепина окончила курс в институте и также живет частью у нее, а частью у двоюродного брата своего Александра Митрофановича Карепина.
Из другого ее письма в августе месяце я, между прочим, узнал, что дядя Александр Алексеевич был очень доволен письмом моим по поводу устроения судьбы сестры Саши и что он, читая его, был растроган до слез.
В сентябре месяце, уже после рождения Машеньки, я был обрадован и получением письма от брата моего Михаила Михайловича. Письмо это я получил через своего знакомого Завадского[31]31
Завадский или Завацкий. Об этом знакомом я не упоминал выше, потому что знакомство это было случайное. Этот молодой человек был наставником детей и, кажется, впоследствии правою рукою одного богатого помещика, обитавшего близ г. Елисаветграда (фамилию помещика не помню). Этому помещику я делал проект на постройку в его усадьбе дома и тут познакомился с Завадским. Когда он по делам того же помещика ездил в августе месяце 1854 г. в Москву и Петербург, то я между прочими поручениями просил его побывать в Москве у сестры, а в Петербурге у брата. Этот же Завадский, кроме 2-х ящиков папирос с сюрпризами, привезенных от брата, привез мне по моему поручению купленные для меня книги: сочинения Гоголя, которые и до сих пор у меня имеются.
[Закрыть], который, ездя в Москву и Петербург, был и у Варвары Михайловны, и у брата Михаила Михайловича. В письме своем брат, сообщая о всех тех известиях, о коих я знал уже из писем сестры, сообщает, что дела его по торговле идут очень и очень хорошо и что он теперь живет не так, как прежде, нуждаясь в копейке, но даже помышляет в недалеком будущем составить себе состояние{91}. Он через Завадского прислал мне два ящика папирос с сюрпризами, а в письме сообщал также и точный адрес, по которому можно писать брату Федору Михайловичу.
Вслед за получением этого письма я, не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября. Тогда же написала ему и Домника. Чтобы письма эти вернее дошли, я послал их денежными, вложив десять рублей (10 р.), но ответ на эти письма мы получили уже в следующем 1855 году.
Осенью этого же 1854 года состоялся последний приезд в г. Елисаветград императора Николая I на кампамент. Государь пробыл несколько дней, сделал смотры и остался вообще очень довольным. По его отъезде случился со мною тот инцидент, о котором я рассказал при описании личности генерала фон-дер-Лауница.
В феврале же 1855 года в город пришло известие о кончине императора Николая I. Помню, что город был сильно взволнован этим печальным известием. Все думали и помышляли: «Что будет? Как кончится война?» Вообще состояние общества было весьма тревожное.
Как-то в начале марта 1855 года, помню, что это было Великим постом, сидим мы втроем за обедом, – я, как теперь, помню, было подано блюдо раков – и вслед за ним является почтальон и говорит: «К вам казенный пакет» – и предлагает расписаться в получении его в книге. Я посмотрел на огромную сургучную печать и сейчас же прочел на ней: «III Отделение собственной его императорского величества канцелярии». У меня так и екнуло сердце… Я знаком был уже с III Отделением!! Пока я расписывался в получении пакета, пока выпроводил почтальона, Домника и батюшка не отрывали от меня глаз, потому что, как говорили они, я был бледен, как полотно… «Что с тобой?.. Что с вами?.. Откуда пакет?..» – был поспешный с двух сторон вопрос. Я, не отвечая им, поспешил вскрыть большой пакет, и из него выпали два маленьких почтовых листочка. Это оказались письма брата Федора Михайловича из Семипалатинска – одно ко мне, а другое к Домнике. Я успокоился и, не читая еще писем, показал батюшке и Домнике пакетную печать. Все мы поняли тогда, что хотя переписка с ним и дозволена, но что его письма в Россию, а может быть, и наши письма к нему, идут через III Отделение, где вскрывают и прочитывают их. Письма брата были без его конверта, а прямо в конверте III Отделения. Успокоившись немного, я начал читать письма, писанные братом 6 ноября 1854 года и дошедшие до меня только в начале марта! Эти великолепные письма растрогали меня тогда до слез; они и теперь хранятся у меня, на пожелтевшей бумаге! Но, впрочем, они целиком напечатаны в первом томе I издания полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в отделе «Переписка», на страницах 75, 76 и 77. – Слух, что я получил пакет из III Отделения, скоро разнесся по всему городу, и я, чтобы уничтожить различные сплетни, рассказал двум-трем моим знакомым, что заключалось в пакете; и так как я рассказывал это по секрету, то через несколько дней все в городе знали, какого рода пакет получил я!
За этот 1855 год вообще по причине военных действий жизнь в Елисаветграде в это время очень оживилась. Все с напряженным вниманием читали газеты, а подвиги таких героев, как матрос Кошка, распространялись со скоростью электричества. Вообще общество было наэлектризовано патриотизмом. Стихотворения, патриотические вирши вроде
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом!{92}
полагались на музыку и даже целиком были пропеты девочками на торжественном публичном акте в пансионе г-жи Погорелко, причем вызвали гром рукоплесканий и требование неоднократного повторения!
Осенью же этого года, кажется, в сентябре месяце, состоялся проезд через г. Елисаветград государя императора Александра II в Крым. День проезда, конечно, был известен заранее, и в этот день так называемая Большая улица была запружена народом, вышедшим встречать государя. Проезд был назначен около 2-х часов дня, но публика, конечно, собралась гораздо ранее. Вышли на это громадное гулянье и мы с Домникой. День был ясный и теплый, и мы даже позволили няне вынести и старшую дочурку Женечку, но неистовый крик последней производил такой скандал, что ее немедленно пришлось унести обратно. Вскоре проехал и царь, а потому Домника сейчас же пошла домой к своей обиженной дочке. Государь ехал в открытой коляске, он показался с лица очень похудевшим и вообще был очень серьезен, даже пасмурен. Через Елисаветград он проехал, не останавливаясь, прямо на почтовую станцию (почти за городом), где в прибранных кое-как еврейских помещениях (содержатель почтовой станции был еврей) сервирован был для государя и свиты его дорожный обед. Я с батюшкой на извозчике тоже поехали на почтовую станцию, чтобы еще раз видеть государя. Обед продолжался не долее одного часа, а по окончании обеда государь вышел в шинели и фуражке и с папиросою в зубах, медленно сел в коляску, милостиво раскланялся с публикою, и коляска понеслась вскачь… Помню одно из впечатлений публики: большинство публики, присутствовавшей при выходе государя из почтовой станции после обеда, состояло преимущественно из пожилых людей, и… она осталась недовольною тем, что государь вышел с закуренною папироскою. Они считали это неприличным для царского сана!.. Эту же мысль разделял и мой тесть. А я долгое время и при всяком подходящем случае горячо протестовал против такого странного мнения, доказывая, что государь тот же человек и что он, измученный почти 2000 верст путешествия, может доставить себе право держать себя не на вытяжке, для показу, а так, как ему удобно, и не отказывать себе в тех привычках, в которых не отказывает себе всякий из нас смертных!.. Обратно из Крыма государь проехал уже другим путем и в Елисаветград не заезжал.
Из письма сестры Варвары Михайловны я познакомился и с происшествиями, случившимися с моими родными в Москве и Петербурге в течение 1855 года. Во-первых, из письма я узнал, что в феврале месяце была обручена, а после Пасхи вышла замуж Юлия Петровна Карепина (падчерица сестры Варвары Михайловны) за некоего Никандра Петровича Померанцева, который и увез свою молодую жену в Петербург. Эту свадьбу устроил Голеновский, с которым жених служил вместе в Павловском кадетском корпусе. Во-вторых, что Голеновские оба, и муж и жена, были в феврале месяце в Москве и тогда-то и устроили эту свадьбу. В-третьих, что в июле этого года Варвара Михайловна с детьми была в Петербурге и гостила у сестры Саши на даче в Царском Селе. В-четвертых, что зять Александр Павлович Иванов живет летом с Верочкой в деревне и, как-то подстораживая ястреба, истребляющего у них цыплят, прострелил из ружья себе ногу и месяца два не мог совершенно от этого излечиться. В-пятых, что Голеновским 1-го октября Бог дал дочку (первую) Марию. Это Марья Николаевна Голеновская, ныне Ставровская. В-шестых, что брат Николай, по окончании курса в строительном училище, назначен архитекторским помощником в эстляндскую строит. и дорожную комиссию и едет в г. Ревель. И, наконец, в-седьмых, я узнал из письма этого об ужаснейшей катастрофе, случившейся с моей теткой Катериной Федоровной Ставровской. Она заживо сгорела в церкви! Случилось это так: 9 мая 1855 года, в день св. Николая Чудотворца, Катерина Федоровна пошла с детьми в приходскую церковь и стала под паникадилом; на ней сверх легкого летнего платья был бурнус. Она была на девятом месяце беременности. Вдруг она говорит своей старшей дочке: «Что это как будто гарью пахнет»; та отвечает, что и она это слышит. В эту минуту Катерина Федоровна почувствовала ожог и, мгновенно сбросив бурнус, начала махать своим легким платьем и вслед за этим в одно мгновение обратилась в огненный столб! Все окружающие сторонились от нее, чтобы самим не загореться, а дети подняли крик и вопли! Наконец несчастная бросилась в толпу, и какой-то догадливый человек накинул на нее свой тулуп и тем загасил пламя, но последствия были ужасны! У страдалицы обгорели все волосы, голова и тело были все в страшных язвах от ожога! Кое-как довезли ее до дому. Через несколько дней она разрешилась (преждевременно) от бремени, но ребенок сейчас же умер. Сама же страдалица промучалась еще две недели и скончалась, оставив пять человек детей, из которых старшей дочери было уже 14 лет!..
Сорок лет прошло с этого ужасного факта. Может быть, таковых же катастроф произошло и еще несколько по церквам… а до сих пор не сделано никаких улучшений по этой части! И до сих пор в церквах по большим праздникам, именно тогда, когда собирается в церковь масса народу и когда неминуемо и под паникадилами толпятся богомольцы, – в паникадилах этих зажигают по-прежнему восковые толстые свечи, дающие огромный нагар, часто падающий вниз. Стеариновые свечи, дающие меньший нагар или вовсе не дающие его, – жечь в церкви считается за грех, а другого способа освещения паникадил не придумают!
К концу года настроение жителей г. Елисаветграда делалось более и более тревожным. Из Крыма получались все более и более неутешительные известия. Про битву при Черной реке поговаривали с покачиванием головой, а про оставление Севастополя говорили даже шепотом, мало веря этому известию{93}.Проезд государя в Крым как будто бы ободрил народ… Многие думали, что военные действия еще не кончены, а возобновятся с новыми силами и энергиею. Как-то не хотелось верить про мир не вполне достойный величия России!
Январь 1856 г. принес нам несчастие: у нас скончалась вторая наша дочурка Маша, заболев крупом.
С самого начала 1856 г. начали появляться слухи о мире, при ожидании которого все как будто бы встрепенулось, все как будто бы ожило. Наконец, в конце марта и до нас дошло известие, что 18 марта по парижскому трактату мир состоялся. Конечно, условий мира никто тогда не знал, но все были рады ему, ожидая какого-то возрождения к чему-то лучшему.
С начала лета 1856 г. в Елисаветграде начали ходить упорные слухи о скором уничтожении военных поселений. Граф Никитин был отозван уже в Петербург. Да и вообще поговаривали о громадных предстоящих преобразованиях. Все эти слухи невольно заставляли меня подумывать о своей службе. Ясно, что с уничтожением военных поселений должность городового архитектора в Елисаветграде, то есть должность официальная, по военному министерству, должна была уничтожиться, и я, по всем вероятиям, должен бы был остаться за штатом. Перспектива незавидная, при неимении ничего в виду. Из газет я узнал, что бывшего главноуправляющего путями сообщения графа Клейнмихеля дернули, как говорится, по шапке и вместо него назначили главноуправляющим генерала Конст. Влад. Чевкина. Кстати, о Клейнмихеле. Помня его мне напутствия, я, убедившись в полной неприглядности своей службы, писал Клейнмихелю письма в 1853,1854 и 1855 годах. Во всех трех письмах я напоминал ему о его обещаниях и просил его дать мне какое-нибудь место по ведомству путей сообщения, по тому ведомству, где получил я свое специальное образование и где служат все мои товарищи по училищу… Все три письма были посланы мною, как тогда называлось, страховыми, но ни на одно я не получил хоть какого-либо ответа… Ясно было, что Клейнмихель не хотел иметь в своем ведомстве фамилию, которая все еще считалась опальною!








