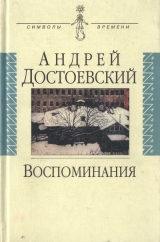
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Вторая соседка была старушка Небольсина; ее деревенька тоже принадлежала когда-то отцу Хотяинцева и находилась по пути от нас к церкви. Старушка часто зазывала нас с маменькой к себе отдохнуть, но у нас она никогда не бывала, – по крайней мере, я не припомню, – вероятно, по своей старости.
Третьи соседи были помещики Еропкины. Эта семья представителей древнего дворянского рода состояла из мужа и жены, уже пожилых, двух дочерей, уже невест, и одного сына. Сами родители были едва-едва грамотны, дочери грамоте не обучались; сынок же, уже лет 17–18, ограничился обучением у дьячка. Это семейство раза три в лето бывало у нас, и столько же раз и мы у них. У них были хорошие оранжереи и парники, и они, приезжая, всегда привозили нам то дыню, то арбуз.
Вот и все соседи… И вообще говоря, мы в деревне коротких знакомств не заводили, а ограничивались только визитами.
Кроме этих соседей к нам иногда являлось приходское священство, состоявшее из священника, дьякона, у которого было 12 взрослых дочерей и ни одного сына, и дьячка. Все эти лица немного отличались от простых крестьян, и то только своим полуобразованием, в отношении же жизни они были те же крестьяне и столь же много работали своеручно, не имея у себя ни одного наемного рабочего. С дьячком Иваном Федоровичем я даже покумился, потому что, бывши ребенком, крестил у него новорожденного. Лет 8 тому назад, т. е. летом 1887 года, я был в Даровой у сестры Веры Михайловны, о чем сообщу подробнее в своем месте, и, конечно, был в Моногарове, чтобы отслужить панихиду по папеньке. Служащий нынче настоятелем Моногаровского прихода отец Преферансов (породнившийся с сестрою Верочкою) показался мне совершенным джентльменом в сравнении с прежним священником. Ну, да это и хорошо{29}.
В заключение кратких своих воспоминаний о деревне я не могу не упомянуть о дурочке Аграфене. В деревне у нас была дурочка, не принадлежавшая ни к какой семье; она все время проводила шляясь по полям, и только в сильные морозы зимой ее насильно приючивали к какой-либо избе. Ей уже было тогда лет 20–25; говорила она очень мало, неохотно, непонятно и несвязно; можно было только понять, что она вспоминает постоянно о ребенке, похороненном на кладбище. Она, кажется, была дурочкой от рождения и, несмотря на свое таковое состояние, претерпела над собою насилие и сделалась матерью ребенка, который вскоре и умер. Читая впоследствии в романе брата, Федора Михайловича, «Братья Карамазовы» историю Лизаветы Смердящей, я невольно вспоминал нашу дурочку Аграфену.
* * *
Приступлю теперь к воспоминаниям о нашем первоначальном домашнем обучении. Первоначальным обучением всех нас грамоте, то есть азбуке, занималась наша маменька. Азбуку учили не по-нынешнему, выговаривая буквы а, б, в, г и т. д., а выговаривали по-старинному, то есть: аз, буки, веди, глаголь и т. д. и, дойдя до ижицы, всегда приговаривали известную присказку. После букв следовали склады двойные, тройные, четверные и чуть ли не пятерные, вроде: багра, вздра и т. п., которые часто и выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали к постепенному чтению. Конечно, я не помню, как учились азбуке старшие братья, и эти воспоминания относятся ко мне лично. Но так как наша учительница была одна (наша маменька) и даже руководство, или азбука, преемственно перешла от старших братьев ко мне, то я имею основание предполагать, что и братья начинали учение тем же способом. Первая книга для чтения была у всех нас одна. Это Священная история Ветхого и Нового завета на русском языке (кажется, переведенная с немецкого сочинения Гибнера). Она называлась, собственно, «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового завета»{30}. При ней было несколько довольно плохих литографий: Сотворения мира, Пребывания Адама и Евы в раю, Потопа и прочих главных священных фактов. Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он восторгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережет его как святыню.
Я уже упомянул выше, что не мог быть свидетелем первоначального обучения старших братьев азбуке. Как я начинаю себя помнить, я застал уже братьев умевшими читать и писать и приготовляющимися к поступлению в пансион. Домашнее их пребывание без выездов в пансион я помню непродолжительное время – год, много полтора. В это время к нам ходили на дом два учителя. Первый – это дьякон, преподававший закон божий. Дьякон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте; по крайней мере, наверное, знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале всегда раскладывали ломберный стол, и мы четверо детей помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа 1 ½ – 2, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Св. писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам – о потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что бывало и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда 6-летний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, нисколько не утомляясь их продолжительностью. Очень жалею я, что не помню ни имени, ни фамилии этого почтенного преподавателя, мы просто звали его отцом дьяконом. Несмотря на все это, уроки он требовал учить буквально по руководству, не выпуская ни одного слова, то есть, как говорится, «вдолбежку», потому что тогда при приемных экзаменах всюду это требовалось. Руководством же служили известные «Начатки» митрополита Филарета, начинавшиеся так «Един Бог, во святой Троице поклоняемый есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет…» и т. д. Это скорее философское сочинение, нежели руководство для детей. Но так как руководство это обязательно было принято во всех учебных заведениях, то понятно, что и сам отец дьякон придерживался ему.
Другой учитель, ходивший к нам в это время, был Николай Иванович Сушард; он был преподавателем французского языка в Екатерининском институте и ходил к нам давать уроки также французского языка. Он был француз, но горячо желал сделаться чисто русским. Я помню рассказ папеньки, что, в одно из посещений Екатерининского института императором Николаем, Николай Иванович Сушард просил у государя, как милости, позволения, вывернув свою фамилию, прибавить к ней окончание «ов», что ему и было дозволено, вследствие чего он впоследствии и назывался Драшусов (Сушард – Драшус – Драшусов). Так как я был в это время еще слишком мал для французского языка, то я ничего и не могу сказать про его преподавание, хотя я обязательно и должен был садиться за тот же ломберный стол и сидеть смирно в продолжение всего урока. Помню только, что приветствия отцу ко дню его именин всегда составлялись Николаем Ивановичем и выучивались под его руководством.
Время для старших братьев начало уже подходить такое, что по возрасту их пора уже было отдавать куда-либо в пансион с гимназическим курсом и одного чтения и письма, а равно закона Божия и французского языка было далеко недостаточно. Для подготовления к такому пансиону двух старших братьев отдали на полупансион к тому же Николаю Ивановичу Драшусову, куда они и ездили, кажется, в продолжение целого года или даже более ежедневно по утрам и возвращались к обеду. У Драшусова был маленький пансион для приходящих, он сам занимался французским языком, два взрослых сына его занимались преподаванием математики и словесных предметов, и даже жена его, Евгения Петровна, кажется, что-то преподавала. Но в этом скромном пансионе некому было заниматься латинским языком, а потому подготовление старших братьев по этому предмету принял на себя сам папенька. Помню даже утро, в которое он, ездивши на практику, купил латинскую грамматику Бантышева и отдал ее братьям (книга эта преемственно досталась впоследствии и мне). И вот с этого времени каждый вечер папенька начал заниматься с братьями латынью. Разница между отцом-учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, была та, что у последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди: mensa, mensae, mensae и т. д. или спрягая: amo, amas, amat. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас разразится крик. Замечу тут, кстати, что, несмотря на вспыльчивость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не наказывали телесно – никогда и никого, – но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами: в крайних же, более редких случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. Бывало, при этих случаях помню, что маменька только посматривает на меня и дает мне знаками намеки, что вот, мол, и тебе то же будет!.. Но увы, хотя грамматика Бантышева преемственно и перешла ко мне, но начало латинской премудрости мне суждено было узнать не из уроков папеньки, а в пансионе Чермака.
Вероятно, это гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные пансионы. Наконец, подготовление братьев было окончено, и они поступили в пансион Леонтия Ивановича Чермака, с начала учебного курса в 1834 году.
В это же время и сестра Варенька была отдана родителями в пансион или школу при лютеранской церкви Петра и Павла. Школа эта, с давних времен существовавшая, пользовалась в Москве заслуженною славою. Она находилась возле самого дома дяди Александра Алексеевича Куманина, в Козьма-Демьяновском переулке, – это было причиною тому, что часто сестра не приезжала по субботам в родительский дом, в особенности в зимние трескучие морозы, а была брата тетушкою Александрою Федоровною к себе на дом. Братья тоже были отданы к Чермаку на полный пансион и приезжали домой только по субботам к обеду, а в понедельник утром уезжали опять на целую неделю. Следовательно, дома из старших подростков оставался только я.
Относительно меня папенька сделал следующее распоряжение. Он поручил старшим братьям и сестре заведывать моим обучением и задавать на целую неделю уроки, которые я и должен был сдавать в субботу. А в воскресенье обязан был вновь выслушивать объяснения братьев и сестры на счет заданий на следующую неделю. Предметы были распределены следующим образом: брат Миша взял на себя арифметику и географию; брат Федя – историю и русскую грамматику, а сестра Варя – закон Божий и языки французский и немецкий.
С этих пор моя жизнь в родительском доме пошла гораздо скучнее. В доме сделалось гораздо тише, и я, понукаемый родителями, должен был по целым дням сидеть в зале за книгою, хотя мысли иногда порхали далеко от книги. Мне был уже десятый год, а сестре Верочке едва-едва шесть; следовательно, она не могла сделаться моею товаркою, тем более что я привык иметь товарищами старших себя. Зато весело было дожидаться субботы, и хотя день этот и был для меня днем расплаты, днем экзаменов, но я мало страшился их, а помышлял только о том, что целых 1 ½ дня пробуду с братьями и сестрою. Учительские отношения ко мне братьев и сестры нисколько не изменили наших братских доселе существовавших отношений. В субботу с утра чувствовалось уже прибытие всей семьи в родной кров. И родители делались несколько веселее, и к столу прибавлялось кое-что лишнее, – одним словом, пахло чем-то праздничным. В этот день и неизменяемый час обеда (т. е. 12 час.) поневоле изменялся. Покуда лошади поедут с Божедомки в Новую Басманную, покуда соберутся братья, покуда приедут, проходило добрых 1 ½ – 2 часа, так что обед подавался в этот день к двум часам. За сестрой ездили большей частью по вечерам, уже в сумерки. Но вот приехали братья, не успели поздороваться, как и горячее уже на столе. Садились обедать, и тут же, не удовлетворивши первому аппетиту, братья начинают рассказывать о всем случившемся в продолжение недели. Во-первых, отрапортуют правдиво о всех полученных в продолжение недели по различным предметам баллах, а потом и начнутся рассказы про учителей, про различные детские, а иногда и не совсем приличные шалости товарищей. За рассказами и разговорами и обед в этот день продолжается гораздо долее. Родители самодовольно слушали и молчали, давая высказаться приезжим. Можно сказать, что откровенность в рассказах была полная. Вспоминаю, что отец ни разу не давал наставлений сыновьям при повествованиях о различных шалостях, случившихся в классе; отец только приговаривал: «Ишь ты, шалун, ишь разбойник, ишь негодяй!» и т. п., смотря по степени шалости, но ни разу не говорил: «Смотрите, не поступайте-де и вы так!» Этим давалось, кажется, знать, что отец и ожидать не может от них подобных шалостей.
Пообедав и поговорив еще несколько, братья отбирали от меня с грехом пополам недельный отчет; затем они садились за свои ломберные столы и предавались чтению; так же проводилось и воскресенье. Помню только то, что я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались приготовлением уроков и привозили с собою учебники. Зато книг для чтения привозилось достаточно, так что братья постоянно проводили домашнее время за чтением. – Такие субботы повторялись еженедельно, а потому я не буду на них долго останавливаться, тем более что за давностью лет и не могу припомнить особо выдающихся суббот. Замечу лишь то, что в последние годы, т. е. около 36-го года, братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем. Вероятно, это был учитель незаурядный, а вроде нашего почтенного отца дьякона. Братья отзывались о нем не только как о хорошем учителе, но в некотором отношении как о джентльмене. Очень жаль, что я не помню теперь его фамилии, но в мое пребывание у Чермака учителя этого, кажется, уже не было и в высших классах.
Выше я упомянул о семейных чтениях, происходивших в гостиной. Чтения эти существовали, кажется, постоянно в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители{31}. Читались по преимуществу произведения исторические: «История Государства Российского» Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние темы – IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; биография Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду «Бог»), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина – «Письма русского путешественника» и повести: «Бедную Лизу», «Марфу Посадницу», и проч., Пушкина – преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы «Юрий Милославский», «Ледяной дом», «Стрельцы» и сентиментальный роман «Семейство Холмских». Читались также сказки и казака Луганского. Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятны. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского. Выше я говорил уже, что старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта{32}: «Квентина Дорварда» и «Ваверлея»; у них были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и перечитыванию подвергались и все произведения Пушкина. Любил также брат Федор и повести Нарежного{33}, из которых «Бурсака» перечитывал неоднократно. Не помню наверное, читал ли он тогда что-нибудь из Гоголя, а потому не могу об этом говорить. Помню только, что он тогда восхищался романом Вельтмана{34} «Сердце и Думка», «История» же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького. Я потому перечисляю названия некоторых литературных произведений, читавшихся тогда братьями (хотя далеко и не все), что с этими названиями и именами их авторов мне пришлось еще ребенком познакомиться со слов братьев. Появлялись в нашем доме и книжки издававшейся в то время «Библиотеки для Чтения»{35}. Как теперь помню эти книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали.
Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что Пушкин тогда был еще современник. Об нем, как о современном поэте, мало говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского даже между преподавателями словесности; она была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократные горячие протесты со стороны обоих братьев. Помню, что братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший брат «Графа Габсбургского», а брат Федор, как бы в параллель тому, – «Смерть Олега». Когда эти стихотворения были произнесены ими в присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, вероятно, вследствие большей авторитетности сочинителя. Маменька наша очень полюбила два эти произведения и часто просила братьев произносить их; помню, что даже во время своей болезни, уже лежа в постели, она с удовольствием прислушивалась к ним.
Не могу не припомнить здесь одного случившегося у нас эпизода. Из товарищей к братьям не ходил никто. Раз только к старшему брату приезжал из пансионских товарищей некто Кудрявцев. Брату позволено было отдать ему визит, но тем знакомство и кончилось. Зато в дом наш был вхож один мальчик, Ванечка Умнов (сын О. Д. Умновой, о которой я упоминал выше как о нашей знакомой). Этот юноша учился в гимназии и был несколько старше моих братьев. Этому-то гимназисту удалось где-то достать ходившую тогда в рукописи сатиру Воейкова «Дом сумасшедших»{36} и заучить на память. Со слов его, братья тоже выучили несколько строф этой сатиры и сказали их в присутствии отца. Выслушав их, отец остался очень недоволен и высказал предположение, что это, вероятно, произведение и проделки гимназистов; но когда его уверили, что это сочинение Воейкова, то он все-таки высказал, что оно неприлично, потому что в нем помещены дерзкие выражения против высокопоставленных лиц и известных литераторов, а в особенности против Жуковского. Несколько строф этой сатиры были так часто повторяемы братьями, что они сильно врезались и мне в память и сделались для меня как бы чем-то родственно-приятным.
По рассказам того же Ванечки Умнова, мы познакомились со сказкою Ершова «Конек-Горбунок» и выучили ее всю наизусть{37}.
Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Федору – почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее, даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню такого случая, и, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге.
Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений; но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину. Я припоминаю еще и другие слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением. Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: «Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе… быть тебе под красной шапкой!». Я привожу слова эти, вовсе не ставя их за пророческие, – пророчество есть следствие предвидения; отец же никогда предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же я слова эти в удостоверение пылкости братнина характера во время его юности.
Зима 1834–1835 годов прошла для меня в тех же раз установленных занятиях, о которых говорилось выше, т. е. братья и сестра задавали мне уроки на целую неделю, а в субботу делали экзамен. Один выдающийся случай, которому я был свидетелем, сделал на меня сильное впечатление, и я никогда не забывал его и теперь помню очень хорошо, с лишком через 60 лет! Дело было так.
Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали. Маменька что-то сообщила отцу, и он сделался, видимо, очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем, и папеньке едва-едва удалось ее успокоить. Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила сильное во мне впечатление. И я недоумевал, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена.
Потом, со временем, когда я сделался взрослым и вспоминал эту сцену, то, сопоставив последующие обстоятельства, разгадал причину этой сцены. Дело, вероятно, было так: родители разговаривали и делали предположения на будущее лето о поездке в деревню, причем, вероятно, маменька заметила, что нельзя наверно рассчитывать, а сообщила папеньке, что она подозревает, что ее постигла вновь беременность. Услышав это, папенька, вероятно, неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач. Эта моя разгадка подтверждается тем фактом, что, действительно, в лето 1835 года родилась моя сестра Саша.
Весною, после Пасхи, поездка маменьки в деревню состоялась, как и в прежние годы, но только при другой уже обстановке. Папенька не решился отпустить ее одну и притом в бричке. Поездка состоялась в двух экипажах, то есть в рессорной городской двуместной коляске, запряженной парою городских наших лошадей, управляемой кучером Давидом; ехали родители без всякой клади. Второй экипаж наш – троечная бричка, запряженная тройкой наших пегих даровских лошадей и управляемая Семеном Широким, везла меня с нашею прислугою и всею кладью и чемоданами. Старшие братья и сестра оставались в пансионе, а сестра Верочка и брат Николя на попечении няни Алены Фроловны оставались в Москве. Поездка совершилась благополучно, и папенька, пожив в деревне дня два-три, уехал обратно в Москву, а мы остались в деревне, то есть маменька и я. Младших сестру и брата, как видно, не брали в деревню потому, что помещение в деревне было очень маленькое, а ввиду ожидаемого прибавления семейства всякое свободное помещение делалось еще более необходимо.
Лето проведено благополучно. В начале июля папенька опять приехал в деревню вместе со старшими братьями, которые освободились из пансиона Чермака на начавшиеся каникулы. Сестра Варенька на каникулы осталась у тетеньки Александры Федоровны Куманиной. А вслед за папенькою приехала и новая гостья в деревню, а именно акушерка. На этот раз была не старая, бывавшая всегда у маменьки акушерка, но молоденькая девушка, только что вышедшая из повивального института и рекомендованная отцу как настоящая ученая акушерка. Помню, что прогулки маменьки в последние дни были затруднительны, и ее постоянно водили под руки папенька с одним из старших братьев. Помню, как в конце июля (25-го) всех нас не допускали целый день во вновь отстроенный флигелек, и мы все находились в мазанковом домике. Наконец явился туда же папенька и сообщил нам, что Бог послал нам маленькую сестричку. В тот же день приказчик Григорий Васильев отправлен был в Москву с известием об этом радостном событии к тетушке Александре Федоровне, которая обещалась, по благоприятном исходе, сама приехать к нам в деревню навестить маменьку и вместе с тем и окрестить новорожденную.
И, действительно, не больше как через неделю ожидание наше исполнилось, и мы издали увидели, как спускался с пригорка в нашу деревню грузный экипаж с двумя дамами. Это были тетенька Александра Федоровна, с неизменной спутницей своей бабушкой Ольгой Яковлевной. Как случается часто, что иные детские воспоминания сохраняются долго и явственно, а другие вовсе исчезают бесследно из памяти, так случилось и с моими воспоминаниями по этому предмету. Приезд тетеньки и бабушки я очень хорошо и явственно помню, но время пребывания их в продолжение дней до пяти совершенно не оставило в моей памяти никаких воспоминаний. Помню только, что высокая дорожная коляска их стояла все время в липовой роще, так как в усадьбе нашей, после пожара, экипажных сараев устроено не было. И помню также, что я с большим удовольствием откидывал ступеньки высокой коляски, по нескольку раз в день влезал в нее и опять вылезал. Наконец, после крестин, тетенька с бабушкой уехали от нас, а вслед за ними уехала и акушерка. В начале августа уехали из деревни и папенька со старшими братьями, а вероятно, в половине сентября и маменька со мной и новорожденной сестрой переехала в Москву. Только обстоятельства этого переезда я теперь совершенно не помню.
С осени 1835 года со мной случилась важная перемена. Меня отдали в пансион, и притом не на полупансион, как сперва отдавали братьев, а прямо, оторвав от всего родного, поместили на полный пансион к Кистеру{38}. Это случилось внезапно. Вероятно, папенька был приглашен в пансион Кистера годовым врачом, и, не желая получать гонорара, он предложил свои услуги взамен того, чтобы я был принят в пансион полным пансионером, без всякого подготовления в научном отношении к приемному экзамену (которого, впрочем, и не было). Мне сшили два костюмчика, и в один из вторников маменька сама отвезла меня в пансион и, посидевши несколько у m-me Кистер, оставила меня там до субботы; впрочем, папенька почти ежедневно бывал (как врач) в пансионе, но вызывал меня для свидания редко, вероятно, не желая нарушать моих серьезных научных занятий…
Федор Иванович Кистер имел ученую степень доктора и был лектором немецкого и, кажется, даже и французского языка при московском университете. Он содержал пансион для мальчиков в Москве, и слава, или известность, его пансиона чуть ли не превосходила известности пансиона Чермака. И в самом деле, наружная его обстановка была виднее, показистее обстановки чермаковской. Пансион Кистера помещался в центре города, на Большой Дмитровке, в доме, который, кажется, принадлежит благородному собранию. Но главная суть состояла в том, что д-р Федор Иванович Кистер смотрел на свой пансион как на что-то придаточное, а не главное. Еще старшие классы, из которых поступали в университет, обращали на себя его внимание. Что же касается до младших и низших классов, то те были решительно предоставлены на произвол судьбы без всякого надзора. Отсутствие всякой заботы об низших классах, с одной стороны, а с другой стороны, страшная скупость и расчетливость – были причиною тому что в младших классах никогда не было своих гувернеров или надзирателей. Двадцать пять или тридцать мальчиков загонялись в класс и там оставались без присмотра, гувернеры же уходили для показа в старшие классы. В младший (мой) класс редко ходили и учителя, только посещал священник для преподавания закона Божия и сам Ф. Ив. Кистер для преподавания французского и немецкого языков. Других же учителей, по другим предметам, я что-то не припоминаю. И вот, значит, 9–10-летние мальчики, собранные из различных семейств и из различных слоев общества, соединялись вместе и оставлялись на большую часть дня без всякого присмотра. Понятно, что из этого могло произойти. Нет тех гадостей, нет того гнусного порока, которому бы не были научены вновь поступившие из отчего дома невинные мальчики.
Еженедельно по субботам я являлся в родительский дом и имел истинное удовольствие, после недельного заточения во враждебном для меня пансионе, провести полтора дня в нашем святом семейном кругу…
Явится вопрос, почему же я не был так откровенен, как братья, и не поведал родителям про порядки, существовавшие в моем пансионе, имея пример в братьях, которые ничего не скрывали от родителей?.. На это отвечу: что, во-первых, как я ни был мал и неразумен, но все-таки я соображал, что порядки, практикуемые в низшем классе пансиона Кистера, суть нехорошие порядки. А мне так хотелось подражать братьям и, в свою очередь, выставлять свой пансион в отличном виде, – ведь хвастовство присуще детям и не может быть поставлено на ряду с пороком обмана. А, во-вторых, про те дебоши, которые совершались между запертыми без всякого присмотра мальчишками, мне даже стыдно и совестно было рассказывать не только родителям, но даже и старшим братьям.








