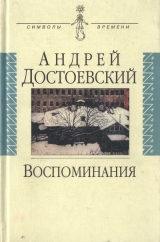
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Мне только остается Вам объявить мою благодарность за Ваше снисхождение. – Позвольте уверить Вас в истинном почтении, с которым
Честь имею пребыть Вашим покорнейшим слугою
Федор Достоевский.
* * *
1839 года Мая 5-го дня {136}
Любезнейший папинька!
Угадываю, что Вы и теперь беспокоитесь обо мне, не получив от меня тотчас ответа. Любезнейший папинька! Спешу успокоить Вас и постараюсь оправдаться в теперешнем моем молчании, сколько можно. – Теперь у нас настали экзамены. – Нужно заниматься, а между тем все свободное время мы употребляем на фрунтовое ученье; ибо скоро будет Майский парад. Оставалось сыскать свободного времени ночью. – Очень рад, что я нашел наконец свободный часок поговорить с Вами. – Ах! Как я упрекаю себя, что был причиною Вашего горя! – Теперь как можно буду стараться загладить это. – Письмо Ваше я получил и за посылку Вашу благодарю от всего сердца. – Пишете, любезнейший папинька, что сами не при деньгах и что уже не будете в состоянии прислать мне хоть что-нибудь к лагерям. – Дети, понимающие отношения своих родителей, должны сами разделять с ними все: радость и горе; нужду родителей должны вполне нести дети. Я не будут требовать от Вас многого. – Что же, не пив чаю, не умрешь с голода. – Проживу как-нибудь! Но я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери; потому что туда надо запасаться этим. – Но кончим это; – экзамены мои я уже начал и очень хорошо. Кончу так же. В этом я уверен.
Теперь многие из тех преподающих, которые не благоволили ко мне прошлого года, расположены ко мне как не надо лучше. – Да и вообще я не могу жаловаться на начальство. Я помню свои обязанности, а оно ко мне довольно справедливо. – Но когда-то я развяжусь со всем этим. Пишете, любезнейший папинька, чтобы я не забывал своих обязанностей. Повторяю: я их помню очень хорошо, и со службою я уже связан присягою при самом поступлении моем в училище. От брата я долго не получал писем. Он как будто забыл меня. Но недавно получил от него клочок исписанной бумаги, где он на меня нападает донельзя за мое мнимое к Вам молчание, и, признаюсь, этим письмом оскорбил меня до глубины души, выставив меня перед самим собою пренизким созданьем. Я пропустил это мимо, потому что его посланье не ко мне писано. – Я считаю себя гораздо лучшим, нежели с кем он ведет подобную переписку. Впрочем, я забываю это и готовлюсь ему на этой неделе отвечать. Его положенье теперь совсем нехудое. Ему бы можно было экзаменоваться к нам в училище в нижний офицер, класс. Посоветуйте ему это. – Из крепости, кондукторов очень много это делают. Примеры тому каждогодные. Через год он может быть готовым. Я берусь доставить ему все записки и все нужное. Он уже и так теперь знает довольно из математики. Но надобно ему лучше заняться фортификацией (которая у нас самый главный предмет в кондукторских классах) и артиллерией; ибо и артиллерию очень подробно у нас проходят, как входящую в состав фортификации. – Ах! Как Вы меня обрадовали, написав, что Вы, слава Всевышнему, здоровы. А я думал и полагал наверно, что Ваши всегдашние недуги еще более увеличились огорченьями (неполучением от меня писем). – Целую маленьких братьев и сестер. – Что-то делает Андрюша; как-то он учится. – Не захотите ли Вы его отдать к нам в училище. Когда я выйду в офицеры, то берусь его приготовить для поступления к нам; ибо поступить к нам довольно легко. Костомаров обморочил Вас и только и взял с Вас деньги за нас, тогда как мы бы могли и без приготовления поступить в училище. Но прощайте, любезнейший папенька. – Бессчетно раз желаю Вам счастья. – Ваш покорный и любящий Вас сын
Ф. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Поздравляю Вас с прошедшим праздником Христова воскресенья. – С какою грустью воспоминаю я о том, как проводил я день этот в кругу родных моих! А теперь? – Но только бы вырваться из училища.
Перейдя в высшей класс, я нахожу совершенно необходимым абонироваться здесь на французскую библиотеку для чтенья. Сколько есть великих произведений гениев – математики и военных гениев на французском языке. – Вижу необходимость читать это; ибо я страстный охотник до наук военных, хотя не терплю математики. Что за странная наука! и что за глупость заниматься ею. – С меня довольно столько, сколько требуется инженеру или еще и побольше. – Но к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским. Математика без приложенья чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре. – Скажу Вам еще, что мне жаль бросить латинского языка. Что за прелестный язык. Я теперь читаю Юлия Цезаря и после 2-х годичной разлуки с латинским языком понимаю решительно все.
* * *
А. А. и А. Ф. Куманиным.
С. Петербург. Генваря 28-го дня 1840 года.
Милостивый Государь Любезнейший Дядинька и Милостивая Государыня Любезнейшая Тетинька!
Никогда, никакое радостное известие не производило столь приятного и сладостного впечатления в душе моей, как то, которое ощутил я при чтении письма сестры. Ожидал ли я, и судя по вине моей, мог ли я ожидать подобной благосклонности и расположенья со стороны Вашей, любезнейшие дядинька и тетинька. – Не могу дать отчета в тех чувствованиях, которые волновались во мне при получении письма Вашего. – Вся тяжесть моей вины, все справедливое негодование Ваше, любезнейшие дядинька и тетинька, живо представились предо мною! Но какая перемена! Вы возвращаете мне Ваше благорасположенье охотно, с любовью, мне, нисколько не заслужившему этого. – Но я не знал и не могу сказать, что происходило тогда в сердце моем? я должен был радоваться, я не знал, как радоваться письму этому, ибо ничто в мире не могло меня сделать более счастливым, как прощенье Ваше; но досада на себя, стыд. Ваша беспримерная снисходительность ко мне, так долго во зло употреблявшему благораслоложенье Ваше, все это налегло на сердце мое тягостнейшим бременем. Наказанье собственной совести – сильнейшее, я несу всю тяжесть этого наказанья… Я в долгу у вас, любезнейшие дядинька и тетинька, в долгу, превышающем силы мои, и если исправление вины моей, раскаянье и привязанность моя к Вам будут иметь хотя малейшую цену в глазах Ваших, то я почту еще себя счастливым; ибо весьма облегчу совесть мою.
Но что меня восхитило больше всего, что напомнило душе моей так много милого в прошедшем, что заставило мое сердце забиться еще пламеннее к Вам, то это собственноручные строки ваши, любезнейшая тетинька. – Такого снисхождения и добродушия не мог ожидать я… Тем более были приятны для меня эти строки, что уже давно, единственно по собственной вине и ошибке своей, не слыхал я таких сладких сердцу слов, и выраженья Вашей любви ко мне, любезнейшая тетинька, которые напомнили мне покойную мать мою… С каким жаром целовал я строки эти, с каким жаром 1000 раз целую ручки Ваши, любезнейшая тетинька!
Но нет и счастья без горести. Это письмо глубоко растравило в сердце моем едва зажившие раны. Смерть дядиньки {137} заставила меня пролить несколько искренних слез в память его. – Отец, мать, дядинька и все это в 2 года! Ужасные годы!
Еще ранее поспешил бы я письмом моим, если бы не экзамены, задержавшие меня. Теперь они кончились, и я не теряю ни минуты. Но чувствую, что уже утомляю Вас письмом моим. – Итак, позвольте искренно любящему и почитающему Вас племяннику Вашему пребыть навсегда покорным и послушным Вам
Ф. Достоевским.
Любезнейшая сестра Варинька! Твое письмо обрадовало меня несказанно: в нем ты объявила мне прощенье дядиньки и тетиньки. Но как ты подумать могла, любезная сестра моя, что я забыл тебя, о ком же помнить мне более, если не об родственниках – благодетелях наших и о Вас, мои милые братья и сестры. – Нет! я никогда не забывал этого; верь всегда, Варинька, что у тебя есть братья, которые любят тебя более жизни своей. – Старший брат твой, любезнейшая сестра моя, любит тебя также пылко, несказанно: умей почитать и ежели можешь столь же любить его. – Вспомни, сколько несчастий перенес он, бедный, чтобы успокоить отца своего при жизни; поэтому можешь судить и о любви его к родным своим. – Самая теснейшая дружба связывает меня с ним. Милая сестра! ты написала мне столь много приятных известий о семействе нашем… Но о сестре Верочке еще ни слова. Она как будто забытая. – Напиши мне о них всех побольше, как можно больше. Что они? выросли ли малютки наши, изменились ли? Всех их целую от души, так же, как и тебя, милая сестра моя. Скажи Андрюше, что я бы весьма желал получить несколько собственных строчек в письме твоем. Научи его быть благодарным благодетелям нашим. Передай ему это от меня. Прощай, милая сестра моя. Твой друг и брат Ф. Достоевский.
Любезнейшая Бабушка! Как сладко отозвались в сердце моем слова сестры моей, упоминавшей о том, что Вы не забыли меня. Ежели бы я имел право просить любезнейшего дядиньку в прошлом письме моем о передаче Вам моего нижайшего почтения, любви и уваженья, то я бы к несказанному для меня удовольствию мог бы предупредить Вас. – Теперь мне ничего более не остается как нижайше благодарить Вас об этом. Верьте, что никогда не забуду я того уваженья и преданности, с которыми честь имею пребыть теперь
Вас любящим и преданным Вам Ф. Достоевский.
Любезнейшей тетиньке Катерине Федоровне свидетельствую мое нижайшее уважение.
* * *
П. А. Карепину
[1843. Декабрь]{138}
Милостивый Государь Любезнейший брат Петр Андреевич!
Прежде всего позвольте пожелать Вам благополучной встречи Нового года, и хотя обычай предков наших желать при сем нового счастья нашли почтенные потомки избитым и устарелым, а я все-таки пожелаю Вам при моем поздравлении от всей души продолжения счастия старого, если оно было по Вашим желаниям, и нового по житейскому обычаю желать более и более. – Счастие Ваше, разумеется, неразлучно с счастьем сестрицы – супруги Вашей – и милых малюток Ваших, да будет же и им счастье упрочено на всю жизнь – пусть принесет оно в семейство Ваше сладостную, светлую гармонию блаженства.
Благодарю за посылку, хотя очень, очень позднюю. – Я был уже должен столько же и отдал все присланное тотчас же до копейки. Сам остался ни с чем. – Совершенно вверяюсь расчету Вашему на вспоможение остальное за нынешний год; но все-таки, если бы Вы прислали мне теперь же на днях рублей 150, мои обстоятельства надолго бы упрочились. Теперешнее требование мое объясняется нуждами, изложенными в прошлом письме моем, причем потщусь просить извинения за несколько неосторожных слов – вырванных из души нуждою и необходимостью.
В ожидании ответа Вашего
С глубочайшим почтением и преданностью позвольте пребыть
Любезный братец Вас любящим родственником Ф. Достоевским.
На четвертой странице того же письма:
Милая сестрица! давным-давно уже не писал я ничего тебе; винюсь душевно, но видишь ли, я избалован твоей добротою и расположением ко мне и потому всегда надеюсь на прощение. – Со мною нужно быть строже и злопамятнее – два качества, совершенно противных твоему доброму, любящему сердцу. – Желаю тебе счастия большого и большого, добренькая сестрица. – Желаю счастия и здоровья и малюткам твоим. – Пусть вырастут тебе на радость и утеху. – Искреннее желание мое прими, а за видимую холодность (молчание) не сердись. – Каюсь перед тобой! Но ведь ты простишь мне, я это знаю.
Прощай, милая Варинька. Перецелуй наших малюток Сашу, Верочку и Колю.
Тебя любящий брат Ф. Достоевский.
* * *
[1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
Спешу уведомить вас, Петр Андреевич, что по естественному и весьма неприятному ходу дел моих я принужден был подать в отставку. Просьба подана дней 10 тому назад; на нее последовало со стороны начальства соизволение. Высочайшее решение выйдет много что через две недели. Не имея денег на почту, я не уведомлял вас тотчас же. Причина такого переворота в судьбе моей заключалась в критическом положении моем насчет денег. Видя естественную невозможность получить откуда-нибудь помощь, я не знал, что придумать лучше. Теперь жить плохо. Ни вверху, ни внизу, ни по бокам ничего нет хорошего. Человек может сгнить и пропасть, как пропавшая собака, и хоть бы тут были братья единоутробные, так не только своим не поделятся (это было бы чудом, и потому на это никто не хочет надеяться, потому что не должен надеяться), но даже и то, что по праву бы следовало погибающему, стараются отдалить всеми силами и всеми способностями, данными природою, а также и тем, что свято.
Всякий за себя, а Бог за всех! Вот удивительная пословица, выдуманная людьми, которые успели пожить. С моей стороны, я готов признать все совершенства такого мудрого правила. Но дело в том, что пословицу эту изменили в самом начале ее существования. Всякий за себя, все против тебя, а Бог за всех. После этого естественно, что надежда человеку остается весьма плохая. Меня назначали в командировку на крепость. Должен я был около 1200 руб., должен был наделать про запас платья, должен был жить в дороге, может быть, на пути в Оренбург или Севастополь или даже подальше куда-нибудь, да наконец иметь средства обзавестись кой-чем на месте. Так как я твердо был уверен (по опыту), что если бы меня командировали хоть в Камчатку, то мне неоткуда бы было ждать вспоможения, то я принужден был избрать зло меньшее, т. е. отсрочить катастрофу своего житья-бытья хоть на 2 месяца; а там хоть в тюрьму тащи; но тогда я законно бы получил то, что уже, Бог знает, сколько времени вымаливаю.
Уведомляю вас, Петр Андреевич, что имею величайшую надобность в платье. Зимы в Петербурге холодные, а осени весьма сыры и вредны для здоровья. Из чего следует очевидно, что без платья ходить нельзя, а не то можно протянуть ноги. Конечно, есть на этот счет весьма благородная пословица – туда и дорога! Но эту пословицу употребляют только в крайних случаях, до крайности же я не дошел. Так как я не буду иметь квартиры, ибо со старой за неплатеж нужно непременно съехать, то мне придется жить на улице или спать под колонадою Казанского собора. – Но так как это нездорово, то нужно иметь квартиру. – Существует полупословица, что в таком случае можно найти казенную, но это только в крайних случаях, а я еще не дошел до подобной крайности. Наконец, нужно есть. Потому что не есть нездорово, но так как тут нет ни вспомогательного средства, ни пословицы, то остается умереть с голоду; но это только в крайних случаях, а я, слава Всевышнему, еще не дошел до подобной крайности. Я требовал, просил и умолял три года, чтобы мне выделили из имения следуемую мне после родителя часть. Мне не отвечали, мне не хотели отвечать, меня мучили, меня унижали, надо мной насмехались. Я сносил все терпеливо, делал долги, проживался, терпел стыд и горе, терпел болезни, голод и холод, теперь терпение кончилось, и остается употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами.
Почти в каждом письме моем я предлагал вам, как заведующему всеми делами семейства нашего, проект о выделе-же, сделке, контракте, уступке, или как там угодно, части моего имения за известную сумму денег. Ответа не было никакого. Дело в том, что сумма, которую я требовал в обмен, была так ничтожна, что выгода семейства требовала подробнейшего рассмотрения моего предложения. Дело должно было быть сделано законно, след., опасаться было нечего (в сделках опасение допускается). Но так как я ответа не получал, то теперь хочу употребить все средства, чтобы получить его.
Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я разоряю все семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему собственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, что я отказываюсь от всего участка моего (приносящего до 1000 руб. дохода) за 1000 руб. серебром, из которых половина должна быть выплачена разом, а остальное на сроки. В противном случае я принужден буду употребить все мои усилия сбыть с рук мой участок хоть лицу постороннему, что будет довольно плохо для всех. С первого взгляда вещь не может быть допущена по закону; но допускают обязательства выплачивания долгов доходами, дарственные на получение не имения, но только доходов. Это возможно, а если этого нельзя, так можно что-нибудь другое и т. д. Меня не остановит малость предлагаемой суммы. Что же делать? деньги нужны, я пропащим человеком быть не могу. Нужно устроиться. Теперь я свободен, и меня не остановит ничто.
Вдобавок попрошу я вас, Петр Андреевич, прислать мне в счет чего хотите, хоть за 10 лет вперед, или всей цены выдележа прислать мне как можно более, чтобы удовлетворить означенным на страничке четвертой требованиям. Уведомляю вас, что жалование мое я взял все вперед в мае месяце (нужно было есть). След., теперь нет у меня ни копейки, к тому же нет платья, а наконец нужно долги заплатить. Ничего так не желаю, как кончить дела мои вышеозначенным. Они мешают мне жить.
Ф. Достоевский.
* * *
7 сентября [1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
В прошлом письме моем к брату Михайле писал я ему, чтобы он поручился за меня всей семье нашей в том, что после получения теперь некоторой суммы, я ничем не преступлю уговора, который благоугодно будет вам предложить мне от лица всех наших, и что брат Михайло на мои будущие требования должен будет или сам отвечать мне или, наконец, в случае несдержанна моего слова, сам из своей части поплатится мне. Будучи твердо уверен, что брат Михайло исполнил то, что я писал ему, нахожу необходимым еще раз обеспокоить вас письмом моим.
Брату кажется, так же как и мне казалось давно, что хотя и трудно сделать законный раздел, но весьма легко сделать семейный, соблюдать его ненарушимо с обеих сторон и потом довершить законами; конечно, не мне самому должно было предлагать вам такое решение; теперь же предстательство брата, естественно, может несколько споспешествовать ходу дел. – Угадывая и всегда будучи уверен, что на меру, принятую мною теперь, т. е. отставку вследствие долгов и неустройства дел, посыплются крики, обвинения, между которыми скажется известная фраза – что, дескать, хочет сесть на шею братьям и сестрам, я даже считаю обязанным выделиться, несмотря на то что дело это само по себе уж необходимо в моих обстоятельствах. Вследствие же сих выше изложенных причин назначаю цену 1000 р. сереб., которая с скупкою всего-навсего и уплатою долгов казенных и частных и т. д. и т. д. и т. д. выходит весьма сговорчивая, даже ниже и непременно ниже, чем следует, приняв в соображение вашу оценку когда-то. Из этой суммы 1000 руб. серебром я прошу 500 руб. сереб. выдать разом, а остальные 500 руб. сереб. выдавать по 10 р. сереб. в месяц. Назначая 500 руб. сереб. разом, я назначаю самое необходимое —1500 для уплаты долгов и 250 на окупление издержек теперешних, которые по настоящему требуют втрое более, чем 250 рубл. – Конечно, Петр Андреевич, нужно сознаться, что согласие и решение дела находится теперь в ваших руках. Вы можете отвергнуть все эти предложения по тысяче предлогам. Но несколько строчек самых откровенных с моей стороны, эссенции всего, что до сей поры было писано и говорено с обеих сторон, теперь, в настоящую минуту, необходимы. Никогда не имев сомнения, что ум, благородство и сочувствие всегда сопутствуют каждой мере вашей, полагаю, что вы простите неприятность смысла следующих строчек; их диктует необходимость. Вот они.
– Неужели вы, Петр Андреевич, после всего, что было между нами насчет известного пункта, т. е. дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности, после всего, что было писано и говорено с моей стороны, после (не спорю – и сознаюсь), после нескольких дерзких выходок с моей стороны насчет советов, правил, принуждений, лишений и т. п. вы захотите еще употребить ту власть, которая вам не дана, действовать в силу тех побуждений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть со мною роль, которую я в первую минуту досады присудил вам неприличною. – Неужели и после этого всего вы будете противиться моим намерениям, ради моей собственной пользы и из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности. Если же не эти причины действуют сердцем вашим теперь и запрещают вам помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни, то неужели это одна досада на несколько вырвавшихся с пера моего выражений. Досада может быть и должна быть, это естественно, хотя я и сожалею об этом, но продолжительный гнев и желание вредить не могут – это, как я всегда предполагал, против правил благородства вообще и ваших в особенности: в этом я твердо уверен; хотя до сих пор не постигаю причины, заставившей вас, приняв в соображение ваше участие в семейных делах наших, отстраниться от меня и предать меня самым неприятным гадостям и обстоятельствам, которые только были на свете.
А обстоятельства мои вот какие. В половине августа я подал в отставку в силу того, что долгов у меня бездна, а командировка не терпит уплаты их, и что ославленный офицер начнет весьма дурно свою карьеру. Наконец, самому жизнь была не в рай. Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоятельство везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. Прекрасно было бы продолжать службу, параллельно распространению жалоб по всевозможным командам. Наконец отставка моя была следствием горячности. Меня мучили долги, с которыми я три года не могу расплатиться. Меня мучила безнадежность расплаты в будущем. И потому я вышел в отставку единственно с целью уплаты долгов известным образом – разделом имения (по справедливому замечанию вашему, весьма и даже донельзя весьма миниатюрного, но для известных целей годящегося). Что же касается до уважения к родительской памяти, то именно ради сего-то обстоятельства, хочу употребить родительское достояние на то, на что бы мой батюшка сам не пожалел его, т. е. на спокойство своего сына, на средства для новой дороги и на избавление от названия подлеца, т. е. хотя не названия, но мнения, что все одно и то же. Просьбы по домашним обстоятельствам подвергаются высочайшему решению с 1-го октября – все дело занимает дней 10, много что две недели. Половина месяца подходит. Мне выйдет отставка, кредиторы ринутся на меня без жалости, тем более что на мне даже и платья не будет, и я подвергнусь самым неприятным делам. Хотя я отчасти это предвидел, и если оправдаются мои предположения и предугадывания, я был готов к этому, но согласитесь, что я не пойду в тюрьму, напевая песни из глупой бравады. Это даже смешно. Вот почему, Петр Андреевич, пишу это письмо в последний раз, представляю всю крайность моих нужд в последний раз, прошу вас мне помочь в возможно скором времени в последний раз, на предложенных условиях, хотя не разом, но столько, чтобы заткнуть голодные рты и одеться. Наконец говорю вам в последний раз, теперь, будучи в совершенном неведении насчет вашего решения, что лучше сгнию в тюрьме, чем вступлю в службу прежде окончания и устроения дел моих.
Ф. Достоевский.
* * *
19 сентября 1844
Милостивый Государь Петр Андреевич.
Письмо ваше от 5-го сентября, наполненное советами и представлениями, я получил и теперь спешу отвечать вам.
Естественно, что во всяком другом случае я бы начал благодарностью за родственное, дружеское участие и за советы. Но тон письма вашего, тон, который обманул бы профана, так что он принял бы все за звонкую монету, этот тон не по мне. Я его понял хорошо, и он же мне оказал услугу, избавив меня от благодарности. Вы, положим, что вы как опекун имеете право, вы укоряете меня в жадности к деньгам и в обиде меньших братьев, насчет которых я пользовался доселе большими суммами денег. После всего, что я писал в продолжение двух лет, я даже считаю излишним отвечать вам на это. Вы же могли видеть из писем моих, что не в количестве денег, разумеется до известного предела, всегдашнее и теперешнее опасение мое и устройство моих обстоятельств, а в своевременной присылке денег. Я вам объяснял 1000 раз положение дела – не я виноват.
Но как же теперь-то говорить то же самое и вооружать против меня своими словами все семейство наше? Вы должны бы были понять мои требования. Разве требование 500 руб. серебром единовременно и других 500 руб. серебр. отдачею, положим, хоть в трехгодичный срок, разве уж такое огромное требование по выдележу моего участка? Кажется, это не мне одному будет полезно. Что же касается до затруднений Опекунского совета, дворянской опеки, Гражданской палаты и всех этих имен, которыми вы закидали меня, думая ошеломить, то я полагаю, что эти затруднения не существуют. Разве не продаются имения с переводом долгу? Разве много проиграет или потеряет кто-нибудь, если имение останется собственностью нашего семейства по-прежнему; ведь оно в чужие руки не переходит, не отчуждается. Наконец это дело самое частное – выдать 500 руб. серебром разом в счет стольких-то лет дохода – хоть десяти.
По крайней мере я беру отставку. Я подал прошение в половине августа (помнится так). И разумеется по тем же самым причинам, по которым подаю в отставку, не могу опять поступить на службу. То есть нужно сначала заплатить долги. Так или этак, а заплатить их нужно.
Вы восстаете против эгоизма моего и лучше соглашаетесь принять неосновательность молодости.
Но все это не ваше дело. И мне странно кажется, что вы на себя берете такой труд, об котором никто не просил вас и не давал вам права.
Будьте уверены, что я чту память моих родителей не хуже, чем вы ваших. Позвольте вам напомнить, что эта материя так тонка, что я бы совсем не желал, чтобы ею занимались вы. Притом же, разоряя родительских мужиков, не значит поминать их. Да, и наконец все остается в семействе.
Вы говорите, что на многие письма мои вы молчали, относя их к неосновательности и юношеской фантазии. Во-первых, вы этого не могли делать; я полагаю, вам известно почему; кодекс учтивости должен быть раскрыт для всякого. Если же вы считаете пошлым и низким трактовать со мною о чем бы то ни было, разумеется, уж в тех мыслях, что он-де мальчишка и недавно надел эполеты, то все-таки вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировским мыльным пузырем. Странно: за что так больно досталось от вас Шекспиру. Бедный Шекспир!
Если вам будет угодно рассердиться за слова мои, то позвольте мне напомнить вам одну вашу фразу: «Превзойти размер возможности уплаты есть посягательство на чужую собственность». Так как вы сами весьма хорошо знаете, что всего-всего 1500 руб. долгу не есть весь размер моей уплаты, то каким образом вы написали это? Я вам не представляю никаких других причин, по которым вы не могли этого написать. Я вам даю только факт, сумму, число. Вам даже известна и история этих долгов; не я их делал, и я не виноват, что в Петербурге процветает более чем где-нибудь коммерция, покровительствуемая Бентамом. Во всяком случае эту наивность (из уважения к вашим летам я не могу принять это за нарочную грубость и желание уколоть), так эту-то наивность я должен отнести, да и непременно отнесу, к одной категории с шекспировскими мыльными пузырями.
Если вы и за это рассердитесь, то вспомните, пожалуйста, ваше письмо к его прев. Ив. Гр. Кривопишину. Помилуйте, Петр Андреевич, неужели вы могли это сделать? Я, видите ли, не принимаю, потому что не хочу принимать этого в том смысле: – что вы пишете обо мне письмо, не спросясь меня, с целью повредить моим намерениям и остановить мою шекспировскую фантазию.
Но послушайте, кто же может остановить законную волю человека, имеющего те же самые права, как и вы… Ну, да что тут! чтоб не быть Иваном Ивановичем Перерепенко, я готов и это принять за наивность, по вышеозначенной причине.
Четвертая страница вашего письма, кажется, избегнута общего тона письма вашего, за что вам душевно благодарен. Вы правы совершенно: реальное добро – вещь великая. Один умный человек, именно Гёте, давно сказал, что малое, сделанное хорошо, вполне означает ум человека и совершенно стоит великого. Я взял эту цитацию для того, чтобы вы видели, как я вас понял. Вы именно то же хотели сказать, задев меня сначала и весьма неловко крючком вашей насмешки. Изучать жизнь людей – моя первая и цель и забава, так что я теперь вполне уверился, например, в существовании Фамусова, Чичикова и Фальстафа.
Во всяком случае дело сделано, я подал в отставку, а у меня гроша нет для долгов и экипировки. Если вы не пришлете мне немедленно, то совершенно оправдаете прошлое письмо мое.
Ф. Достоевский.
На полях следующие приписки:
Вы знаете причину моего выхода в отставку – заплата долгов. Хотя две идеи вместе не вяжутся, но оно так. К 1-му числу ок. выйдет отставка. Разочтите.
Вам угодно было сказать несколько острых вещей насчет миниатюрности моего наследства. Но бедность не порок. Что Бог послал. Положим, что вас благословил Господь. Меня нет. Но хоть и малым, а мне все-таки хочется помочь себе по возможности, не повредя другим по возможности. Разве мои требования так огромны. Что же касается до слова наследства, то отчего же не назвать вещь ее именем.
* * *
[Октябрь 1844 г.]
Милостивый Государь Петр Андреевич.
В последнем письме моем объявил я вам, что пишу в последний раз, до лучшей перемены в моих обстоятельствах. Я мыслил так, не имея писать ничего более, истощив все средства убеждения и представив вам весь ужас моего положения. – Теперь критический срок для меня уже прошел, и я остался один без надежды, без помощи, преданный всем бедствиям, всем горестям моего ужасного положения – наготе, нищете, сраму, стыду и намерениям, на которые бы не решился я в другое время. Что мне остается более делать, чем начать, куда оборотиться – судите сами.
Нужно вам знать, что я, в ту минуту как вы будете читать письмо мое, уже получил отставку (справьтесь в газетах). У меня нет ни платья, ни денег, нет ничего заплатить кредиторам и не будет квартиры, потому что вряд ли хозяин дома еще будет держать меня на старой. – Начал я вам писать для того, чтобы несколько пояснить из того, что было не так выражено в прошлом письме моем. Постараюсь говорить как можно яснее.
Из ваших писем, Петр Андреевич, я вижу, что раздел, как вы говорите, невозможен: во-1-х, потому что на имении есть долги казенные и частные, а во-2-х, так как я забрал в продолжение трех лет денег более, чем на долю мою следовало бы, то со временем при отчете я должен буду в мой ущерб наверстать лишнюю сумму в пользу других.
Все это так, но я и брат Михайло предполагаем семейный раздел, который будет существовать ненарушимо до окончательного. Но если с чьей-нибудь стороны будет хотя малейшая запинка и остановка в этом деле, то уж, конечно, оно состояться не может. Дело основано на полнейшей обоюдной доверенности друг к другу, а если встретится на этот счет недоразумение, то договоров быть не может никаких. Я предполагаю, что вы, в качестве опекуна, можете сомневаться в верности и справедливости с моей стороны и наконец какой-нибудь случай – вот почему я предлагаю следующее. Но прежде чем приступить к делу: вам известно, какую я предлагаю цену – 1000 руб. сереб. из коих 500 руб. сереб. разом, а остальную сумму рассчитать на самый отдаленный срок. Эта цена по своей умеренности не боится никаких требований кредиторов, казенных и частных, и никаких затруднений при разделе. Почему я назначаю такую умеренную цену, почему я хочу, по выражению некоторых, спустить с рук отцовское добро (миниатюрное) – эти вопросы, по вашему собственному теперешнему мнению, Петр Андреевич, лишние. Дело в том, что я вижу в этом свое избавление от неприятностей и возможность устроиться по-лучшему, а это для меня чего-нибудь да стоит. Наконец 1000 руб. сереб. с предполагаемым их разделом в платеже – сумма такая, что может родить предположение об юношеской неосновательности и нерасчетливости. Но, во-1-х, я имею дело не с барышниками, а во-вторых, далеко не думал быть чьим-нибудь благодетелем, я просто в моих обстоятельствах нахожу неумеренным требовать более, а для уничтожения подозрений я решаюсь на следующее:








