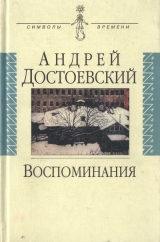
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Полковник Мурузи оставался помощником директора очень недолгое время по преобразовании училища и был по старости уволен в отставку. К довершению сведений о нем скажу еще, что он был вдовец, но что при нем жила взрослая дочь, брюнетка и очень хорошенькая. Она слыла между воспитанниками под названием Саньки. Говорили, что она была развратная девчонка, готовая с каждым воспитанником переночевать ночь в гостинице за плату четвертного билета (25 р. ассигнациями). Утверждать этого не могу, потому что сам не имел случая испытать подобной с ее стороны готовности.
После полковника Мурузи помощником директора поступил к нам барон Седеркрейц, полковник лейб-гвардии Литовского полка. Не знаю, был ли он разбит параличом или вследствие полученных ран, но на вид он представлялся полным паралитиком. Голова его беспрестанно подергивалась, а кисти рук как-то сводились, так что писать он почти вовсе не мог; подписывая отпускные билеты, он употреблял на каждую подпись: «Полковник барон Седеркрейц» почти минуты по три, ежели не более. По его действиям и поступкам позволительно было заключить, что и самый мозг его был не совсем в здравом состоянии.
Вся его служебная деятельность состояла в том, что он ежедневно к обеденному часу приходил в училище и неизменно без пропусков все время обеда ходил по залам столовой, потряхивая своей головой. После же обеда, когда воспитанники уходили по классам, он на час водворялся в дежурной комнате и там подписывал билеты, и ежели успеет подписать 20–25 билетов, то сейчас же заканчивает свои занятия и идет домой. В течение недели билетов 100–120 подпишет, следовательно, воскресный отпуск и обеспечен… Он постоянно толковал о каком-то «поганом духе», который надо искоренять из воспитанников, но сам никогда не разъяснял, в чем видит он проявление этого «поганого духа». Это был не человек, а какой-то истукан, особыми пружинами и машинами приводимый в движение. За шесть лет моего пребывания в училище я не помню ни одного распоряжения, которое бы самостоятельно было сделано полковником Седеркрейцем. Ни одной похвалы, ни одного выговора, ни одного наказания он самостоятельно не сделал ни одному воспитаннику. Анекдотов про его глупость было бесчисленное множество; вот некоторые из них.
Обеденное время приходило к концу; полковник Седеркрейц по заведенному правилу прохаживался по столовой из одного конца в другой; вдруг в одном конце послышалось сильное шмыгание ногами по паркету; я был дежурным унтер-офицером, а потому также не обедал одновременно с воспитанниками, а ходил по столовой. Услышав шмыгание, я сейчас же пошел в ту сторону и узнал претензию воспитанников, что в текущую неделю уже второй раз подают пироги с морковью (самые нелюбимые воспитанниками), тогда как по расписанию табели пироги с таковою начинкою полагаются только однажды в неделю. – Выслушав это заявление, я подошел к полковнику Седеркрейцу и доложил:
– Господин полковник, воспитанники жалуются, что, вопреки расписанию, пироги с морковью подаются уже второй раз в текущую неделю…
– О, да, это нехорошо, я буду говорить Сергей Иванович, – ответил он своим немецким выговором.
А тут как раз, легкий на помине, явился в столовую и сам Сергей Иванович (эконом), по прозванию «Картофельная рожа».
– Сергей Иванович, – обратился к нему Седеркрейц, – вот воспитанники жалуются, что на этой неделе были уже два раза пироги с морковью.
– В третий раз не будут, – успокоил его эконом.
– Достоевский, Достоевский, – кличет меня полковник, – Сергей Иванович говорит, что третий раз пирогов с морковью не будет…
Благодарю, не ожидал! Я сейчас же с этим ответом пошел к претендовавшим воспитанникам и в точности передал его им. Дружный хохот был ответом на эту дерзкую выходку эконома; но что же было делать, не объяснять же дураку, в какой степени он одурачен своим подчиненным.
Другая картина: идет полковник в лазарет. Там лежал при последнем издыхании от чахотки воспитанник Штейн. «Ну что, Штейн, как ваше здоровье?» – «Умираю, полковник!..» – был еле слышный ответ. – «О, нет, нет, вы выздоравливает… А-а-а…. – бросился он от койки больного, не досказав и утешения больному. – Новая ясневая дверь!.. Как это хорошо!» И начал в подробностях рассматривать любимое им дерево, не вспомнив ни о Штейне, ни о других больных, лежащих в лазарете. Воспитанники по этому случаю прозвали его «ясневым лбом». – Более, кажется, нечего сказать об этом господине. Он пробыл на своем посту до 1851 года, когда должность особого помощника директора была отменена вовсе и сосредоточена в лице инспектора классов. Говорили, что полковник Седеркрейц после был губернатором в остзейских губерниях. Ныне ознакомившись с сложными и трудными обязанностями губернаторов, не могу постигнуть, как такой человек мог пробыть губернатором хоть один месяц…
Первым инспектором классов в строительном училище был назначен полковник Петр Александрович Языков, вслед же затем он был произведен в генерал-майоры. Петр Александрович Языков был один из выдающихся инженеров того времени. Это был очень добрый и симпатичный человек. Низенький ростом, довольно толстый, а главное, сильно сутуловатый, он был неказист внешним видом. Надетые им вновь генеральские эполеты еще более делали его низким и сутуловатым; воспитанники в шутку прозвали его Квазимодо, но любили и уважали его очень. Вся наружная неприглядность его искупалась сердечной добротою, так и прыскавшею из доброго и симпатичного лица его. Всякий день бывало он обхаживал классы со списками и отметками воспитанников и от каждого требовал и допытывался откровенного ответа, почему получен кем-нибудь неудовлетворительный балл; и ежели обозначалось, что это произошло, собственно, по лени, то наставлениям и нравоучениям не было конца; тут он войдет, бывало, во все обстоятельства, даже семейные, пробираемого воспитанника и, бывало, доведет его до того, что тот чуть не расплачется. Ежели же он дознается, что воспитанник вообще мало подготовлен и с не блестящими способностями, то сейчас обращается с просьбою к одному из хорошо идущих товарищей его и буквально просит покорнейше и умоляет принять слабого воспитанника под его покровительство. Что же касается до худой отметки или балла, полученного иногда хорошим воспитанником, то на это он даже и не обращал внимания, то есть видимого внимания, а сам, бывало, остановится перед таковым и долго, долго на него смотрит. И воспитанник уже знает, что обозначает этот пристальный взгляд. Генерал Языков очень недолго оставался у нас инспектором, менее года (до 25 ноября 1843 года). Впоследствии П. А. Языков был, в чине генерал-лейтенанта, членом совета министерства путей сообщения и директором департамента железных дорог.
Вместо генерала Языкова, с 25 ноября 1843 года, инспектором классов назначен был инженер-капитан Константин Иванович Марченко. Малоросс родом, он был умный, хитрый и деятельный господин и вместе с тем очень добрый, хотя и в другом совершенно роде в сравнении с генералом Языковым. Он проникся мыслью и намерением поставить училище в учебном отношении на твердую и устойчивую ногу, чего и достигнул, кажется, во время своего семилетнего инспекторства (до 29 декабря 1850 года). Этою краткою характеристикой я и закончу здесь сведения об Константине Ивановиче, тем более что мне часто придется говорить об этой светлой личности в своих дальнейших воспоминаниях как по пребыванию в училище, так и в более позднейшие времена. Тут же добавлю только, что Константин Иванович Марченко, которого, под конец моего пребывания в училище, воспитанники окрестили названием «батько», был полезен для училища не только как инспектор, но и впоследствии. Питомцам же училища К. И. Марченко, занимая видные должности, оказывал всегда помощь и покровительство. – Впоследствии К. И. Марченко состоял при министре путей сообщения в качестве чиновника особых поручений, а с 1865 года, т. е. со времени перехода строительной части из министерства путей сообщения в ведение министерства внутренних дел, он занял место председательствующего во вновь образованном техническом строительном комитете министерства внутренних дел, быв первым по времени председателем этого вновь образованного учреждения.
Ротным командиром единственной роты училища был строительного отряда капитан, а впоследствии майор Николай Платонович Бердяев. Да не покажется странным, что я при описании лиц, заведующих различными частями в училище, о некоторых из них говорю не только с похвалою, но даже с каким-то благоговейным воспоминанием… Да, строительное училище при образовании своем было очень счастливо, имея таких начальников, как Притвиц, Языков, Марченко и Бердяев. Этими лицами и погордиться и похвалиться можно! Николай Платонович Бердяев попал в строительный отряд вследствие своего благородного, но вместе с тем и дерзкого (со стороны военной дисциплины) поступка относительно начальства. Он служил где-то в гвардии, как довольно состоятельный помещик Вологодской губернии, и имел какое-то столкновение с полковым командиром, вследствие дерзости которого он при арестовании бросил свою саблю к ногам полкового командира. Это сочли преступлением против дисциплины и перевели его, в наказание, тем же чином в армию или гарнизон, откуда он и перешел в строительный отряд и затем получил место сперва просто офицера при училище гражданских инженеров, а затем, с преобразованием его в строительное училище, сделан был ротным командиром училища. Так, по крайней мере, рассказывалась история Николая Платоновича во время пребывания моего в училище. Об личности этой и о всем том, сколько добра он принес училищу своим истинно-гуманным отношением к воспитанникам его, – можно говорить долго и много. Благодарная память о нем питомцев училища была общая. Это, между прочим, видно из того, что при праздновании дня 25-летия училища в 1867 году комиссия, избранная для распоряжений по предстоящему празднованию, решила пригласить Николая Платоновича Бердяева, имя которого памятно всем воспитывавшимся в училище в первое его десятилетие, как почетного гостя на сказанное празднество. Но Николай Платонович, живший тогда в отставке в г. Вологде и уже больной, не мог приехать на праздник, а прислал письмо, в коем в самых задушевных выражениях благодарил за желание видеть его на празднике и заочно предлагал тост за процветание училища, за здоровье и успехи в жизни получивших в нем образование.
В заключение скажу несколько слов о враче при училище – докторе медицины Гейне{68}. Он, из выкрещенных евреев, замечателен тем, что был родным братом поэта Гейне. Говорили, что он был очень сведущий и ученый доктор, но как врач училища он был очень невнимательным врачом. Лазаретом училища он мало занимался, хотя там часто бывали очень серьезные больные. Вообще, он был всегда недоволен, когда заявляли о болезни и просились в лазарет. Помню, что и я подвергся его варварским приемам. Однажды не знаю чем-то я заболел и чувствовал себя не в состоянии сидеть в классе, а потому по настоянию Бердяева отведен был в лазарет к доктору. Тот, не осмотревши меня хорошенько, заподозрил меня в ленивой лихорадке и предписал поставить мне на всю грудь мушку в размере 4 вершков в каждую сторону. Этот скотский прием сделал то, что пришлось потревожить доктора даже ночью (что редко случалось). Он велел сейчас же снять мушку, но она уже сделала свое действие и, кажется, была причиною моей долгой болезни и пребывания в лазарете.
В число обязанностей его входил также ежемесячный осмотр всех воспитанников, в адамовом костюме, что воспитанники попросту и не стесняясь называли шванц-парадом. На этих шванц-парадах, происходивших всегда в спальнях, доктор Гейне, тоже не стесняясь, говорил некоторым воспитанникам старшего возраста: «Вам нужно сходить к девушкам»…
День строительного училища начинался с 6 часов утра. В 6 часов утра барабанщик шел медленным шагом по всем комнатам спален и выбивал зорю около самых коек воспитанников. Сперва этот барабанный бой действовал очень успешно, и все воспитанники, заслышав его, мгновенно вскакивали с коек. Но к чему человек не привыкает? Впоследствии звуков барабанного боя некоторые воспитанники даже и не слышали, а потому барабанщик останавливался у таковых и бил в барабан до тех пор, пока не достигал своей цели. Таковой барабанный обход происходил по три раза, и по третьему воспитанники должны были уже быть готовыми. Вставши с коек и надев брюки, воспитанники спешили в умывальни, а умывшись, уже надевали куртки и готовились к осмотру отделенных унтер-офицеров (из воспитанников же), которые и осматривали: в исправности ли находятся куртки, вычищены ли сапоги, а иногда осматривали и зубы, чисты ли они, и т. п. (сапоги воспитанники должны были чистить сами, но, впрочем, не возбранялось отдавать эту операцию, за особую плату со стороны воспитанников, училищным сторожам). Когда таким образом осмотр был произведен, то каждый офицер вел свое отделение в сборный зал, где отделения эти и выстраивались в общие шеренги. Затем барабанщик бил зорю, и воспитанники всем хором пели молитвы: «Верую» и «Отче наш». По окончании молитвы воспитанников вели в столовую, где им подавалось по большой кружке сбитня с булкой, в объеме нынешней пятикопеечной полубулки. Сбитень приготовлялся особенно вкусный, имелся какой-то секрет для его приготовления; впоследствии я очень часто пробовал сбитень, носимый сбитенщиками по гостиным дворам и лавкам, но подобного нашему училищному мне никогда не доводилось пить. После сбитня мы шли по классам и там до 8 часов приготовлялись к предстоящим лекциям. Ровно в 8 часов бил барабан, и преподаватели входили в классы и давали первый утренний урок, длившийся от 8 до 10 утра. Далее следовал барабан, по которому давался 5-минутный отдых, а затем, тоже по барабану, входил второй преподаватель, урок которого длился от 10 до 12 ч. утра. По окончании второго урока давался получасовой отдых, а затем, по барабану, воспитанники собирались в зал и, выстроившись в шеренги, по команде «Скорым шагом марш» шли в столовую; тут воспитанники, заняв свои места, по сигналу барабана пели общую молитву «Очи всех на тя, Господи, уповают» и затем по сигналу тоже барабана усаживались за обед. Тарелки, блюда и суповые миски – все были металлические, оловянные. Обед состоял из следующих блюд: а) суп или щи, который подавали в больших мисках, и отделенный унтер-офицер разливал его для своего отделения (человек в 20) по тарелкам, которые и передавались по назначению самими воспитанниками. Ложки тоже были металлические; б) второе блюдо составляла говядина, подаваемая нарезанными кусками и обносимая на оловянных блюдах училищными сторожами. Говядина эта была та же самая, которая варилась в супе или щах, но только ей не давали вывариваться (варилась она в котлах, обернутая в полотенце, оттого и не разваривалась), и к которой приготовляли какой-нибудь соус или из фасоли, или из горошка, или из чечевицы, чаще всего из хрена вареного и т. д. Ежели говядина была хороша, то это тоже было очень вкусное и питательное блюдо; в) третье блюдо составляли пироги (довольно объемистые). Пироги эти делались с различной начинкой: или с рисом, или с кашей, или с капустой, или с морковью. Бывали также и с изюмом и с черносливом. Пироги эти тоже обносились служителями на блюдах. По окончании обеда, когда дежурный унтер-офицер, обойдя все столы, убеждался, что все закончили свою еду, то докладывал об этом дежурному офицеру, по знаку которого бил барабан, и все воспитанники вставали и пели молитву «Благодарим тя…». Затем по знаку барабана воспитанники расходились по классам и до 2 часов дня бывали свободны. В это время воспитанникам давалась свобода или быть в классах, в которых они могли прохаживаться, или идти даже в сборный зал, где часть воспитанников ходя зубрила свои уроки. К двум часам дня все воспитанники должны были быть в классах на своих местах, и ровно в 2 часа бил барабан и входил преподаватель. Это был третий дневной урок, длившийся от 2 до 4 часов дня. Затем после 5-минутной перемены, тоже по барабану, входил новый преподаватель на 4-й дневной урок, который длился от 4 до 6 час. вечера. По уходе этого преподавателя воспитанники занимались приготовлением уроков к следующему дню, и им не возбранялось или заниматься в классах, или идти в сборный зал и зубрить ходя. Конечно, письменные занятия в зале не дозволялись. Это продолжалось в течение двух часов, то есть до 8 час. вечера. В это время бил барабан, и все воспитанники собирались в сборном зале, строились в шеренги и оттуда по знаку барабана шли в столовую к ужину и занимали свои обычные места. К ужину подавались два блюда: во-первых, суп или щи того же сорта, как и за обедом, которые готовили за один раз вместе с обеденным супом или щами, и, во-вторых, на блюдах обносилась сторожами гречневая или пшенная каша. Конечно, гречневая была более любимою. К этой каше каждому из воспитанников полагалась порция чухонского масла в виде отдельных кусочков, развешенных и очень аккуратно приготовленных. Вес каждого кусочка, кажется, был в 1 ½ золотника. Каши бралось вволю. – Из этого видно, что ужин был тоже питательный. Хлеб к обеду и к ужину подавался черный, и не возбранялось брать его сколько угодно. Хлеб пекся очень вкусный и удачный. Для питья как за обедом, так и за ужином подавались в графинах вода и квас, конечно, своего приготовления. Стакан для каждого воспитанника подавался отдельный, наравне с ложкой и ножами. – По окончании ужина воспитанники по барабанному бою велись в сборный зал, где, выстроившись в шеренги, после пробитой тут же вечерней зори пели хором те же молитвы, что и утром, т. е. «Верую» и «Отче наш», и затем по знаку барабана отправлялись все в верхний этаж в спальни, где сейчас же раздевались и укладывались по своим койкам и в большинстве случаев сейчас же засыпали. Какие-либо занятия или чтения в спальнях не допускались, а воспитанники обязательно должны были раздеваться и ложиться, тем более что к 9 часам вечера все лампы по спальням гасились, и в каждой спальне оставалось только по ночнику, состоящему из сальной свечки, горевшей в большом жестяном подсвечнике, наполненном водою, в которой горящая свеча плавала.
Праздничные и предпраздничные дни проводились с некоторыми особенностями. Начать с того, что по субботам послеобеденных уроков не было, а иногда не было только одного последнего урока. Отпуск воспитанников к родным и знакомым производился по желанию их различно: или а) на один субботний или предпраздничный вечер; в таком случае отпущенный воспитанник должен был возвратиться к ночлегу, т. е. в 9 час. вечера; б) или на один воскресный или праздничный день; в) или с ночлегом, т. е. с вечера субботы или предпраздничного дня до 9 ч. вечера праздничного дня; г) наконец, ежели 2 или 3 праздника случались подряд, то воспитанники могли отпускаться на все время отпуска до 9 час. вечера последнего праздничного дня.
Оставшиеся воспитанники в предпраздничные дни обязательно должны были быть у всенощной в церкви училища, которая всегда начиналась в 7 ч. вечера; а в праздничные дни должны были быть в той же церкви у обедни, которая начиналась всегда в 10 ч. утра. В церковь воспитанники тоже водились шеренгами, по команде, но без барабанного боя. Дни праздничные проводились во всем схоже с днями будними, только в училище было менее населенно, а потому более свободно.
Еще был день в неделе, особенно любимый большинством воспитанников. Это – день банный. В баню водили воспитанников в две недели один раз, по четвергам вечером. Для этого абонировалась на вечернее время ближайшая торговая баня, бывшая тогда у самого Обуховского моста на углу набережной Фонтанки и Обуховского проспекта. В этот день, по особому наряду, в 6 ч. вечера являлся особый дежурный офицер, который вел первоначально одну партию воспитанников в 75 человек, а затем, по возвращении первой партии, вел вторую, которая уже и поспевала назад только к ужину. Баня была привлекательна тем, во-первых, что являлся случай пройтись по воздуху, во-вторых тем, что попаришь и обмоешь грешное тело, а в-третьих, и главное, тем, что к этому времени на торговых ларях при банях раскладывались и продавались услужливыми продавцами различные привлекательные для воспитанников вещи в виде баранок, яблоков, конфет и других яств и десертов. А потому редкий из воспитанников ходил в баню без денег. Но так как у редкого воспитанника среди недели оказывались деньги, то к этому дню обращались к кредиту училищных банкиров, или, другими словами, к училищным сторожам. Были некоторые из них, как, например, помню своего банкира – кривого сторожа Мухина, которые составляли себе порядочное состояние подобными займами. Они выдавали мелочами – по 10, 20 и максимум по 30 копеек на баню, а воспитанники должны были возвратить через неделю 20, 35 или 50 копеек. Процент уменьшался с увеличением капитала. Впрочем, ссуды бывали и более долгосрочные, и тогда уже проценты уменьшались, но никогда не бывали менее 25 % в месяц, то есть 300 % в год. Расписок никогда не давалось, да банкиры были и без расписок обеспечены, потому что в случае неуплаты долга об этом распространялось между прочими воспитанниками, которые и принуждали неисправного плательщика по возможности скорее разделаться с банкиром-сторожем.
Упоминая о деньгах, не могу не рассказать здесь следующего обстоятельства.
Как только в Москве узнали о моем поступлении в училище гражданских инженеров, то на радостях дядя Александр Алексеевич Куманин дал 100 рублей (ассигнациями) для пересылки мне, как он сказал, на пирог. Деньги эти почему-то были присланы не прямо мне, а Ивану Григорьевичу Кривопишину, о чем мне и было сообщено письмом из Москвы, да и сам Кривопишин передал мне об этом через директора Федора Карловича Притвица. Конечно, я не скрыл этого от брата Федора, который, постоянно нуждаясь в деньгах, забомбардировал меня своими записками. Записки эти сохранились у меня доселе, и я берегу их, как и все письма брата, как зеницу ока. Вот три записки, относившиеся к этому обстоятельству, передаваемые здесь в копиях с пунктуальною точностью{69}:
1-я в 1842 году. «Брат! Если ты получил деньги, то ради Бога пришли мне рублей 5 или хоть целковый. У меня уже 3 дня нет дров, а я сижу без копейки. На неделе получаю 200 руб. (я занимаю), наверное, то тебе все отдам. Если ты еще не получил, то пришли мне записку к Кривопишину: Егор[26]26
Человек, живший у брата для услуг.
[Закрыть] снесет ее. А я тебе перешлю сейчас же. Достоевский».
2-я в начале 1843 года. «Удалось ли тебе взять что-нибудь у Притвица[27]27
Кривопишин передал деньги Притвицу, а потому получка их сделалась для меня еще затруднительнее.
[Закрыть], брат? Если удалось, то пришли. У меня ничего нет. Да напиши, когда придешь, и если теперь не пришлешь, то непременно принеси. – Ради Бога. – Хоть сходи на квартиру к Притвицу. – Пожалуйста. Твой брат Ф. Достоевский.»
3-я то же в 1843 году. «Писал ты мне, любимый брат, что не можешь достать денег ранее масленицы. – Но вот что я придумал: с этим письмом я шлю тебе другое, в котором прошу у тебя взаймы 50 рублей, ты его и покажи сейчас генералу и попроси, чтоб тотчас же выдал тебе немедленно деньги, чтобы отправить сейчас с Егором. – Разумеется скажи ему, что ты мне дал честное слово и что твое желание мне помочь. Ради самого Бога, любезнейший, не откажи; а я только лишь получу от брата, непременно же расплачусь с тобою, без денег сидеть не будешь. Из 50 рублей возьми себе что нужно. – А на масленице, честное слово, все отдам, тебе же теперь не нужны деньги, а у меня, поверить не можешь, какая страшная, ужасная нужда. – Помоги мне, пожалуйста. Твой Достоевский.
P. S. Если к масленице не будет денег у меня, то я возьму вперед из жалованья и тебе отдам».
Я рассказал здесь о присланном мне подарке дяди и привел записки брата Федора единственно для того, чтобы показать, до какой степени нуждался тогда в деньгах брат Федор.
Обращаюсь опять к общему описанию училища и порядков его.
При доме училища сада не имелось, но были дворы – чистый и черный. Этими дворами воспитанники очень редко пользовались, а в зимнее время никогда на них не показывались. Это тоже можно было отнести к невниманию доктора Гейне, который о санитарном положении училища вовсе не заботился.
Форма воспитанников была следующая: 1) домашняя или классная форма состояла: а) из куртки темно-зеленого сукна с бархатным (т. е. плисовым) воротником и таковыми же обшлагами на рукавах. При куртке были наплечные погоны; воротник, обшлага и погоны были обшиты светло-зеленым кантом, а на плечевых погонах были высечены буквы С. У., с таковою же светло-зеленою суконною подклейкою. Буквы С. У. обозначали название училища, т. е. строительное училище. Некоторые же воспитанники относили их к определению будущей своей участи, говоря, что эти буквы предвещают в будущем собачью участь. Замечу здесь, что куртки шились, или как у нас говорилось, «строились» с каким-то удлинением, как впоследствии дамские кофточки шились с басками. Думаю, что эта дамская мода заимствована от курток строительного училища. Куртки шились однобортные с 9 пуговицами по борту. Пуговицы были белые, литые, металлические, с буквами С. У. на каждой; б) шаровары из светло-сине-серого сукна с светлым зеленым кантом по швам; 2) выходная форма состояла: а) из таковой же куртки, как и классная, с тем различием, что воротник и обшлага были обшиты серебряным галуном; б) из брюк темно-зеленого сукна с светло-зеленым кантом по швам; в) шинель из такового же темно-зеленого сукна, однобортная, солдатского покроя, со стоячим бархатным воротником и плечевыми погонами. Подкладка под шинелью имелась только под верхнею ее частью, то есть в рукавах, на спине и на груди; подкладка эта была из белого холста; г) фуражка обыкновенная с козырьком и бархатным околышем и тремя светло-зелеными кантами; д) сапоги давались на срок 4 месяцев, были из выростковой кожи, почти солдатские. Калош носить не полагалось, да и своих, кажется, иметь не позволялось.
Выше я в подробностях описал пищевое содержание воспитанников. Теперь же добавлю, что на все это пищевое довольствие, то есть на сбитень, обед и ужин отпускалось на каждого воспитанника то 14 коп. серебром в день. Такая мизерная трата на содержание теперь немыслима. Но тогда, при довольно сносном и даже порядочном довольствии воспитанников, оставалась еще экономия. Впрочем, как говорится, гуртом дешевле. При 150 воспитанниках в день расходовалось 21 рубль и в год 7665 рублей серебром; это для того времени была уже значительная сумма.
Я поступил в самый низший – VI класс училища, хотя по экзамену мог бы прямо поступить в V класс. Но я не возбуждал об этом никакого особого ходатайства, потому что и тогда было уже известно, что курс VI класса продолжится не более полугода, т. е. с января 1843 года по июнь того же 1843 года. Так как в момент открытия строительного училища поступило много новых воспитанников и по новым правилам в возрасте от 13 лет, то в нашем VI классе воспитанники были очень разнообразны по летам. В большинстве были юноши 17–18 лет, а попадались из вновь поступивших чистые дети, лет 13 и 14. Но, конечно, все вновь поступившие дети с первого же года и отстали от нас, оставшись в VI классе на 2 и более лет, пока удостоились перевода в V класс. В конце концов, я не жалел и тогда и после, что поступил в VI, а не V класс.
Предметы, преподававшиеся в VI классе, были следующие: математика, то есть арифметика вся, алгебра до уравнений 2 степени и из геометрии вся лонгиметрия; языки: русский, французский и немецкий; география, всеобщая и русская история, закон Божий, рисование, которое считалось у нас одним из главных предметов, и каллиграфия.
Курс учения в VI классе закончился в мае месяце, а в июне настали переводные экзамены. Результат этих экзаменов для меня был тот, что я перешел в V класс первым воспитанником.
После экзаменов наступили каникулы, которые продолжались до августа месяца. Во время каникул я постоянно жил в училище, а к брату изредка ходил только по утрам на несколько часов. Большею же частью проводил в гулянии по островам и другим загородным гуляньям Петербурга.
Прежде чем приступлю к описанию своего пребывания в V классе, расскажу про один эпизод, очень грустный по своим последствиям, случившийся в сентябре месяце 1843 года в институте путей сообщения. В соответствии же к нему расскажу и про эпизод, случившийся у нас в училище, почти в то же время и почти тождественный с институтским, но далеко разнившийся по последствиям. Из этого будет рельефнее видно, что значит иметь доброе и снисходительное ближайшее начальство, которым имели счастие пользоваться мы, как говорил я уже ранее.
Институтский эпизод имел место в III, то есть последнем, кадетском курсе или классе, после которого был переход в офицерские классы. Воспитанники этого класса, как последнего кадетского, пользовались некоторыми привилегиями, во главе которых была та, что ротные офицеры не вмешивались в дела класса и не появлялись у них. Но раз случилось, что в этом классе произошел какой-то страшный шум. Ротный офицер соседнего IV кадетского класса капитан Львович-Кострица имел бестактность вмешаться в эту пустую историю и, войдя в III класс, пытался своими распоряжениями прекратить возникший шум. Возмущенные небывалым вмешательством воспитанники III класса освистали Львовича-Кострицу, и даже некоторые выкрикивали, что выбросят его из окна. Взбешенный Львович-Кострица доложил об этом начальству. Директором института тогда был ученый инженер – генерал-лейтенант Готман, а помощником его – генерал-майор Лермонтов. Первый, не придавая большого значения собственно юношескому проступку, велел арестовать весь класс; но генерал Лермонтов, желая выставиться и выслужиться перед Клейнмихелем, надеясь втайне сделаться директором института, нашел случай довести об этом поступке до сведения Клейнмихеля. Между тем III класс товарищества не сохранил и заставил главных зачинщиков признаться и тем освободить от ответственности остальных воспитанников. Так всех главных зачинщиков явилось пятеро: Гросман, Македонский, Быковский, Пяткин и Крашевский. Клейнмихель взглянул на этот поступок не так, как добрый генерал Готман, а придал ему значение чуть не бунта, и по докладу в преувеличенном виде о сем государю последовало решение: сменить директора, уволить от службы генерала Лермонтова (который ошибся в своих гнусных расчетах), а пятерых виновных наказать следующим образом: 1) исключить всех пятерых из института; 2) разжаловать всех пятерых на шесть лет в солдаты, без выслуги в продолжение этого срока, и послать на Кавказ, и 3) троих первых, то есть Гросмана, Македонского и Быковского, наказать розгами, дав каждому по 250 ударов.








