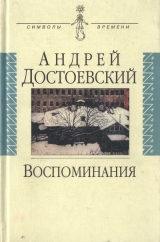
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Достоевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Путешествие прошло весьма благополучно, и на другой день утром мы были на вокзале железной дороги в Петербурге. Сейчас же запаслись извозчиком и поехали отыскивать себе пристанище. Тогда это было не так трудно, как теперь. Нам еще в Москве советовали одни меблированные комнаты, содержимые близ Казанского собора, куда мы и направились и там приютились, наняв номер из двух комнат за сравнительно очень недорогую цену, т. е. за полтора рубля в день с самоварами. Устроившись кое-как в этом номере, я один поехал к своим родным. Сперва, конечно, разыскал помещение редакции журнала «Эпоха», где жило семейство покойного брата Михаила Михайловича, думая там застать и брата Федора. Но оказалось, что брата Федора не застал, он занимал комнату вблизи редакции и, как я справился, не был дома. Вдова брата, т. е. моя невестка Эмилия Федоровна, приняла меня очень радушно и очень обрадовалась, узнав, что я приехал с семейством. Она пригласила нас в тот же день на вечер, уверяя, что и брат Федор Михайлович тогда будет у них. От невестки я поехал на Петербургскую сторону к Голеновским, которые тоже очень удивились и обрадовались моему приезду. К ним я обещал явиться с женою и детьми на следующий день. Тут же у Голеновских я увиделся и с братом Николаем Михайловичем. Он уже не состоял на службе и занимал квартиру в одном из флигельков сестрина дома. Увидев его, я был очень огорчен его положением. Молодой еще человек и так вдруг опустившийся! Руки у него тряслись. Все движения и походка были как у расслабленного! Бедный брат, вот что значит невоздержание! Но я нашел в нем того же добряка, как и прежде!
Воротившись домой в номер и сообщив о своих встречах, мы, дождавшись вечера, – кажется, часов около 7, поехали на двух извозчиках к Эмилии Федоровне. Тут я представил свою жену и семейство, а затем вскоре, услышав о нашем приезде, явился из кабинета редакции и брат. И я свиделся с ним более чем через 15 ½ лет после нашей последней встречи в Белой зале III Отделения! Конечно, встреча была очень трогательная и радушная. Затем брат, посидев с нами недолго, отправился опять в кабинет, где довольно долго занимался, а в более позднее время опять явился в гостиную, и мы провели вечер очень приятно.
На другой день было 31 декабря. Мы были у Голеновских и утром, были и вечером, где встречали Новый год все наши родные, т. е. семейство брата Михаила и брат Федор, мы и брат Николай Михайлович. Покойная сестра Александра Михайловна отнеслась очень радушно и родственно к Домнике и двум нашим деткам. В промежутке между вечерним и утренним посещениями Петербургской стороны мы много ездили по городу и, между прочим, запаслись билетами на два спектакля в театре: на 1 генваря мы взяли 4 билета в Мариинский (т. е. тогда Драматический театр), а на 2 генваря мы взяли билет на ложу (8 руб.) в Большой театр на итальянскую оперу. Тогда приобретение билетов было более доступно, чем теперь.
Встреча Нового года была очень оживленна. Брат Федор был в отличнейшем расположении духа, равно как и все присутствующие, и мы возвратились домой далеко за полночь, как и подобало при встрече Нового года. Для меня же, собственно, первая половина наступившего нового 1865 года была очень тревожна, как увидим впоследствии.
Первого и второго генваря мы были в театре; первого в Мариинском театре только вчетвером, а второго в Большом театре, в ложе, куда пригласили и сестру Александру Михайловну с мужем. Невестка и семейство ее, как носившие еще траур, в театре быть не захотели. Кстати, здесь расскажу о членах семейства Михаила Михайловича{116}.
1) Дочь Мария Михайловна была в это время уже взрослой девицей, невестой. За ней очень ухаживал поэт Полонский и даже делал ей предложение, но получил отказ. Она, кажется, и тогда уже была более заинтересована будущим своим мужем М. И. Владиславлевым. По поводу сватовства Полонского помню еще одно qui pro quo, случившееся между Эмилией Федоровной и моей женой. Эмилия Федоровна, плохо владея русскою речью, высказала Домнике по секрету, показывая на Полонского, что этот господин делал недавно ей предложение.
– Ну что же, как же вы порешили? – спросила ошеломленная этим известием Домника.
– Да не знаю… я бы ничего, да Машенька что-то не совсем склонна к этому браку!
Тут только Домника увидела свою ошибку, и они обе долго потом смеялись вышедшему между ними недоразумению.
2) Сын Федор. Он был уже взрослый молодой человек, пианист по профессии, и очень хороший пианист.
3) Сын Михаил, тогда юноша лет 16, нигде хорошо не учившийся.
4) Дочь Катенька, лет 11–12, почти ровесница с Женечкой, и они обе при всяком свидании проводили вместе время, как кузины и товарищи-однолетки (смотри на странице 249 этих воспоминаний).
В этот свой приезд в Петербург я, по просьбам и настояниям Домники, хотел явиться и по начальству, а потому 4 генваря 1865 г., взяв в Гостином дворе напрокат шпагу и шляпу, отправился в штаб путей сообщения. На вопрос мой, можно ли мне представиться министру, мне сообщили, что ежели я имею какую-либо просьбу, то, конечно, могу, ежели же никакой просьбы не имею, то представляться не следует. Так я и воротился домой, не солоно хлебавши и только потратив 1 ½ руб. за прокат шпаги и треугольной шляпы. Конечно, ежели бы я мог предугадать ту каверзу, которую готовит мне, как потайная собака, губернатор Кригер, то я изыскал бы какие-либо средства к ходатайству об оставлении меня в Екатеринославе и при преобразовании строительных комиссий в строительные отделения, – но я ничего не знал и не предполагал, следовательно, и хлопотать мне было не о чем.
5-го числа во вторник мы посвятили день осмотру Эрмитажа, где долго пробыли, любуясь картинами и прочими редкостями; а в среду, в день Богоявления, мы делали прощальные визиты всем родным и обедали у Голеновских. Позабыл отметить также то, что 4-го или 5-го мы были на довольно парадном вечере, который редакция «Эпохи» давала всем своим сотрудникам. Конечно, на вечер этот приглашены были и мы; тут я встретился и познакомился, между прочим, со Страховым, Полонским и некоторыми другими, которых не припомню. На вечере было человек до 20, и вечер прошел очень оживленно. Ужин был великолепный.
Брат Федор Михайлович, бывший у меня и ранее в номерах, отдавая мне как бы визит, 6-го, когда я был у него с прощальным визитом, обещался приехать ко мне вечером, чтобы окончательно проститься со мною и женою, так как мы предположили выехать из Петербурга 7-го января. На этот вечер я запасся бутылкою шампанского, пирожными и фруктами. Кстати упомяну, что шампанское тогда было гораздо дешевле; в самом лучшем винном магазине я купил 1 бутылку Редерера за три рубля серебром. Часу в 8-м вечера действительно приехал брат. Немного спустя после обычного чая, который за разговорами продлился долго, я велел подать шампанского, и мы за бутылкою просидели до 1-го часа ночи. Брат был очень любезен и разговорчив. Между прочим, он сообщил, как произошло запрещение журнала «Время». Вот рассказ этот, который сохранился совершенно ясно в моей памяти.
«В апрельской книжке журнала „Время“ за 1863 год помещена была статья Страхова „Роковой вопрос“. Статья более патриотическая, чем вольнодумная. Журналы тогда еще не выходили без предварительной цензуры, а все подвергались цензуре, да еще какой!!. И, несмотря на это, существовавшая строгая цензура того времени пропустила к печатанию как эту статью, так и всю апрельскую книжку. Кажется затем, какая могла быть причина к обвинению и преследованию редактора? Уже ровно никакой, а между тем преследование, и жестокое преследование, совершилось через запрещение журнала, и запрещение не на время, а навсегда!
В Москве статью эту поняли не так, а приняли ее за вольнодумную, будирующую, да пресса, во главе с „Московскими Ведомостями“, нашла несвоевременною, ввиду неокончившегося еще польского восстания. Все это побудило Москву кричать о полонофильствующем направлении журнала „Время“. В это время московский генерал-губернатор, кажется, Офросимов вел довольно частую переписку с государем императором. В одном из своих всеподданнейших писем, он, между прочим, прибавил: „Москва возбуждена статьею „Роковой вопрос“, помещенною в петербургском журнале „Время““. – Валуев{117}, ничего не подозревая, в один из дней своего доклада государю, едет в Царское Село и на дебаркадере Царскосельской железной дороги встречается с каким-то тузом-москвичом. Встретившись, они разговорились, и москвич сообщил Валуеву, что Москва возбуждена статьею „Роковой вопрос“. Валуев же ответил, что все это вздор, что статья очень благонамеренная и пропущена цензурой и что Москва вечно из мухи слона делает, лишь бы о чем-нибудь покричать. На этом они расстались, и Валуев отправился к государю. При окончании доклада государь вдруг сказал Валуеву: „Что это у тебя за „Роковой вопрос“ появился, Москва возмущена им!“ – „Журнал „Время“ запрещен, ваше императорское величество“, – поспешил ответить опешивший Валуев, удивленный, что и до государя дошел этот „вопрос“. И вот, возвратившись в Петербург, Валуев делает распоряжение о закрытии задним числом журнала „Время“. Он поступил как настоящий Виляев, как у нас теперь называют Валуева», – добавил при этом брат Федор Михайлович.
Мы распростились с братом на долгое время. Мне пришлось с ним вновь свидеться уже в сентябре месяце 1872 года, когда я по своим делам был в Петербурге и когда брат был снова уже женат. При расставании с братом я передал ему 16 рублей на высылку журнала «Эпоха» в 1865 году ко мне в Екатеринослав, но получил только две первые книжки, а затем журнал этот прекратил свое существование.
На другой день, т. е. 7 января, мы с утренним пассажирским поездом выехали из Петербурга, а утром 8-го благополучно возвратились в Москву, прямо к тетушке Александре Федоровне, где и пробыли до 12 января, а в этот день выехали обратно к себе домой.
Не буду останавливаться на подробностях этого обратного своего пути, скажу только одно, что мы, опасаясь сперва снежных сугробов и заносов, бедствовали и в обратном пути не от обилия снегов, но, напротив, от недостатка его. И в обратный путь мы ехали преимущественно по обочинам шоссе, но все-таки, хотя снегу было и немного, но путь был значительно лучше. Ночлеги наши были почти в тех же местах, где и в предшествующий путь.
Последний, 9-й, ночлег мы имели уже на станции Подгородной, только в 15 верстах от Екатеринослава, которые мы и сделали с небольшим в час, выехав из Подгородной с рассветом. Еще в Подгородной мы узнали, что вследствие теплой погоды лед на Днепре сделался ненадежным, что экипажи, а особенности грузные, переправляют людьми, отпрягая лошадей и проводя их отдельно. А потому, подъехав к реке Днепру, мы распорядились нанять рабочих переправить карету, а самих нас перевезли на салазках тоже рабочие. Переехав Днепр, мы вскоре дождались и своего экипажа. Сейчас же расплатившись с рабочими, запрягли лошадей и с нетерпением поехали домой, куда и прибыли часу в 11-м утра в четверг 21 января.
К вечеру же в этот день я узнал, что губернатор представил в министерство об устранении меня от должности губернского архитектора и к зачислению в заштатное состояние. Я не хотел было этому верить, но скоро все разъяснилось: передача строительной части из министерства путей сообщения в министерство внутренних дел была произведена как-то вдруг, без всякого подготовления в министерстве внутренних дел к принятию в свое ведение этой значительной отрасли управления. При таковых обстоятельствах министр внутренних дел предложил губернаторам избрать, по своему усмотрению, из техников строительной комиссии четырех техников для строительных отделений губернских правлений и представить в министерство на утверждение; всех же остальных, как излишних, представить в то же министерство в заштат. Губернатор Кригер, единственный, как узнал я впоследствии, решился представить на утверждение вместо существующего губернского архитектора – нового, из младших техников, а существующего, т. е. меня, зачислить в заштат. Дело это было решено окончательно, и все мои протесты и хлопоты не привели ни к чему.
Размышляя о том, что предпринять, мы решили переселяться в Петербург. Мой расчет был тот, что ежели я хоть год-два проживу без заработка, то, вероятно, на третий год заработок явится.
И вот опять наступила пора распродажи всего имущества. Наконец, наступил и день 30 мая, – день, который мы предназначили для своего выезда из Екатеринослава. Это было в воскресенье. В квартире нашей был ералаш страшнейший, вся мебель и вся обстановка, кроме нужной для ночлега в последний день, была уже вынесена, и комнаты представляли вид чисто пустынный. Ежели прибавить к этому, что домохозяева Рябинины просили, ввиду какой-то приметы, не выметать сору из комнат в последние дни нашего у них пребывания – то можно будет представить себе весь беспорядок, существовавший в квартире. С самого утра все были на ногах, все суетились, и все думали, что что-то делают, а, в сущности, дела никакого не делали.
К полудню прибыли многие из наших знакомых, чтобы проводить нас. Лошади, шестериком в карету и, кроме того, пара в перекладной, были уже запряжены и стояли около крыльца. Мы уселись в карету и двинулись в путь.
Не скажу, чтобы я испытывал какую-либо жалость, покидая Екатеринослав. Я выезжал из него после пятилетнего в нем довольно счастливого пребывания совершенно хладнокровно. Не могу подыскать причины этому.
КВАРТИРА ДЕВЯТАЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ, ВРЕМЕННОЕ В НЕМ ПРЕБЫВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ЯРОСЛАВЛЬ И ЖИЗНЬ В НЕМ (С 30 МАЯ 1865 ПО АПРЕЛЬ 1871 Г.).
Время в Москве мы проводили очень однообразно. Всякий день я ходил справляться, не пришли ли сундуки, и всякий день получал ответ, что еще не приходили. Карету мне удалось продать. Долго ходили ко мне кузнецы-старьевщики, но давали цену неподходящую. Наконец, в один день они надавали мне 40 рублей, и я, стукнув, как говорится, по рукам, продал свою карету, семь лет служившую мне верою и правдою. Жалко мне было продавать ее, но нечего было делать! Итак, на ней я имел убытку только 10 рублей (купил ее за 50 руб.), за которые пользовался семь лет. Когда Домнике не хотелось ходить по городу, я отправлялся с детьми в дальние прогулки. Так, один раз в воскресенье, 11 июля, мы ходили в церковь Московской Марьинской больницы. Там я нашел все без перемен и вспоминал о своем младенчестве и детстве. Из церкви Марьинской больницы мы прошли на Лазарево кладбище, и я, отыскав могилу матери, поклонился праху ее{118}. Из кладбища мы прошли в Марьину рощу, где немного отдохнули и погуляли, и затем вернулись домой.
* * *
В один из дней мы всем семейством ездили к сестре Верочке на дачу в Люблино. В Петербург мы прибыли в четверг 15 июля. Время, в которое мы приехали в Петербург, было совершенно глухое, все были на дачах, и город был полон одними мастеровыми, повсеместно почти производившими различные ремонтные по домам работы. – На первых же порах я узнал, что брата Федора Михайловича в Петербурге нет; он уехал за границу. Семейство покойного брата Михаила Михайловича жило на даче в Павловске. В городе же находились только Голеновские.
Скоро мы переселились на свою квартирку около вокзала, в Орловском переулке.
4 августа, в среду, я надумал, наконец, поехать к генералу Марченко. Цель моя была та, чтобы заручиться его рекомендациею для поступления хотя сверхштатным техником в С-петербургскую управу, потому что все таковые техники, как узнал я, имеют много частных работ. Что же касается до просьбы о предоставлении мне казенного места где-нибудь в губернии, то у меня в то время не было об этом помышления.
Облекшись во фрак (хотя я мог, как заштатный, пользоваться прежним мундиром путей сообщения), я отправился на квартиру генерала Марченко. Его встретил на лестнице выходящим из своей квартиры, чтобы ехать в техническо-строительный комитет.
– Вы ко мне?.. Что вам угодно?..
– Честь имею представиться вашему превосходительству – Достоевский.
– Ах, Господи, да кто же вас узнает!.. Пойдемте ко мне, – и он позвонил в дверь своей квартиры.
– Ну что у вас делается в Екатеринославе? Ведь вы, кажется, в Екатеринославе?
– Что делалось месяца три-четыре назад, то я знал, что же делается теперь, то я совершенно не знаю, потому что я оставлен за штатом. – И тут я рассказал всю свою историю.
– Да, много было казусов в это переходное время, но такого курьезного я еще не слыхивал. Ну что же вы теперь думаете делать?..
Тут я объяснил ему свои намерения, но он не дозволил мне и кончить свой рассказ, прервав словами:
– Пустяки, пустяки, пустяки! Частная практика от вас еще не уйдет. Вам надо служить в казенной службе!.. Да кому же и служить, как не вам?.. Как раз у меня есть три вакансии губернских архитекторов в очень хороших городах: 1-я – в Ярославле, 2-я – в Самаре и 3-я – в Саратове; проситесь на любую, и она будет ваша!
Выслушав это неожиданное для себя предложение, я ответил генералу Марченко, что мне об этом надобно посоветоваться с женою, а потому и просил время для этого предложения. Конечно, при этом я поблагодарил генерала за его ко мне доброе расположение.
– Думать здесь долго нечего. Вот я еду в технический комитет и пробуду там до 6-ти вечера. Теперь только час; поезжайте к супруге, посоветуйтесь и, решив, напишите на мое имя прошение, которое и привезите нынче же ко мне в комитет. До свиданья!
Ошеломленный таким внезапным поворотом дела, я поехал к себе и объявил обо всем жене. Тут как она, так и я, во-первых, решили вопрос, принимать ли коронную службу или нет. Решили этот вопрос утвердительно, что принять нужно на том основании, что частные занятия как еще пойдут – неизвестно, а тут все-таки служба и верное обеспечение в 1400 руб. в год. Порешив с этим вопросом, нам не трудно было решить второй, т. е. куда проситься. Самара и Саратов, хотя и хорошие города, в особенности последний, но очень далеки от столиц. Ярославль же был самым близким от столиц и в нем были не только гимназии, как мужская, так и женская, но даже и лицей. Все это подкупало нас, и мы остановились на Ярославле. Порешив и с этим вопросом, я сейчас же написал прошение на имя Марченко и в тот же день повез его к нему.
– Ну что, куда надумали? – встретил он меня вопросом. Вместо ответа я подал ему прошение.
– Ну я так и думал, что вы остановитесь на Ярославле, – сказал он, помечая мое прошение.
– Вот видите ли, Достоевский, сегодня вы ко мне явились, сегодня 4 августа вы подали прошение и сегодня же 4 августа вы определены на службу в Ярославль, – и сделал пометку: «Определить губернским архитектором в Ярославль».
* * *
Мы прибыли в Ярославль 26 августа 1863 года. Первое впечатление по осмотру города было не совсем благоприятно. Все губернские города, в которых я живал и которые проезжал, имеют всегда одну показную улицу (большею частью под названием «Большой» или «Петербургской», или «Дворянской» улиц), в которой сосредоточены лучшие строения и которая составляет гордость города. В Ярославле же я такой улицы не нашел! Все улицы были порядочно обстроены, но зато и лачуг, которые сплошь и рядом в изобилии встречаются в других городах, я в Ярославле не встретил, а потому и большого эффекта поверхностный обзор города на вновь приезжего и не производил. Но взамен показной улицы здесь почти на каждом шагу встречались грандиозные постройки церквей, таких церквей, которые невольно заставляют засматриваться на них! Все это, взятое вместе, делает город Ярославль как бы исключением из всех других губернских городов, и ежели не по первому обзору, то в очень скором времени этот город производит впечатление очень хорошего, красивого и притом древнего города. Ко всему этому надобно прибавить, что даже по первому впечатлению город кажется отменно чистым и содержимым в полной исправности. Это тоже не малое достоинство.
Ярославский губернатор, свиты его величества контр-адмирал Иван Семенович Унковский{119}, только что начал тогда свое губернаторское поприще. Покинув корабль капитаном I ранга[40]40
Унковский фигурирует как действующее лицо в романе Гончарова «Фрегат Паллада».
[Закрыть], он был сделан флигель-адъютантом и был послан в одну из губерний для прекращения беспорядков, возникших вследствие освобождения крестьян, и затем в 1861 году был произведен в контр-адмиралы, был назначен губернатором в Ярославскую губернию. Конечно, на первых порах он не мог быть хорошим администратором (да и впоследствии таковым не оказался), но он был человек далеко не глупый, а даже умный, и умел окружить себя умными и благонамеренными руководителями, советами которых в большинстве случаев и пользовался. К этим его качествам можно прибавить еще то, что он был настойчив и сильно упрям в раз принятых решениях, а потому и мне долгое и долгое время приходилось претерпевать его нерасположение, вовсе мною не заслуженное!
Нашим другом семейства оказался Леонид Николаевич Трефолев, делопроизводитель строительного отделения{120}. Во время нашего водворения в Ярославль он был еще молодым человеком, лет 24–25 не более. Он был родом ярославец, сын чиновника, служащего в Любимском уезде. Вероятно, вследствие крайней недостаточности средств у родителей он окончил курс только в Ярославской гимназии и не пошел в университет, а прямо поступил на службу. В столь юных летах он был уже лет пять как женат. Умный, добрый, с проявлениями ко всему хорошему и со стремлениями не только жить честно, но и быть полезным ближним окружающим, – вот мечты и пожелания Леонида Николаевича Трефолева. Почти с первого свидания мы сошлись, и Леонид Николаевич был принят в нашем доме как родной. Он бывал у нас очень часто, чуть ли не ежедневно, и полюбил наших деток. Бывало, в летнее время он часто совершал прогулки за город с моим Сашей, и мы доверялись в этом совершенно Трефолеву. Хотя в одну из таковых прогулок Саша чуть не утонул. Дело в том, что они вздумали однажды купаться с плотов, а Саша, не умевший еще тогда хорошо плавать, попав в глубокое место, не мог справиться и начал тонуть. Промедление одною минутою стоило бы жизни нашему мальчику, но Трефолев вовремя подоспел, вытащил тонувшего и насилу привел его в сознание. Конечно, об этом случае мы узнали далеко после.
В заключение добавлю, что Леонид Николаевич Трефолев не только поэт в душе, но и поэт на самом деле: его томик стихотворений, изданный в 1894 году, преисполнен очень симпатичными и иногда щемящими душу произведениями. Его стихотворение, сказанное над гробом моей незабвенной жены, я помещу своевременно в своем месте. Здесь же, в заключение, помещу стихотворение, написанное им по поводу исполнявшегося 50-летия со дня появления в свет «Бедных людей» Ф. М. Достоевского. Но прежде изложу маленькую историю этого стихотворения. В начале нынешнего 1896 года в Ярославском артистическом кружке предположено было устроить вечер чествования памяти Ф. М. Достоевского по поводу исполнявшегося 50-летия со дня появления произведения его «Бедные люди» в свет. В программу этого чествования, между прочим, входило и прочтение стихотворения «Бедные люди» Трефолева, написанного им именно к этому случаю. Долго длилась процедура разрешения этого чествования; наконец разрешение пришло, и вечер назначен был на 15 марта, в пятницу; устроители вечера не разобрались в подробностях разрешения, и оказалось, что чтение стихотворения Л. Н. Трефолева «Бедные люди» было разрешено, но сам Леонид Николаевич не был утвержден как лектор. Узнав об этом и крайне разобидившись, он отобрал свое стихотворение и не позволил его прочесть постороннему лицу. При этом в городе прошли слухи, что недозволение это нужно мотивировать тем обстоятельством, что будто Трефолев находится под негласным присмотром полиции, а потому и сочтено неудобным допустить его публично как лектора. Так стихотворение и осталось непрочитанным, и так как оно нигде не напечатано и едва ли будет когда-либо напечатано, то я и привожу его здесь целиком:
БЕДНЫЕ ЛЮДИ
«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат, „ведь это тоже люди, ваши братья!“».
Соч. Белинского, т. X, стр. 345.
Бедность проклятую видят все смолоду:
Словно старуха, шатаясь от голоду,
В рубище ходит она под окошками,
Жадно питается скудными крошками;
В тусклых глазах видно горе жестокое,
Горе, как море, бездонно-глубокое,
Горе, которому нет и конца.
Эта старуха мрачней мертвеца
Не за себя возглашу ей проклятия:
О человеке жалею я, братия!..
Ты надругалась руками костлявыми
Над благородными, честными, правыми.
Сколько тобою милльонов задавлено.
Сколько крестов на могилах поставлено!..
Ты же сама не умрешь никогда;
Ты вековечна, старуха-Нужда!
«Бедные люди» – создание гения —
Живы и вы!.. Вот уж два поколения
(Ровно полвека) пред вами склоняются…
«Бедные люди» живыми являются.
Шествуют тихо толпою убогою
Прежней печальной, тернистой дорогою, —
Как при Белинском страдали они,
Так и теперь – в современные дни!
Девушкин бедный, чиновничек старенький,
Верно, что жив ты; по-прежнему с Варенькой,
С «маточкой» письмами часто меняешься;
Верно, что ты пред начальством склоняешься. —
Это начальство – бездушное, важное,
Ценит ли сердце твое непродажное?..
Сердце – живой и святой чародей —
Бьется в груди и у бедных людей.
Сердце!.. Ты платишь проценты жидовские
Жизни суровой: Горшковы, Покровские,
Варенька, «маточка», страшною платою
Вы расквиталися с жизнью проклятою!
Но не убила она – бессердечная —
Душу живую: Любовь вековечная
Вас подкрепила! И слава тому,
Кто осветил вас в кромешную тьму!
(Обращаясь к портрету Ф. М. Достоевского)
Слава тебе за бессмертный твой труд,
В нем ты открыл «человека», —
«Бедные люди» твои не умрут!
Слава отныне до века!..
Л. Трефолев.
Этим стихотвореньем теперь я и закончу свое повествование о Л. Н. Трефолеве.
* * *
Среди наших знакомых был и Владимир Иванович Веселовский, он занимал тогда место товарища председателя уголовного суда в чине коллежского асессора, был человек еще молодой, лет 35 или даже менее; бывший студент Московского университета, слушатель и почитатель Грановского, он представлял собою самого передового человека по тогдашнему времени. Милый собеседник, красно и дельно говорящий (хотя иногда и парадоксами), он невольно подкупал к расположению всякого вновь с ним познакомившегося. Этим же самым и мы были прельщены и укрепили наше знакомство еще крепче и теснее. С открытием новых судебных учреждений Веселовский был переведен в г. Пензу, а затем и членом окружного суда в Москву. Казалось бы, что наше знакомство должно было этим закончиться; но судьба судила иначе! В январе месяце 1868 г. умер мой зять Александр Павлович Иванов, заведовавший делами выживающей из ума тетушки Александры Федоровны Куманиной. Я тогда случайно был в Москве, и ко мне приступили все родные с бабушкою Ольгою Яковлевною во главе, чтобы войти в положение больной и престарелой тетки.
Я согласился хлопотать о признании тетушки лишенною ума и о назначении над ней опеки. Все родные опять-таки обратились ко мне с просьбою принять на себя звание опекун. Я отговаривался тем, что, как отсутствующий и не живущий постоянно в Москве, не могу принять на себя этого звания. Тогда меня упросили взять себе товарища, живущего в Москве, но только чтобы я был непременно опекуном. Я вспомнил тогда про Веселовского, объяснил ему все дело, и он согласился быть моим соопекуном, и мы оба назначены были в том же 1868 году опекунами над личностью и имуществом А. Ф. Куманиной.
Это обстоятельство нас сблизило очень, и я вплоть до окончания опеки, т. е. до смерти тетушки, был в постоянных сношениях с Веселовским. Впоследствии же, после смерти тетушки и по окончании опеки, он по просьбе моей был моим поверенным и руководителем по причитающемуся мне наследству. Обо всем этом будет подробно рассказано в своем месте и в свое время. Теперь же я упомянул вскользь об этом для того, чтобы выяснить причину моего дальнейшего знакомства с Веселовским.
Впоследствии Веселовский вышел в отставку из членов московского окружного суда и занялся в Москве адвокатурой. Сперва дела по адвокатуре пошли у него блестяще, но затем он начал манкировать работою и, кажется, вел дела не всегда честно, и дела его сильно пошатнулись. К тому же он начал сильно покучивать и, кажется, сделался деспотом в семействе. Жена его Александра Александровна этого не вытерпела и в одну из поездок мужа в провинцию по адвокатским делам, забрав все деньги (т. е. только свое приданое) или денежные документы, выехала от него с детьми, оставив записку, что более к нему не вернется.
Это окончательно свихнуло с панталыку Веселовского, и он начал пить. Впоследствии он поступил на службу товарищем-прокурора в одну из польских губерний, и я вовсе и окончательно потерял его из виду.
* * *
В ноябре месяце 1865 г. я, как губернский архитектор, был экстренно вызван в Петербург для участия в заседаниях по устройству зданий для новых судебных установлений, вводимых в 10 губерниях. Эта неожиданная командировка очень меня порадовала, так как губернатор все время относился ко мне недружелюбно, а командировка пришла помимо его воли, прямо из министерства. Я быстро собрался и 24 ноября был в Петербурге. Заседания происходили под председательством Марченко и длились до 2 декабря, когда нам было назначено представление министру Валуеву. Это был высокий, костлявый и сухой мужчина, лет 50–55, с чиновничьими петербургскими бакенбардами. Он произнес подобающую случаю речь, поклонился и пожелал доброго пути.
* * *
В Петербурге я виделся несколько раз с братом Фед. Мих. Он, между прочим, был у меня на вечеринке, которую я устроил у себя 30 ноября по случаю своих имении. Он был весьма оживлен, я редко видал его таким. Оказалось, что он, как и всегда, очень нуждался в деньгах.
По делам устройства помещений для новых судов мне несколько раз приходилось ездить в Москву для наблюдения за различными заказами. В одну из таких поездок, в июле 1866 г, я взял с собою старшую дочь Женечку и оставлял ее на несколько дней погостить в Люблине на даче у Ивановых. Там в это время жил и брат Федор Михайлович, который нанимал вблизи от Ивановых отдельную дачку. Он также принимал меня отлично, а мою дорогую Женечку просто на руках носил{121}.
* * *
В августе 1866 г. в Ярославле ожидался приезд наследника Александра Александровича. К приезду его устроили триумфальную арку. Постройка велась от города и строительного отделения не касалась. Раз как-то подрядчик, производивший работы, подбегает ко мне, когда я случайно проходил мимо ворот, и просит меня осмотреть постройку, так как он не уверен в ее прочности. Хотя это было и не мое дело, но я осмотрел сооружение и убедился, что, действительно, оно непрочно. Я рассказал об этом случае в строительном отделении и у вице-губернатора. Решили, чтобы я подал губернатору рапорт о виденном мною. Я рапорт подал от себя, не сообразив того, что лучше бы его подать от всего состава отделения. Губернатор положил резолюцию: «осмотреть всем составом технич. строит, комитета». Когда мы осмотрели и явились к губернатору с докладом, то у губернатора было какое-то заседание, но, впрочем, он сейчас же вышел к нам.








