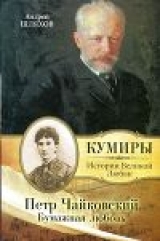
Текст книги "Петр Чайковский. Бумажная любовь"
Автор книги: Андрей Шляхов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ «ВЕНЕЦИЯ»
– По весу это больше похоже на бандероль, нежели на письмо, – сказал Петр Ильич брату, обнаружив на подносе с почтой очередное письмо от Антонины Ивановны.
Письмо было на целых шестнадцать страниц. Читать его не хотелось. Он пробежал глазами первые строки, заглянул в конец и понял, что ничего нового Антонина Ивановна не написала. Обычный ее бред, перемежаемый намеками на то, что назначенного им сторублевого содержания ей недостаточно. Как же ему надоели эти упреки, оправдания, самоуничижения, признания в любви и все такое прочее.
– Работала, голубушка, за сорок пять рублей в месяц, – вслух сказал он, – а теперь тебе ста рублей мало? Да еще и без трудов? Нет уж, вначале дай развод.
– Она тебе его никогда не даст! – Анатолий всегда говорил то, что думал.
– Почему?
– Весь смысл ее жизни в страдании. Показном, истеричном, вычурном! – Анатолий отпил кофе и продолжил: – Отними у нее эту возможность, и она зачахнет, утратит жизненную искру. Как же она может дать тебе развод? Не надейся, Петр.
Братья завтракали на террасе отеля, почти у самой воды. Ноябрь в Венеции все равно что август в России – тепло и солнечно.
– Попутал же бес! – Петр Ильич с досады даже пристукнул кулаком по столу.
Возле стола тут же возник официант.
– Благодарю, нам ничего не нужно, – отпустил официанта Анатолий. – Не сетуй на судьбу, Петр. Зато ты получил полезный опыт.
– Чем же он полезен? – ехидно осведомился Петр Ильич.
– Хотя бы тем, что ты больше не захочешь жениться.
– Я и не смогу это сделать – ты же только что сам сказал, что она никогда не даст мне развода.
– Ну и ладно. Зато тебе не нужно продолжать поиски невесты, свататься и так далее… Работай себе и в ус не дуй. Верно же говорят: «Снявши голову, по волосам не плачут». Кстати – как продвигается работа?
– Хорошо – закончил инструментовку первой картины второго действия «Онегина». Осталось немного – вписать голоса, расставить знаки…
После завтрака братья направились на осмотр очередных достопримечательностей. В лодке глазели по сторонам и продолжали беседу.
– Венеция – очаровательный город, – поделился мнением Петр Ильич.
– Да, красивый город, – согласился брат.
– Не в красоте дело, – возразил Петр Ильич. – Более всего мне нравится здешняя тишина, отсутствие городской кутерьмы.
– Особенно на площади Святого Марка в послеобеденное время, – подпустил шпильку Анатолий.
Действительно, площадь Святого Марка была многолюдной в любое время.
– Так то – площадь Святого Марка, Толя, – мягко заметил Чайковский. – А я имею в виду город в целом. Ты не представляешь, как приятно мне наше неспешное ежедневное брожение вдоль каналов. Согласись, что Венеция… умиротворяет. Именно – умиротворяет. И думается покойно.
– О чем ты сейчас думаешь? – сразу же забеспокоился Анатолий Ильич. – Разве ты забыл, что врачи запретили тебе…
– Но они не могут запретить мне жить и строить планы на будущее, не так ли. Я думаю о том, куда мне отправиться после твоего отъезда?
– И каковы варианты? – Анатолий облегченно вздохнул.
– Скорее всего, уеду обратно в Кларенс. Но прежде провожу тебя до Вены, тем более что через неделю туда прибудет Алексей.
Анатолий Ильич внимательно посмотрел на брата.
– Скажи-ка мне, Петя, только честно – я могу спокойно оставить тебя?
– Конечно, не волнуйся. Во-первых, со мной будет Алексей, а во-вторых – я чувствую себя превосходно!
– А сон?
– Что – сон? Сплю я прекрасно, кошмары и страхи остались в прошлом, ничто не мешает мне.
– А как у тебя со средствами?
– Благодаря баронессе средства есть! Езжай, Толя, спокойно. К тому же Модест писал, что отец его воспитанника намерен отправить их вдвоем в Европу. Если удастся, он составит мне компанию.
– Как ты думаешь – Модя и впрямь доволен своим положением?
– Да. Он так гордится успехами своего воспитанника. Тот уже начал читать по губам.
– Бедное дитя! Сколько ему – восемь?
– Кажется, восемь.
Лодка мягко ткнулась в причал. Флегматичный доселе гондольер вдруг пронзительно заверещал, завращал глазами, завертел головой, вымогая чаевые и, разумеется, получил их.
– Единственное, что меня бесит в Венеции, – продолжал Петр Ильич, ступая на землю, – так это продавцы вечерних газет. Если гуляешь по площади Святого Марка, то со всех сторон слышишь: «Иль темпо!», «Иль темпо!», «Виттория ди турчи!» [2]2
Победа турок!
[Закрыть]. И так каждый вечер! Скажи мне – почему местные продавцы газет не кричат о наших действительных победах, а стараются приманить покупателей вымышленными турецкими? Неужели и мирная, красивая Венеция, потерявшая некогда в борьбе с теми же турками свое могущество, несмотря на это дышит свойственной всем западным европейцам ненавистью к России?
– Не иначе, – пожал плечами Анатолий. – Но, справедливости ради, должен заметить тебе, что с точки зрения душевных качеств мне очень импонируют итальянцы. Согласись, что по добродушию, учтивости, готовности им нет равных.
– Ты прав, – согласился Петр Ильич. – Особо выигрышно они смотрятся на фоне швейцарцев. Угрюмых, неласковых, неподатливых на шутки… А сколь музыкальна Венеция! Здесь все пропитано музыкой! Знаешь, порой мне кажется, что не родись я в России, я бы появился на свет в Италии.
Перед отъездом из Венеции он напишет Надежде Филаретовне: «Я очень полюбил Венецию и решился попытаться прожить в ней еще приблизительно месяц после Вены. Понравится, останусь еще, а нет, так уеду куда-нибудь. Вы пишете, что лучше всего вернуться в Россию. Еще бы! Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России, и, только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все ее недостатки, родине».
Но в Москву возвращаться страшно – там ждет его злобная гарпия, на которой он имел глупость жениться…
Она постоянно угрожает ему скандалом и требует. Теперь уже – денег, но иногда забывается и вместе с деньгами хочет получить и его, «милого Петичку».
Дура! Гадкая вздорная дура!
В поезде он то и дело перечитывал одно из последних писем баронессы фон Мекк– «Милый друг мой, запаситесь твердостью и равнодушием ко всем нападкам и упрекам. Ведь Вы же знаете, что Вы тут ни при чем, что эти обвинения есть продукт все той же натуры, того же воспитания, о которые, как об стену, разбиваются справедливость, добросовестность и всякие чувства. Вы должны знать, что такие натуры во всем, что им досадно, первым долгом стараются кого-нибудь обвинить и в этом находят полное утешение и большое удовольствие. Так не отнимайте же его у Вашей жены. Сделайте, как я, мой милый друг: меня не один человек, а сотни людей критикуют, осуждают и обвиняют и лично и вообще, по своим взглядам. Я нисколько не смущаюсь и не волнуюсь этим, не стараюсь ни одним словом и ни одним шагом ни оправдываться, ни разуверять людей, во-первых, потому, что понятия бывают различны, а во-вторых, для того, чтобы не отнимать у людей удовольствия. И я нисколько не в претензии на людей, потому что, осуждая меня, они правы со своей точки зрения, а разница в том, что у нас точки отправления различные».
Нет, рядом с этой женщиной он мог бы быть счастлив! Определенно мог бы!
Надо сказать, что баронесса фон Мекк умела осчастливить и на расстоянии. Хотя бы тем, что не только выслала своему единственному другу в Кларан три тысячи, но и пообещала каждый месяц высылать половину этой суммы.
Баронесса добра, баронесса богата, баронесса щедра. Если попросить у нее десять тысяч – не откажет.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
«Онегин» писался легко. Разумеется, когда было вдохновение.
«Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является – непроницаемая тайна», – писал Петр Ильич Надежде Филаретовне.
Он увлеченно рисовал каракули на обрывках бумаги, если под рукой не было ничего подходящего.
Чайковскому хотелось излить душу в музыке, рассказать о любви посредством нот, выразить в своем творении все то, что не смогла или не захотела дать ему жизнь.
Времена менялись, уже заявил о себе Глинка с его «Иваном Сусаниным» и «Русланом и Людмилой», за ним потянулись последователи, но классической оперой все равно оставалась итальянская. Со всеми положенными атрибутами – от богатых, часто – чрезмерно богатых, декораций до непременных «сценических эффектов».
Петр Ильич «сценических эффектов» не любил. «Плевать мне на эффекты, – писал он в ответ на критику, – да и что такое эффекты! Если вы находите их, например, в какой-нибудь «Аиде», то я Вас уверяю, что ни за какие богатства в мире я не мог бы теперь написать оперу с подобным сюжетом, ибо мне нужны люди, а не куклы; я охотно примусь за всякую оперу, где, хотя и без сильных и неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испытывают ощущения, мною тоже испытанные и понимаемые».
Его в первую очередь интересовали сюжет и чувства. Он проникал в души своих героев и открывал слушателям самое сокровенное, заветное. Открывал мастерски – не препарируя героев, не изучая их, а живя их жизнью, чувствуя их чувствами, страдая их страданиями, радуясь их радостям.
Сюжеты для своих опер Чайковский выбирал тщательно, придирчиво.
Вот отрывок из письма Чайковского к Танееву, где он как раз касается выбора сюжета:
«Мне нужно, чтоб не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей – словом, всего того, что составляет атрибут grand - opera . Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое. Я не прочь также от фантастического элемента, ибо тут нечем стесняться, и простору фантазии нет границ. Аида так далека от меня, я так мало трогаюсь ее несчастною любовью к Радамесу, которого тоже не могу себе представить, – что моя музыка не будет прочувствована, как того требует всякая хорошая музыка».
«Онегин» выходил каким-то домашним, неторжественным. Чайковский допускал, что его опера может никогда не дождаться постановки, но разве это соображение могло послужить препятствием для творчества. Он писал оперу «Евгений Онегин», потому что не мог не писать ее. Писал с невыразимым наслаждением.
В конце августа 1877 года Чайковский писал Надежде Филаретовне: «Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно писать для толпы или для избранников; по-моему, нужно писать, повинуясь своему непосредственному влечению, нисколько не думая угодить той или другой части человечества. Я и писал „Онегина“, не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что „Онегин“ на театре не будет интересен. Поэтому те, для которых первое условие оперы – сценическое движение, не будут удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности, – обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой. Словом, она написана искренно, и на эту искренность я возлагаю все мои надежды.
Если я сделал ошибку, выбрав этот сюжет, т. е. если моя опера не войдет в репертуар, то это огорчит меня мало. Нынешнею зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, – тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину».
Когда Рубинштейну сказали, что Чайковский пишет оперу по мотивам пушкинского «Евгения Онегина», Николай Григорьевич пришел в восторг и сказал:
– Вот славно! Скорее всего, из этого сюжета у Петра Ильича не выйдет оперы, но сценки, сценки могут оказаться весьма милы!
Увы, Рубинштейн считал Чайковского неплохим музыкантом, может быть даже и талантливым, но никак не гениальным.
Опера на сюжет «Евгения Онегина»? Бред какой-то! Да, конечно, Глинка написал оперу «Руслан и Людмила», но это все же сказка! И какая богатая, красивая! А что из себя представляет «Онегин»? Так, затянутая светская сплетня, положенная на рифму!
Чайковский думает иначе. «Ты не поверишь, – пишет он Модесту Ильичу, – как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки».
Рискну добавить от себя – не просто заменят недостатки, а превратят их в достоинства!
До Чайковского русские композиторы дважды обращались к «Онегину» как в Москве, так и в Петербурге. Но оба раза инсценировалось не все произведение, а лишь избранные сцены из него – «Письмо Татьяны», «Ссора и дуэль», «Встреча». Чайковский первым использовал «Онегина» целиком.
Эскизы оперы были завершены к зиме 1877 года.
Если прежние свои оперы Чайковский отдавал для исполнения в Императорские театры Москвы и Петербурга, то «Онегина» он решил поставить в консерватории. В консерватории или нигде! Петр Ильич писал Николаю Григорьевичу Рубинштейну: «Постановка же ее (оперы «Евгений Онегин». — А, Ш.) именно в консерватории есть моя лучшая мечта. Она рассчитана на скромные средства и небольшую сцену». В письме своему хорошему другу Константину Карловичу Альбрехту, хоровому дирижеру, композитору, виолончелисту, преподавшему в Московской консерватории теорию и хоровое пение, а также бывшему хормейстером в первой постановке «Евгения Онегина», Петр Ильич писал из Венеции в декабре 1877 года: «Если мне ждать настоящую Татьяну, настоящего Онегина, идеального Ленского и т. д. – то опера моя, конечно, никогда не пойдет на сцене…Я никогда не отдам этой оперы в Дирекцию театров, прежде чем она не пойдет в консерватории. Я ее писал для консерватории потому, что мне нужна здесь не Большая сцена с ее рутиной, условностью, с ее бездарными режиссерами, бессмысленной, хотя и роскошной постановкой, с ее махальными машинами вместо капельмейстера тд. и тд. Для «Онегина» мне нужно вот что: 1) певцы средней руки, но хорошо промуштрованные и твердые; 2) певцы, которые вместе с тем будут просто, но хорошо играть; 3) нужна постановка не роскошная, но соответствующая времени очень строго; костюмы должны быть непременно того времени, в которые происходит действие оперы (20-е годы); 4) хоры должны быть не стадом овец, как на императорской сцене, а людьми, принимающими участие в действии оперы; 5) капельмейстер должен быть не машиной, и даже не музыкантом a la Napravnik , который гонится только за тем, чтоб там, где cis , не играли с, а настоящим вождем оркестра… Словом, мне нужны для этой постановки не Кюстер, не Кавелин, не Направник, не Мертен, не Кондратьев, не Дмитриев и тому подобная сволочь, – а мне нужны: Губерт, Альбрехт, Самарин и Рубинштейн – т. е. артисты и притом мои друзья… Я не отдам «Онегина» ни за какие блага ни Петербургской, ни Московской дирекции, и если ей не суждено идти в Консерватории, то она не пойдет нигде…» «Я готов ждать сколько угодно», – писал он в заключение.
Интимная, но сильная драма-
Настоящие живые люди…
Лирические сцены…
Гений творца…
Свобода творчества, обретенная благодаря щедрости баронессы фон Мекк…
Вот, пожалуй, и весь «рецепт» успеха оперы «Евгений Онегин». «Рецепт» превращения музыкального произведения в непревзойденный и поныне образец лирической оперы.
«В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною: здесь я владею и люблю», – призналась в одном из писем Надежда Филаретовна.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ «БУМАЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
«Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца. Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались для меня краеугольным камнем моего существования».
Так ответит Чайковский на признание в любви.
И почему-то не согласится перейти в переписке на «ты», как предложила ему Надежда Филаретовна-
Годичный отпуск близился к концу – пора было возвращаться из Швейцарии в Россию.
Родина встретила блудного сына неласково.
Чайковский, немного подуставший от заграницы, предвкушал испытать радость при въезде в Россию. О sancta simplicitas ! [3]3
О, святая простота! (лат.)
[Закрыть]Первым русским на русской земле, в местечке под названием Волочиск, как и положено, оказался жандарм. Жандарм был пьян в стельку, оттого медлителен, бестолков и груб. Наконец, он убедился, что четыре господина (брат Модест с воспитанником Колей, сам Чайковский и его верный Алексей) действительно дали ему четыре паспорта, а не три, как показалось вначале, и передал их в руки суетливого таможенного чиновника.
Маленький, лысый и очень говорливый, он засыпал Петра Ильича кучей вопросов, целью которых было узнать, не ввозят ли господа в пределы Российской империи какую-нибудь контрабанду. Не удовлетворившись отрицательным ответом, он велел подручным перерыть весь багаж прибывших (извинений принесено не было) и все– таки нашел требуемое – платье, купленное Петром Ильичом по поручению сестры в Париже, куда он выбрался из Кларана на несколько дней, чтобы показаться докторам.
– За новые платья положено платить пошлину! – обрадовался чиновник.
– Хорошо, хорошо, – согласился Петр Ильич и попросил: – Нельзя ли скорее?
– Извольте обождать.
Проклятый болтун добрую четверть часа мял Сашенькино платье измазанными чернилами пальцами, сверялся с каким-то справочником, подсчитывал на счетах и объявил:
– С вас причитается четырнадцать рублей!
– Помилуйте! – возмутился Петр Ильич. – Я за него в Париже всего-то семьдесят франков платил!
– То в Париже, – оскалил гнилые зубы чиновник.
По вековому обычаю, таможенный служитель выпрашивал мзду. Если сейчас сунуть ему в потную ладонь трешницу, то пошлина снизится до двух рублей, если не улетучится вовсе.
«Лучше уж уплачу в казну, чем стану унижаться перед этим пройдохой», – решил Петр Ильич и с соблюдением всех формальностей уплатил четырнадцать рублей пошлины.
– Зря вы так, – шепнул ему на ухо экономный Алексей, но, поймав взгляд барина, сразу осекся.
Не лучше своих предшественников оказался жандармский капитан.
– С какой целью изволили путешествовать? – спросил он, буквально ощупывая их взглядом.
Чайковский объяснил.
– Где именно изволили побывать? – капитан, преисполненный рвения, даже просмотрел паспорт Чайковского на свет.
Чайковский перечислил.
– Теперь изволите следовать прямо в Москву?
– Какое вам дело до этого? – возмутился Петр Ильич. – Почему вы ко мне придираетесь?
– Я не придираюсь, а исполняю свой долг, – нисколько не обидевшись, пояснил офицер. – Отвечайте – куда изволите следовать?
– В село Каменку Чигиринского уезда Киевской губернии, в гости к сестре, Александре Ильиничне Давыдовой, урожденной Чайковской, – отчеканил Петр Ильич, беря себя в руки. Оказаться вместо поезда в кутузке в качестве задержанного подозрительного лица совсем не хотелось.
Впрочем, грязный поезд, набитый грустными молодыми солдатами, приставучими коммивояжерами и темными личностями, предлагавшими «расписать со скуки пульку», должно быть, был ничем не лучше той кутузки.
– Петя, бедный мой брат, я так тебе сочувствую!
После близкого знакомства с Антониной Ивановной
Сашенька оставила мысли о том, чтобы примирить ее с братом. Антонина Ивановна была невыносима.
Сашенька не могла понять – как Петя мог допустить такую чудовищную ошибку?
– Чего удивляться – тебе она тоже поначалу понравилась, – улыбнулся брат.
Это был совершенно другой человек, не похожий на того старика, что гостил в Каменке в прошлом году. И ел он сейчас не вяло, а с аппетитом.
– Мне до сих пор стыдно за мои письма, в которых я осуждала тебя, – Сашенька покраснела и опустила глаза. – Прости меня, пожалуйста.
– Забудь о них, – беспечно отмахнулся Петр Ильич, – тем более что ты уже просила прощения. В письмах.
Он, как мог, старался подбодрить себя самого. В Москве его ждала неприятная, чреватая скандалами процедура развода. От госпожи Чайковской можно было ожидать всего самого наихудшего.
Сашенька тоже боялась этого.
– Петя, я прошу, я умоляю тебя, соглашайся на все ее условия, лишь бы вернуть свободу! Это такая…
– Мразь!
Зять, Лев Васильевич, при всей доброте души своей, был резковат – в словах и поступках предпочитал не стесняться. Тем более что по случаю раннего приезда Петра Ильича завтракали они втроем – все остальные обитатели Каменки, включая детей, еще спали, а Модест Ильич и его воспитанник завтракали отдельно, у себя, потому что Коля был очень стеснителен и поначалу дичился незнакомых.
Судьба не баловала сына каторжника, рожденного в ссылке (отец Льва Васильевича, Василий Львович Давыдов, был одним из руководителей движения декабристов на Украине). Он по закону не имел права на наследование и в Каменке, принадлежавшей его старшим братьям, которым посчастливилось появиться на свет до суда над отцом, был управляющим, а не хозяином.
Сашенька укоризненно посмотрела на мужа, но Петр Ильич поддержал era
– Вы, к сожалению, имели возможность понять, что представляет собой эта особа. Она способна на самые невероятные поступки…
– Представляешь, Петр Ильич, – Чайковский с зятем обращались друг к другу по имени-отчеству, но на «ты», – гостя у нас, она имела наглость…
Сашенька постучала ножом по тарелке, Лев Васильевич на мгновение запнулся, подбирая более мягкое слово, и продолжал:
– „кокетничать со всеми мужчинами, попадавшимися ей на глаза! Она даже мне заявила: «Ах, я так сожалею, что вы несвободны».
– Как мило! – улыбнулся Петр Ильич.
– Ты уже составил план действий, Петя? – Сашеньку, как и его, сильно беспокоил предстоящий развод.
– Этим занимается Анатолий, – ответил Петр Ильич. – Он еще не известил о дате своего приезда?
– Нет пока.
– Странно… Я жду его со дня на день.
– Я одного понять не могу – неужели в первопрестольной стало так плохо с невестами, что приходится жениться на таких вот Антонинах Ивановнах? – вдруг решил спросить Лев Васильевич.
– Чти толку, снявши голову, плакать по волосам? – вопросом на вопрос ответил Петр Ильич, желая увести разговор в сторону, чтобы сохранить хорошее расположение духа.
Лев Васильевич мгновенно понял его настроение и предложил:
– А не устроить ли нам, Петр Ильич, пикничок в Большом лесу по поводу твоего приезда, а?
– Отчего же нет? Непременно – устроить!
Чайковский любил пикники у Давыдовых. Суетливые, безалаберные, но в то же время проникнутые радостью и восторгом. Сборы, недолгая поездка в нескольких больших колясках, запряженных четверками, запахи леса, радостные детские крики, костры… Не признававший физического труда, он с удовольствием собирал сухие ветки для этих костров, возле которых обычный чай из самовара пьянил, словно вино!
– Что – прямо сегодня? – удивилась Сашенька, ценившая в жизни размеренность и порядок. Любые неожиданности, даже приятные, всегда пугали ее.
– Конечно! – ответил муж. – Предупреди прислугу, что обедать мы будем в лесу.
– А вдруг именно в это время приедет Анатолий? – засомневалась Сашенька. – Неудобно получится. Давайте уж дождемся его и тогда устроим хоть три пикника подряд!
После завтрака Чайковский ушел в парк, что начинался сразу от дома. Там был у него любимый грот, в котором он очень любил сидеть. Особенно хорошо было делать это ранним утром. Грот был интересен Петру Ильичу не только своим уединенным расположением, но и тем, что, по рассказам, в нем часто сиживал Пушкин, бывший другом семейства Давыдовых.
«Тебя, Раевша и Орлова, И память Каменки любя…» — написал Александр Сергеевич в одном из своих стихотворений, обращенных к Василию Львовичу Давыдову.
Пушкин любил бывать в Каменке. Вот что писал он П. Н. Шедичу о ней:
«Я в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников. Время мое протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что, преданный мгновению, я мало заботился о толках петербургских».
Чайковкого в Каменке московские толки тоже не волновали. Все плохое было где-то тем, далеко-далеко. Здесь его окружали свои, родные, любящие люди. И он любил их всех – горячо и нежно.
Порой он жалел, что нельзя всю жизнь провести здесь и отчаянно завидовал сестре.
Сестра, в свою очередь, завидовала ему – он жил в столице, часто бывал в Европе, жизнь его была насыщена событиями, встречами, общением. Каждый день был нов и непохож на другие, не то что ее монотонное провинциальное бытие.
В этот раз Сашенька приготовила ему в Каменке отдельное жилье – чистенькую уютную хатку с видом на речку. Объяснила свое решение многолюдьем Большого дома, но он понял, что ей хотелось разместить брата как можно лучше, как можно приятнее.
Жилище свое он осмотрел сразу по прибытии, еще до завтрака, и нашел его превосходным. Милый садик, удобная мебель, заботливая сестра даже об инструменте позаботилась, выписала специально для него новое фортепиано, которое стояло в маленькой комнатке, рядом со спальней.
– Я старалась, чтобы тебе здесь было хорошо не только отдыхать, но и заниматься.
– Спасибо, – поблагодарил он и даже прослезился на радостях.
Деятельный Алеша от завтрака отказался – сразу же начал обустраивать жилье, где и для него Сашенька предусмотрела отдельную комнату.
«Надо попросить, чтобы ему отнесли поесть, а то так и останется голодным до обеда», – подумал Чайковский.
Пора было покинуть уютное, утопающее в зелени, убежище. Тем более что он совершенно позабыл спросить Сашеньку, нет ли ему писем.
Письмо ждало его в его спальне. Он с нетерпением вскрыл его и не садясь стал читать:
«Меня чрезвычайно радуют успехи Ваших сочинений, дорогой мой друг. Вы говорите мне, что Вы не желаете кланяться для распространения Ваших сочинений за границею.
Да разве я этого могу желать в Вас, которого я так люблю, – сохрани бог. Как артиста, как человека я ставлю Вас неизмеримо выше таких мер, но я желала бы, чтобы Ваши сочинения побольше пускались в ход издателем…»
Как она заботится о нем! Милая, славная Надежда Филаретовна. Что бы он делал, не будь на свете ее?
Перечитав ее письмо, по обыкновению, несколько раз, он сразу же сел писать ответ, но докончить не успел – прибежал любимый племянник Володя с известием о том, что получена телеграмма от Анатолия.
– Ты будешь здесь жить? – семилетний мальчик с интересом разглядывал обстановку.
Фортепиано привело его в восторг.
– Ты будешь здесь работать? А долго ты пробудешь у нас? А почему ты ничего не сочиняешь для детей? – вопросам не было конца.
– В этот раз я непременно напишу что-нибудь для тебя, Бобик, – пообещал Петр Ильич.
Отец и мать называли мальчика «бэби» на английский манер, но он переделал это слово в «боб», и это прозвище навсегда прилипло к нему.
Здесь же, в Каменке, чуть позже Чайковский сочинит «Детский альбом», состоящий из двадцати четырех небольших фортепианных пьес, и посвятит его Володе Давыдову.








