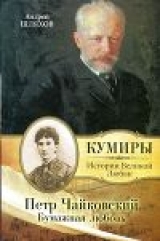
Текст книги "Петр Чайковский. Бумажная любовь"
Автор книги: Андрей Шляхов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ «УДАЧА»
«В презренном металле я действительно очень нуждаюсь. Долго было бы Вам рассказывать, как и почему человек, зарабатывающий средства, вполне достаточные для более чем безбедного существования, запутался в долгах до того, что они по временам совершенно отравляют его жизнь и парализуют рвение к работе. Именно теперь, когда нужно скоро уехать и перед отъездом обеспечить себе возможность возвращения, я попал в очень неприятное скопление денежных затруднений, из которого без посторонней помощи выйти не могу.
Эту помощь я теперь решился искать у Вас. Вы – единственный человек в мире, у которого мне не совестно просить денег. Во-первых, Вы очень добры и щедры; во-вторых, Вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап ростовщиков. Если бы Вы согласились дать мне заимообразно сумму, которая раз навсегда освободила бы меня от них, я бы был безгранично благодарен Вам за эту неоценимую услугу. Дело в том, что сумма моих долгов очень велика: она составляет что-то вроде трех тысяч рублей. Эту сумму я бы уплатил Вам тремя различными путями: 1) исполнением различного рода работ, как, например, аранжементов, подобных тем, которые я для Вас уже делал: 2) предоставлением Вам поспектакльной платы, которую я получаю с дирекции за мои оперы, и 3) ежемесячной присылкой части моего жалованья».
А теперь о приятном: «я, во-первых, поглощен симфонией, которую начал писать еще зимой и которую мне очень хочется посвятить Вам, так как, мне кажется, Вы найдете в ней отголоски Ваших сокровенных чувств и мыслей».
Кажется, неплохо получилось, но все же может быть воспринято как назойливость или, пуще того – как наглость.
Можно сказать, что для нее три тысячи сущий пустяк (так оно и есть), но для людей, сделавших состояние собственноручно, деньги пустяком быть не могут. Легкомысленное отношение к презренному металлу свойственно тем, у кого за душой – только одни лишь долги, ибо именно оно, легкомыслие, к долгам и приводит…
Хорошо бы обосновать свою просьбу, подкрепить ее веским доводом, чтобы, не дай бог, не утратить ее уважения. Как бы объяснить ей то, что все эти постоянные расчеты только мешают… Впрочем, так и надо написать, только сначала предупредить возможный упрек в отсутствии такта: «Мне бы очень было тяжело, если бы моя просьба показалась Вам неделикатною. Я решился на нее всего более оттого, что она раз навсегда исключила бы из наших сношений с Вами элемент денежный, весьма щекотливый, когда ему приходится всплывать так часто, как это до сих пор было. Мне кажется, что наши сношения с Вами сделаются теперь, во всяком случае, более искренними и простыми. Переписка, которая всякий раз влечет за собой, с одной стороны, уплату, а с другой – получение денег, не может быть безусловно искренна».
И напоследок. – «Я почему-то уверен, что, как бы Вы ни приняли это письмо, оно не может изменить Вашего мнения о моей честности. В случае, если б, паче чаяния, оно не понравилось Вам, прошу извинить меня. Я очень нервен и раздражен все эти дни, и весьма может статься, что завтра я буду раскаиваться в своем поступке».
Довольно, на этом пора заканчивать. Лишние слова только все испортят.
Утром он раздумал было отправлять письмо, но к вечеру все же решился. О колебаниях известил Надежду Филаретовну отдельно, в следующем письме, и…
Он получил все, чего желал. Даже с избытком.
«Благодарю Вас искренно, от всего сердца, многоуважаемый Петр Ильич, за то доверие и дружбу, которые Вы оказали мне Вашим обращением в настоящем случае, – писала Надежда Филаретовна. – В особенности я очень ценю то, что Вы сделали это прямо ко мне, непосредственно, и прошу Вас искренно всегда обращаться ко мне как к близкому Вам другу, который Вас любит искренно и глубоко. Что касается средств возвращения, то прошу Вас, Петр Ильич, не думать об этом и не заботиться, – я сама их найду.
Вы ничего не ответили мне на мою просьбу позволить мне писать Вам всегда, когда мне захочется получить от Вас письмо, т. е. вести с Вами переписку по внутреннему желанию, а не по делу только. Для набожных людей нужны апостолы, проповедники религии, большею частью искаженной. Для меня нужны Вы, чистый проповедник моего любимого, высокого искусства».
От радости проповедник высокого искусства даже прослезился. Она не отвергла его, она поняла его, она поможет ему! О, милая Надежда Филаретовна! О, ангел, ниспосланный ему свыше в награду за все перенесенные страдания!
«Что касается посвящения мне Вашей симфонии, то я могу сказать Вам, что Вы также единственный человек, от которого мне было бы это приятно и дорого».
Единственный! И она тоже единственная. Чуткая, все понимающая и преисполненная доброты. Она так непохожа на прочих женщин… Она – идеал!
Что ж – теперь можно вздохнуть посвободнее. Кредиторы перестанут докучать, жизнь станет приятной, какой она и должна быть. Можно спокойно ехать в деревню к Шиловскому, очень милому человеку, живущему со своей не менее милой супругой и семейством в своем имении Глебово близ Нового Иерусалима.
Константин Степанович Шиловский писал по его просьбе либретто для оперы «Евгений Онегин». Он настойчиво звал Чайковского погостить у них летом, обещая, как и всегда, представить в его распоряжение отдельный флигель и фортепиано. Чайковский любил гостить у Шиловских, ему там было хорошо…
Радость, переполнявшая Петра Ильича, требовала выхода. Вдруг захотелось сделать кому-нибудь нечто приятное. Просто так, беспричинно и безвозмездно. Почему-то тут же всплыла в памяти Милюкова, да не просто всплыла, а стала вдруг казаться похожей на Татьяну Ларину… Чайковский уже забыл, что не собирался продолжать знакомство с Антониной Ивановной, забыл, что совсем недавно видел Татьяну Ларину полной противоположностью Милюковой, и даже собирался оперой своей дать Антонине Ивановне нечто вроде урока, преподнести ей пример для подражания в образе Татьяны.
Он решил написать Милюковой и почувствовал, что исполнение этого решения приятно ему.
Он написал, что вспоминает о ней, будучи признателен судьбе, совершенно незаслуженно наградившей его столь искренними поклонниками его творчества.
Он написал, что на деле он далек от идеала, живущего в ее воображении. Что поделать – он стар, ему уже тридцать семь лет, у него несносный характер, живя один, он привык потакать своим капризам и не привык считаться с кем– либо. Если этого мало, то вот еще – он не вполне здоров (без утайки расписал ей все «прелести» своего катара), вследствие чего склонен к меланхолии и сварливости.
– Что ж, если это не отпугнет ее, то мне придется присмотреться к ней, – сказал он вслух. – Быть может, она не так глупа, как показалось Лангеру.
Увы, практичный, наблюдательный и трезвомыслящий Лангер никогда не ошибался в людях! Если бы только знать…
Вот и Глебово. Встречать Чайковского вышли все – хозяин, хозяйка и бывшие у них гости. Объятия, восторги, непременная, хорошо еще – краткая, лекция о древности рода Шиловских (Константин Степанович очень гордился тем, что его звали точно так же, как и основателя рода), долгие чаепития, приятные беседы и непередаваемая обстановка всеобщего радушия, искреннего и безграничного. Само созерцание счастливого семейства Шиловских говорило в пользу женитьбы. Между Константином Степановичем и его супругой, бывшей одиннадцатью годами старше мужа, царило взаимопонимание, уважение и снисхождение к слабостям друг друга. О, счастливец Шиловский!
Спустя несколько дней он вернулся домой, в Москву, в свою квартиру, где ждали его несколько писем от Антонины Ивановны.
Сразу читать не стал, поскольку порядком утомился в дороге. Отдохнул как следует (даже вздремнул немного) и лишь тогда вскрыл первое из писем.
«Неужели же Вы прекратите со мной переписку и не повидавшись ни разу? Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки. Бог знает, может быть, Вы считаете меня за ветреницу и легковерную девушку и потому не имеете веры в мои письма. Но чем же я могу доказать Вам правдивость моих слов, да и наконец, так и лгать нельзя. После последнего Вашего письма я еще вдвое полюбила Вас, и недостатки Ваши ровно ничего для меня не значат».
Ему понравился тон письма. Хотя чуть дальше она снова впадала в свой обычный грех: «Я умираю с тоски и горю желанием видеть Вас» или еще хуже: «Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Ведь Вы можете принять это за нахальство с моей стороны». Нахальство и есть, лучше было бы вообще не упоминать об этом. И сколько можно твердить о своей порядочности?
Он к месту, или не совсем к месту, вспомнил слова Лели Апухтина: «Порядочность подобна сну – обладая ею, не замечаешь ее вовсе».
Ну, зачем же опять писать: «Могу Вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка в полном смысле этого слова и не имею ничего, что бы я хотела от Вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан Вам и более никому в свете. Жить без Вас я не могу, а потому скоро, может быть, покончу с собой. Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне».
Решительно, мужчинам не дано понимать женщин. Вот оно – самое тяжкое последствие первородного греха.
Все письма заканчивались одним и тем же: «Целую и обнимаю Вас крепко, крепко».
– Достаточно будет ограничиться разговором! – сказал он сам себе и… написал Антонине Ивановне не письмо, а скорее извещение, в котором сообщал, что нанесет* ей визит в пятницу вечером.
Запечатав письмо, долго раздумывал о правильности своего решения и в итоге почти убедил себя в том, как человек симпатизирующий ему и не отвергающий его недостатков, Антонина Ивановна может оказаться весьма подходящей женой. Она молода, но не юна, следовательно – уже успела освободиться от иллюзий, свойственных юному возрасту. Она никогда не была замужем и утверждает, что никого не любила… Кстати, вполне возможно, что именно этим объясняется ее чрезмерная пылкость. Эта мысль уже приходила ему в голову.
Очень удачно, что она разбирается в музыке. Такая жена сможет стать первой слушательницей и первым критиком его произведений, его преданной советчицей. Он непременно потребует от нее быть объективной и беспристрастной – это окажет ему неоценимую помощь.
Он постарается сделать все, чтобы она была счастлива в браке, а она. в свою очередь, сделает то же самое, и все устроится наилучшим образом.
Удивительно – но он ждал пятницы с нетерпением. Очень хотелось наконец-то увидеть Антонину Ивановну…
ГЛАВА ШЕСТАЯ «БЕЗУМИЕ»
Бывают встречи роковые, бывают встречи незабываемые, бывают встречи досадные…
Их знакомство можно было назвать скучной встречей.
Коллега Лангер не соврал – Антонина Ивановна и впрямь была недурна собой.
Коллега Лангер не соврал ни в чем – барышня действительно была глупа.
Лангер никогда не говорил неправды и очень этим гордился.
В чрезмерно разукрашенной всякими «-милыми безделушками» комнате она усадила его пить чай и сразу же доложила:
– Вы, Петр Ильич, должно быть, знаете, что наш род Милюковых ведет свое происхождение с незапамятных времен?
– Да, да. Конечно, – поспешил подтвердить он.
– Откровенно говоря, не с таких уж незапамятных, – поправилась она. – Основателем рода был выходец из Европы Стефан Милюк, воевода, героически погибший в Куликовской битве. Многие его потомки успешно служили Отечеству…
В отличие от того же Шиловского, она рассказывала о предках невкусно – уставилась на него и бубнила без выражения. И слова ее были заезжены и невзрачны.
«Нахваливает себя, словно породистую лошадь, – мелькнула невежливая мысль. – Сейчас от родословной перейдет к своим достижениям».
Так и вышло.
– Я окончила Елизаветинский женский институт, куда меня отдали в десятилетнем возрасте, – продолжала Антонина Ивановна. – А после окончательно осознала, что не мыслю себе жизни без музыки, и поступила в консерваторию, где имела счастье увидеть вас на одном из концертов…
Даже о встрече с ним она говорила, не меняя интонации и не проявляя ни малейших признаков оживления, словно о чем-то обыденном, банальном. Куда девалась вся пылкость? Неужели истратилась в письмах?
– И вот уже четыре года я живу только вами, дорогой Петр Ильич…
– Мне, право же, неловко, Антонина Ивановна. Я никак не могу понять, что в моей внешности могло так пленить вас. Может быть, вас впечатлило мое творчество? – предположил Чайковский.
И услышав ответ, чудом не свалился со стула – настолько неожиданным он был.
– Признаться честно, я плохо знакома с вашими произведениями, – потупила взор барышня, покраснев ушами. – Но я полностью разделяю то восхищение, которое.» которым…
Окончательно смутилась и предложила, указывая рукой на видавшее виды фортепиано, стоявшее в углу. Обстановка жилища Антонины Ивановны, зарабатывавшей, по собственному признанию, на жизнь самостоятельно, была не из дорогих.
– Может быть, вам угодно будет сыграть что-то из созданного вами… Для меня.
Пришлось подчиниться. Отрадно было, что музыку она слушает молча, поэтому он играл долго, пока не устал.
Опять пили чай (надо отдать должное: чай был хорош) и беседовали. После нескольких фраз, выражавших восхищение, она снова заговорила о себе. Генеалогия, образованность, душевные качества остались позади – настал черед материальных сфер.
– Отец мой, Иван Алексеевич, царствие ему небесное, оставил после себя лес возле Клина. Почти сорок десятин. Мы с мама подумываем продать его. Как по-вашему – стоит?
– Затрудняюсь ответить, Антонина Ивановна, – он удивился вопросу, сегодня он вообще много удивлялся. – Я не сведущ в подобных вещах.
– Я тоже, – вздохнула она. – Но решение принимать мне. Лес этот – часть моего приданого… Я вообще-то девушка очень серьезная и во всем ценю обстоятельность и деловой подход.
– А я ветрен, нелюдим, сварлив и при этом ужасный транжира! – вдруг– вспылил он. – Мой камердинер, Алеша Софронов, вот, пожалуй, единственный человек, который способен уживаться со мной и покорно сносить мои капризы, за что я его поистине боготворю, мученика безгрешного! Любить я, к сожалению, не умею и сердцем ни к кому не привязываюсь! Подумайте хорошенько, Антонина Ивановна, нужно ли вам такое… знакомство? Что оно даст вам доброго?
– Мне самой, Петр Ильич, – голос ее задрожал, и он испугался, что будет вынужден лицезреть истерику, – мне для себя не надо решительно ничего. Я не требовательна, наоборот – я готова к самопожертвованию. Всего лишь одна мечта владеет мной безраздельно – составить счастье любимого мною человека, единственного друга моего… Я все отдам вам, Петр Ильич, все сделаю для вашего блага, только не пренебрегайте моей дружбой, прошу вас!
Он уже приготовился к бегству, как вдруг она заговорила спокойно и ровно:
– Не думайте, Петр Ильич, что перед вами несчастное, всеми позабытое существо. Я, между прочим, могла бы уже быть генеральшей. Ко мне сватался один генерал, но я ему отказала, потому что не испытывала к нему никаких чувств.
– Зачем вы говорите мне это, Антонина Ивановна?
– Я не хочу, Петр Ильич, чтобы между нами оставались неясности, – ответила Антонина Ивановна, – и, признаюсь честно, жду от вас того же….
Возвращался он в странном расположении духа – откровенность Антонины Ивановны, принимаемая им за искренность, подкупала, а все остальное настораживало, если не пугало.
Но – любит.
Но – не оспаривает его взглядов.
Но – выражает готовность прощать.
Но – молода, недурна собой, родовита, музыкальна в какой-то мере.
В конце концов, он же намерен жениться. Надо решаться, на безрыбье, как говорится…
Чувствуя его нерешительность, Антонина Ивановна выждала для приличия два дня и написала Чайковскому письмо.
Или, точнее говоря – выставила ультиматум.
Он не насторожился, не прозрел – напротив, запаниковал, и поддался.
Честно говоря, совершенно не искушенный в женском коварстве, он и не мог устоять.
«Дорогой мой Петр Ильич, – писала она. – Если Вы решились нанести вечером визит одинокой девушке, то этим своим поступком вы уже связали навсегда наши судьбы».
За первым выстрелом следовал второй: «Увы, но я скомпрометирована навеки, и жить с таким пятном на репутации не могу».
И завершающий залп из всех орудий: «Или Вам будет угодно сделать меня своей законной женой, или, клянусь, я покончу счеты с жизнью!»
Сраженный, он прочитал в конце письма невинно– наивное. – «У меня еще никогда не было вечером в гостях холостого мужчины». Боже правый! Он, оказывается, способен скомпрометировать поздним визитом незамужнюю девушку! «Надо написать Модесту – пусть повеселится», – решил он.
«А вдруг она действительно наложит на себя руки? – ужаснулся он. – И укажет в предсмертном письме мое имя? Мало мне сплетен, так будет еще одна, после которой от меня отвернутся все без исключения… Репутация погубителя невинной души, совершенно незаслуженная и такая ужасная! Как быть?! Как же быть?!!»
Утро вечера мудренее – он пил весь вечер и всю ночь проплакал от жалости к себе. Вспоминал детство, мать, Фанни и жалел, что рядом нет Модеста, тот бы утешил его по-братски и дал бы совет. Алексей тоже не спал всю ночь – караулил, как бы не случилось припадка.
Обошлось. Утром он посмотрел на себя в зеркало и испугался своего вида – на него смотрел семидесятилетний старец. Зажмурился в испуге, потряс головой, прогоняя наваждение, и открыл глаза – теперь он выглядел лет на пятьдесят. Лучше, конечно, но все же…
Предложение было неслыханным по своей форме:
– Я, к величайшему моему сожалению, не люблю вас, Антонина Ивановна, и никогда не полюблю, но, идя навстречу вашим чаяниям, я готов предложить вам стать моей женой.
Позволю себе еще раз обратить ваше внимание на то, что характер у меня странный, и еще на то, что я вряд ли смогу сделать вас счастливой. Я, как вы уже слышали, подвержен припадкам необоснованного раздражения, во время которых становлюсь совершенно невыносим для окружающих, я не люблю шумных сборищ, меня часто тяготит общение с другими людьми, и, кроме того, я беден, практически нищ. Однако я готов стать для вас… братом, верным другом, старшим товарищем, опорой на жизненном пути. Подумайте же еще раз и скажите – готовы ли вы соединить свою судьбу с моей?
– Я принимаю ваше предложение, Петр Ильич, и обещаю, что со мной вы будете счастливы, – не раздумывая, ответила она, до неприличного светясь от счастья.
И протянула ему руку для поцелуя. Мягкую, белую, обильно надушенную.
Пришлось поцеловать.
– Свадьбу я намереваюсь сыграть через месяц, после того, как покончу кое с какими делами, – сказал он на прощание. – Сделайте милость, не говорите пока никому о нашем решении, прошу вас.
– Если вы так хотите, – улыбнулась она, – если вам это надо, то я буду нема, как рыба.
Краткими письмами известил отца и братьев о грядущем событии, не удержался и рассказал новость Алеше, хотя вначале и не собирался этого делать. Бедный мальчик, изрядно повзрослевший и, увы, подурневший за последнее время, искренне расстроился предстоящему появлению в доме незнакомой женщины.
– Не волнуйся, друг мой, – поспешил утешить его Петр Ильич, – она тебе понравится. Что ни говори, а она умеет понравиться.
Она действительно умела делать это, но вряд ли намеревалась вести так себя всю жизнь.
Тремя днями позже Чайковский получил письмо от Надежды Филаретовны. Баронесса сообщила ему свой летний адрес (с дачи в Сокольниках она переезжала в свое имение Браилов, расположенное в Каменец-Подольской губернии). «Это край по своей природе, растительности и климату прелестный. Свой Браилов я ужасно люблю, как самого по себе, так и по весьма дорогим воспоминаниям. Когда я бываю там, мне хочется, чтобы всем людям на земле было так же хорошо, как мне. Об Вас я буду там вспоминать больше, чем где-нибудь, потому что всегда человек там, где ему нравится, больше всего думает о тех, кого любит», – написала она, повторив на расставание, что какое бы далекое расстояние ни разделяло их, Петр Ильич не должен забывать, что он имеет в ней самого искреннего друга, всегда готового принять участие во всем, что его касается.
«Две разные женщины любят меня, – думал он. – Насколько же они не похожи друг на друга, ах, если бы…»
И вспоминал гоголевские строки: «Если бы губы Ника– нора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась. А теперь, поди подумай! просто голова даже стала болеть».
Кстати, Гоголь, кажется, так и прожил всю жизнь холостяком.
Чайковский снова уехал в Глебово, где и пробыл почти до дня венчания. О Антонине Ивановне почти не вспоминал – работал над оперой.
Работалось ему хорошо, увлеченно.








