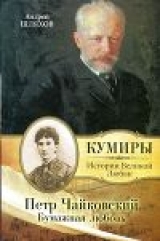
Текст книги "Петр Чайковский. Бумажная любовь"
Автор книги: Андрей Шляхов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
«Я определенно не гожусь в благодетели – нет у меня должного терпения», – решил он.
Более они не виделись – Чайковский уехал из Москвы.
Он совсем позабыл о Василии Андреевиче.
Но Василий Андреевич помнил о Чайковском. Интересовался расписанием его поездок, адресами пребывания, словом, собирал все сведения, которые только мог собрать…
Теплым августовским вечером в Каменке поднялся небольшой переполох.
В дом Давыдовых явился тощий, грязный, еле стоящий на ногах оборванец. Оборванцу по распоряжению Александры Ильиничны дали гривенник и попытались спровадить восвояси, но он швырнул подаяние под ноги садовнику, выступавшему в качестве герольда, и потребовал:
– Доложи, неуч, господину Чайковскому, Петру Ильичу, что его по приватному делу желает видеть Василий Андреевич.
Садовник доложил. Чайковский музицировал с племянницами и Бобом.
– Гони его в шею, Аким! Я никого не жду! – отмахнулся он. – В шею!
Знакомых бродяжек у Чайковского не было.
Чуть позже со двора раздался шум, сделавший занятия музыкой совершенно невозможными.
– Я умираю, а он не хочет даже взглянуть на меня! – надсаживался такой знакомый голос. – Позови сюда господина Чайковского! Скажи, что это вопрос всей моей жизни.
«Неужели Ткаченко?», – похолодел Петр Ильич и выбежал во двор.
Да, это был Ткаченко. Вернее – его жалкая тень.
Увидев Чайковского, Ткаченко всхлипнул и бросился обниматься.
– Петр Ильич! Милый, дорогой мой Петр Ильич! Неужели это вы?!
Пах Василий Андреевич еще хуже, чем выглядел, – перегаром, луком, немытым телом.
Чайковского замутило. Он отстранил от себя непрошеного гостя и машинально оглянулся на дом. Изо всех окон выглядывали любопытные, а Лев Васильевич сошел вниз и молча наблюдал эту некрасивую сцену, стоя в пяти шагах от Чайковского.
– Это мой знакомый, – пояснил Петр Ильич. – Студент консерватории, в котором я принимаю некоторое участие. Нельзя ли вымыть его, накормить и разместить где-нибудь на ночлег?
На следующее утро Александра Ильинична имела неосторожность пригласить Ткаченко позавтракать вместе с ними. Ее можно было понять – вымытый, выспавшийся и переодетый в чистое платье из запасов Льва Васильевича, Ткаченко производил впечатление светского человека.
Во время застольной беседы впечатление сразу же улетучилось.
Сперва Ткаченко во всеуслышание рассказал (при дамах и детях, прошу заметить!), что во время своих странствий он обучился самому изощренному разврату.
Петр Ильич тут же перебил его и принялся расспрашивать об общих знакомых по консерватории, чтобы увести разговор подальше от скользкой темы.
Затем Ткаченко выразил удивление тем обстоятельством, что за завтраком не подают ни водки, ни коньяка.
– У нас так заведено, – пояснил хозяин, – за завтраком мы пьем только чай, кофе или молоко.
Ткаченко некрасиво скривил рот.
Глядя на Петра Ильича, он рассказал, что пьет уже третий месяц по причине стыда, вызванного тем обстоятельством, что он чрезмерно и совершенно необоснованно пользуется расположением «добрейшего Петра Ильича».
Расплакался, разбил тарелку, кричал что-то о своей скорой смерти.
Как взрослые, так и дети, присутствовавшие за столом, были до крайности смущены…
Сплавить Василия Андреевича в Москву удалось, лишь на третий день. После долгих пустых бесед, то и дело перемежающихся уговорами и увещеваниями.
Кроме добрых слов Ткаченко получил сто пятьдесят рублей материальной помощи.
– Я знаю, чем мне отблагодарить вас, Петр Ильич! – сказал он прощаясь. – Я пришлю вам свой дневник
«Все что угодно, только не вздумай являться сам», – подумал Петр Ильич.
Василий Андреевич не соврал. Дневник – толстая растрепанная тетрадь со множеством клякс и помарок пришел бандеролью через три недели. «Теперь я понимаю странность его поступков, – писал по прочтении дневника Чайковский баронессе фон Мекк. – Перенесенные им бесчисленные невзгоды породили в нем страшную недоверчивость к людям, болезненное самолюбие, вследствие которого он в одно и то же время взывал ко мне о помощи, а потом мучительно тяготился моими заботами о нем, старался объяснить их себе желанием моим заслужить репутацию "благодетеля" и т. д. Из дневника этого я узнал, что бедный юноша совершенно одинок в этом мире, ибо связи с семейством порваны, и что я единственная его поддержка и опора. Оказывается, что он горячо меня любит, хотя по странности болезненной своей натуры не только никогда не мог этого выразить, но, напротив, почти оскорблял меня своими письмами и обращениями. Теперь я знаю, что имею дело с больной, но необычайно благородной и честной натурой».
Отношения Петра Ильича с «больной, но необычайно благородной и честной натурой» постепенно сошли на нет. Ткаченко проучился в консерватории еще год и покинул ее, навсегда исчезнув из жизни Чайковского.
Петр Ильич вспоминал о нем с доброй улыбкой, но больше никогда не брался покровительствовать кому– либо. «Кто на молоке обжегся, тот и на воду дует», – говорят в народе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ «СКУЧНЫЕ ДЕЛА»
Каменка, май 1881. Чайковский просит: «Милый друг! мне очень жаль, что я не успел ранее Вас предупредить о следующем обстоятельстве. Получение здесь денег с почты, т. е. из Смелянской почтовой конторы, сопряжено с разными проволочками и длинными формальностями, неприятными для меня в том отношении, что тут является бездна посредников, которым вовсе обо всем этом знать не нужно. Вот почему я хотел просить Вас в случае присылки мне бюджетной суммы во время пребывания моего в Каменке делать это посредством перевода на какой-нибудь киевский банк, а перевод посылать в страховом письме все-таки в Смелу. В Киев отсюда съездить недалеко, да, кстати, все летом получаемые мной деньги я рассылаю, и опять-таки эту рассылку мне приятнее делать из Киева, чем из Каменки, где неизбежны многие посредники».
Композитор и баронесса не желали привлекать к своим отношениям лишнего внимания.
Петр Ильич полностью погрузился в отечественные церковные песнопения. Читает «Историю русской церковной музыки», изучает обиходные напевы, знакомится с порядками богослужения и гармонизирует некоторые древние мелодии. Результатом всего этого должно стать новое духовное сочинение – «Всенощное бдение», положенное на четырехголосный хор.
В Каменке грустно. Сестра продолжает болеть. Племянницу Таню бросил жених – князь Трубецкой, причем бросил обидно, наговорив множество обидных слов практически накануне свадьбы. Таня страдает. Схема страдания стала для нее уже привычной – бессонница, истерики, морфин… Таня очень изменилась за последнее время. Петр Ильич больше не восхищается ею. Он жалеет ее, но, кажется, больше не любит. Он всячески отвлекает Таню от предмета ее грустных мыслей, исполняя тем самым свой родственный долг, но не более того.
Через два года, в 1883 году, Чайковский напишет баронессе фон Мекк: «Племянница моя Таня, вероятно, будет виновницей того, что я не буду больше постоянным обитателем Каменки. Я не беру на себя право в чем-либо обвинять ее. Всякий человек действует в жизни в силу своих природных качеств, воспитания, обстоятельств. Но одно знаю: единственное мое желание – быть всегда как можно дальше от нее. Я могу ее жалеть, но я не могу ее любить. Жить рядом с нею для меня мука, ибо я должен насиловать себя, скрывать свои истинные чувства, лгать, а жить во лжи выше сил моих. Пока она будет в доме родителей (а это, вероятно, будет всегда, ибо едва ли можно надеяться, что она выйдет замуж), Каменка для меня закрыта. По крайней мере, так мне кажется теперь. Чувство это очень мучительное, ибо не только родство, не только нежнейшая любовь ко всему остальному семейству, но и привычка сделали то, что только там я считаю себя дома. Дай бог, чтобы чувство это изменилось и чтобы болезненно мучительное ощущение, которое один вид этой непостижимой девушки внушает мне, притупилось. Но теперь, проживя при ней более четырех месяцев, об одном только и мечтаю, одного только желаю – быть как можно подальше от нее».
Петр Ильич будет заботиться о Тане до самой ее смерти.
Татьяна Давыдова, бывшая когда-то взбалмошной красавицей, а ставшая неуравновешенной морфинисткой, незадолго до своей смерти родит во Франции мальчика, которого впоследствии усыновит бездетный старший брат Петра Ильича Николай. Роды, замаскированные под лечение расшатанной нервной системы, пребывание ребенка на воспитании во французской семье, усыновление Николаем Ильичом – все это устроит для Тани ее дядя Петр Ильич Чайковский.
Таня умрет в январе 1887 года на бале-маскараде в петербургском Дворянском собрании, не успев отметить свое двадцатипятилетие.
Чайковский написал баронессе фон Мекк «…мы получили здесь известие о неожиданной смерти бедной моей племянницы Тани. Хотя мне, в сущности, часто приходило в голову, что для этой несчастной самый лучший и желанный исход был – смерть, но, тем не менее, я был глубоко потрясен известием. Она умерла в Петербурге, в зале Дворянского собрания, на bal-masque. Из того, что она была на балу, Вы видите, что она была на ногах и даже пыталась пользоваться общественными удовольствиями, но организм ее уже давно был подточен. Это была тень прежней Тани, морфин сгубил ее, и, так или иначе, трагический исход был неизбежен. С ума схожу при мысли о том, как перенесут это горе бедная сестра и зять…»
«Бедная… Татьяна Львовна. Слишком рано рассчиталась с жизнью, хотя, с другой стороны, ей бог послал самую лучшую форму смерти, быструю; я всегда говорю, что так умирать могут только праведники, что это награда, которую бог дает им за безобидную жизнь», – откликнется баронесса.
Другая племянница Петра Ильича – Вера, переживет свою старшую сестру всего на два года.
Но все это будет нескоро… Пока же Петр Ильич продолжает бывать в Каменке. Несмотря на то что гостить там уже не так весело, как поначалу. «Уже давно отлетел от дома сестры и зятя тот дух идеального семейного мира и счастия, который в нем прежде находился постоянно и делал пребывание мое в нем счастливым и приятным. Заранее знаю, что мне там будет невесело и горько, но я так их всех люблю, а с другой стороны, и они так все меня любят и дорожат моим пребыванием, что не могу не водвориться у них по-прежнему на все лето и часть осени. Если б я этого не сделал, то причинил бы всему семейству величайшее огорчение, – признавался он Надежде Филаретовне. – Было время, когда семья эта была невозмутимо и безгранично счастлива. Но с тех пор, как выросла Таня и начала прежде томиться о чем-то и о чем-то неопределенно тосковать, а потом отравлять себя этим проклятым ядом, – отлетело от них счастье! И болезни сестры моей бедной суть прямой результат тревог, причиняемых Таней».
К тому же, увы, ему более никогда не удастся погостить в Браилове. Дела баронессы фон Мекк немного пошатнулись, и она была вынуждена продать Браилов, который приносил ей одни убытки.
Она предложила было имение в аренду Льву Васильевичу Давыдову. «Боже мой! как бы я была счастлива, если бы нашелся человек, который бы взял Браилов в распоряжение так, чтобы мне уж – ни о чем не надо было бы хлопотать, а только получать то, что необходимо, т. е. доходы, и наслаждаться браиловскою природою. Как бы хорошо было, если бы таким человеком был Лев Васильевич!» Дело не выгорело, поскольку у Льва Васильевича не было необходимых средств для аренды – баронесса берет со всех своих арендаторов залог в размере годовой арендной платы, да и желания тоже не было, поскольку все его силы отнимала Каменка, которой он продолжал управлять.
На Браилов обращает внимание князь Горчаков, сын канцлера Александра Михайловича Горчакова. Торгуется, буквально выкручивает руки и в итоге сбивает цену до смешного, покупая огромное имение всего за один миллион четыреста тысяч рублей. Баронесса соглашается, но князь продолжает торговаться из-за мелочей. «Этот князь несноснейший человек: скуп, мелочен, подозрителен, тянет с меня и вещами и деньгами невыносимо. Я с нетерпением жду. когда кончится дело с ним, и боюсь ужасно, что буду иметь еще много возни с ним при получении денег; потому что он уже имел намерение уплатить мне ничего не стоящими процентными бумагами, но я на это ни за что не согласилась».
Кроме Браилова обстоятельства вынуждают баронессу фон Мекк продать часть принадлежащих ей акций железных дорог. Карл фон Мекк нажил за короткое время огромное состояние старым добрым путем – клал в карман разницу между реальной стоимостью прокладки железной дороги и тем, что готова была платить за это казна. Барон умер, а дело его продолжало жить – приписки, накрутки и прочие виды раздувания стоимости работ, услуг, материалов в корыстных целях практиковались повсеместно, что, конечно же, не могло не сказаться на рентабельности железных дорог. Сказаться негативно, отрицательно. Так, например, Либаво-Роменская железная дорога в 1880 году принесла своей тогдашней владелице Надежде фон Мекк девятьсот семьдесят шесть тысяч рублей чистого убытка. Без малого – миллион!
Разумеется, подобную обузу надлежит как можно скорее сбыть с рук. Надежда фон Мекк так и поступает. Сперва она предлагает выкупить акции правительству, правительство молчит, и тогда акции уходят в частные руки. К немецким кредиторам баронессы.
В прессе немедленно развернулась кампания по травле баронессы, дерзнувшей продать акции русской железной дороги каким-то немцам.
«Вот оно – тевтонское коварство», – неистовствовали журналисты. Рука руку моет, свой своего не обидит. Чего еще ждать от фон Мекков?
Почти все российские газеты вылили на Надежду фон Мекк ушаты грязи, делая это совершенно незаслуженно.
Сразу как-то забывается, что Надежда фон Мекк не немка, что ее девичья фамилия Фроловская. Заодно забывается и то, что правительство само не пожелало выкупать у баронессы фон Мекк акции. «Главное, возмущает то, что ведь на каждом слове ложь, извращение или полнейшее незнание дела, а берутся судить, рядить печатно и так авторитетно класть свои санкции, а у самих, как у "Московских ведомостей", например, ни одного верного сведения нет. Ну, другие, те совсем подлые, и только "Русь" написала все верно, ну, это потому, что там редактор порядочный человек, Аксаков», – писала она Чайковскому.
Окружающие ведут себя не лучшим образом. «По продаже роменских акций я еще далеко не успокоилась и имею кучу неприятностей, – писала Надежда Филаретовна Чайковскому. – Меня хотят эксплуатировать и обирать без всякой совести, и что, конечно, больнее всего, так это видеть все эти проявления самых гадких, продажных свойств человеческой натуры, при которых те же люди, которые месяц назад ходили на задних лапках передо мною и старались снискать мои милости, теперь делают мне самые величайшие гадости, чтобы снискать милости своих новых господ. Иначе я выразиться не могу, потому что ведь это чисто лакейские свойства, хотя и обладают ими тайные советники! Все это меня до глубины души расстраивает и заставляет желать как можно скорее уйти на край света от людской подлости и продажности».
Эта грустная тема всплывет в их переписке еще не раз.
«Сколько подлостей, гадостей, какое продажничество я вижу вокруг себя. Мне здесь невыносимо, я задыхаюсь в этой тлетворной атмосфере. В обоих делах, продаже Роменской дороги и продаже Браилова, я прохожу одни и те же ощущения, одно гаже другого, и, знаете, чем дольше это тянется, тем невыносимее становится любоваться на то, как люди, которые два месяца назад гнули спину передо мною, угождали и уверяли в преданности и уважении, теперь придумывают мне всевозможные гадости, чтобы вытянуть из моего кармана и поднести своим новым милостивцам, и доходят в этом до геркулесовых столбов, ну и конечно, достигают цели, общипывают, обирают нас невообразимо», – страдала Надежда Филаретовна.
Чайковский утешает, сочувствует, понимает, но, увы, помочь ничем не может, кроме добрых слов и музыки.
На память о Браилове у Надежды Филаретовны останутся его «Воспоминания дорогого места», написанные для скрипки и фортепиано.
У Петра Ильича тоже был памятный подарок, глядя на который он вспоминал Браилово. Это роскошные часы, полученные им от баронессы фон Мекк в память оперы «Орлеанская дева», частично писанной в Браилове. Крышки часов, покрытые черной эмалью, были украшены изображениями Жанны д'Арк на коне и Аполлона с музами. Сделанные на заказ, они обошлись баронессе в десять тысяч франков.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ «ОБИДНЫЕ СЛОВА»
Юргенсон заехал за ним в четвертом часу вечера.
– Петр, я намерен похитить тебя на несколько часов! – объявил он. – Поедем обедать.
– Куда? – озабоченно спросил Чайковский.
Петр Иванович Юргенсон был большим любителем простонародных трактиров, предлагавших своим посетителям рыбную селянку с гречневой кашей, жареных гусей, суп из потрохов и прочую незамысловатую снедь. Петр Иванович утверждал, что чем еда проще, тем она вкуснее и полезнее, а в компании приказчиков обедать не менее приятно, нежели в компании графов, князей и купцов первой гильдии.
– Все люди одинаковы, – любил повторять он и при этом непременно вздыхал, давая понять, что эти самые одинаковые люди весьма далеки от идеала.
На вопрос Чайковского Петр Иванович ответил туманно:
– Есть на Маросейке один трактирчик. Неплохое местечко…
«Неплохое местечко» оказалось и впрямь неплохим. Чистым, довольно приличным и с весьма сносным поваром. К тому же здесь навряд ли можно было встретить кого-либо из знакомых, что тоже относилось к достоинствам заведения.
По немного напряженному лицу Юргенсона было видно, что у него есть новости и новости эти не из приятных. В пролетке, на холодном осеннем ветру, разговаривать не хотелось, но, едва усевшись за стол, Чайковский посмотрел в глаза друга и попросил:
– Выкладывай все разом – что она натворила на этот раз.
Плохие новости Юргенсона были обычно связаны с Антониной Ивановной.
– Она, слава богу, перестала докучать мне, – ответил Юргенсон. – Я хотел сообщить о другом…
– Чего изволите? – к столу, изображая лицом и телом преувеличенное внимание и отчаянную готовность услужить, подбежал половой.
«Где их только берут – таких неотличимых друг от друга? – подумал Петр Ильич. – Такое впечатление, что все половые в российских трактирах, что в Москве, что в Петербурге, что в Смоленске, – дети одних и тех же родителей. Пробор посередине, исполненный при участии репейного масла, плутовство в глазах, неизменный жилет».
– Подай-ка нам, братец, буженины, семги вашей боярской, щей с ребрышками и расстегаями, свинины жареной с картофелем и грибами, а после всего – чаю, – быстро распорядился Юргенсон, видимо хорошо знакомый с местной кухней. – Ну и графин коньяку, само собой.
– Счас-с-с, – прошипел половой и исчез.
– У меня есть новости из Петербурга, – начал Юргенсон. – По поводу твоего скрипичного концерта…
Бесполезно было бы спрашивать о том, кто именно сообщил Петру Ивановичу новости относительно скрипичного концерта – Юргенсон никогда не выдавал своих источников.
– Как ты знаешь, Иосиф намеревался играть его в Петербурге, – Юргенсон говорил спокойно, негромко. – Так вот, против этого выступил Давыдов…
– Карл Юльевич? – изумился Чайковский.
– Нет, его однофамилец – герой войны двенадцатого года и по совместительству поэт, – пошутил Петр Иванович. – Конечно же, он, наш дорогой Карл Юльевич, назвал твой скрипичный концерт жалким и добавил, что это не произведение, а насмешка над публикой.
– Черт бы его побрал! – вырвалось у Чайковского. – Что он себе позволяет?
Такой подлости от человека, которого он уважал, чьим талантом восхищался, называя его «царем виолончелистов нашего века», Петр Ильич не ожидал.
– Если ему пожаловано звание солиста двора, то это еще не значит, что он имеет право судить остальных музыкантов, да еще судить так грубо! – Петр Ильич вышел из себя. – Лучше бы он занимался математикой…
Карл Юльевич Давыдов по окончании Московского университета получил степень кандидата математических наук.
– …или же пошел по стопам отца…
Отец Карла Юльевича был врачом.
– …нежели брался судить о том, о чем ему судить не положено!
Петр Ильич стукнул кулаком по столу. Посуда зазвенела, половой тут же подскочил.
– Он не один такой, – прямодушный Юргенсон умел успокоить. – С ним согласился Ауэр.
– Да что же это такое? – растерянно вытаращился на него Чайковский. – Два человека, которых я называл друзьями, которые были мне приятны, которые хвалили мои сочинения…
– Ауэру ты концерт посвятил, – напомнил Юргенсон.
– Вот-вот…
Половой принес коньяк и закуски. Когда он, расставив все на столе и наполнив рюмки, удалился, Петр Ильич продолжил:
– Причем я никогда не делал им ничего плохого, чтобы вызвать к своей персоне неприязнь, а то и ненависть.
– Да знаю я, – подтвердил Юргенсон, поднимая рюмку на уровень груди. – Предлагаю тост за тебя! Да сопутствует тебе успех!
– Спасибо.
Они чокнулись и залпом выпили коньяк, оказавшийся весьма недурственным.
– Странно, что Иосиф ничего не написал мне, – сказал Чайковский, закусывая бужениной.
Котек иногда писал ему, но их переписку нельзя было назвать регулярной.
– Должно быть, не хотел огорчать, – предположил Юргенсон.
– Рано или поздно я все равно бы все узнал.
– Это так.
– Ты сказал все или имеешь добавить что-либо? – уточнил Чайковский.
– Только то, что Антон Григорьевич не стал ничего возражать им…
– А даже высказал в мой адрес парочку своих неуклюжих острот! – перебил его Чайковский, разливая новую порцию коньяка по рюмкам, не дожидаясь полового. – Предлагаю ответный тост – за тебя, Петр, моего любимого, единственного и бескорыстнейшего издателя!
На этот раз закусили семгой.
– И чего в ней боярского? – спросил Чайковский. – Семга, как семга, ничего особенного.
– Доводилось есть и получше, – подтвердил Юргенсон. – Очевидно, звучное название блюда призвано добавить солидности заведению.
– Как я люблю твою обстоятельность и деликатность! – восхитился Чайковский. – Другой сказал бы просто – «пыль в глаза пускают», а ты вон как дипломатично выразился!
– Станешь тут дипломатом при такой жизни, – усмехнулся Юргенсон. – Ничего удивительного. Кстати, австрийские и немецкие газеты неожиданно принялись восхвалять Бродского, решившегося дебютировать в Вене с твоим скрипичным концертом. Ему ставят в заслугу не столько трудность исполнения и саму сложность произведения, как его русское происхождение.
«Это она», – подумал Чайковский, почувствовав во внезапном к нему расположении зарубежных газет руку Надежды Филаретовны, но вслух ничего не сказал.
– В Вене не любят смелость, там больше расчет в чести, – продолжил Петр Иванович. – Но я скажу тебе, что Бродский просто молодец.
– Мой концерт и Дамрош два года назад играл в Нью-Йорке! – напомнил Чайковский, весьма ревниво относившийся к своей славе. – А эти завистники…
Леопольд Дамрош в далекой Америке считался «первой скрипкой континента».
Подали щи прямо в обжигающе горячих глиняных горшках.
– Ну, прямо как в Берендеевом царстве! – улыбнулся Чайковский.
– Мне непонятны мотивы их поступков, – вернулся к теме разговора Юргенсон. – Не нравится вам концерт – не играйте его, никто же не неволит. Но зачем мешать другим? Если предположить, что твой концерт плох или, к примеру, Котек – никудышный скрипач, то вся это затея провалится под шиканье публики во время первого выступления, не так ли?
– Их гложет зависть, – сказал Чайковский, погружая в щи ложку. – Одному сам граф Виельгорский виолончель работы Страдивариуса преподнес, другому государь изволил пару приветливых слов сказать, третий вообще упивается своей славой и более ничего знать не желает. Я сегодня же напишу Давыдову…
– Что не так у вас-с-с? – подскочил к столу половой, озабоченный тем, что клиенты не спешат есть щи. – Щи не в порядке?
– Не беспокойся, любезный, – ответил Чайковский. – В порядке твои щи, просто горячи очень. Вот мы и ждем, пока они остынут.
С людьми низкого положения он неизменно был приветлив и доброжелателен.
Половой удовлетворился объяснением и скрылся из виду.
– Я потребую у него объяснений. Нельзя требовать, чтоб критик был всегда справедлив и безусловно непогрешим в своих оценках. Но нужно, чтобы он был правдив и честен. Он может ошибаться, но всегда искренно, – продолжил Чайковский. – Могу ли я сослаться на тебя в письме к Давыдову?
– Лучше не надо, – честно ответил Петр Иванович. – Мое дело требует от меня сохранять хорошие отношения со всеми, имеющими отношение к музыке.
– Вот именно – имеющими отношение! Я так ему и напишу – «Уместно ли людям, всего лишь имеющим отношение к музыке, судить о ней?». Благодарю за подсказку.
– Давыдов и Ауэр имеют звания «солистов двора Его Императорского Величества», – напомнил Юргенсон. – Твои слова относительно «всего лишь имеющих отношение к музыке» могут быть превратно истолкованы, и даже сочтены оскорбительными для…
Он указал глазами на потолок.
– Ты думаешь? – спросил Петр Ильич, вспомнив, что Ауэр вдобавок занимал пост дирижера симфонических концертов придворной певческой капеллы.
– Советую просто попросить Карла Юльевича объясниться, – посоветовал Петр Иванович. – Но, в общем, я согласен с тобой – нельзя оставлять этого дела без вмешательства.
– Я при первом же удобном случае расскажу об этом Константину Николаевичу, – пообещал Чайковский. – Вряд ли ему понравится…
– Не делай этого, – покачал головой Юргенсон. – Объяснений у Давыдова потребовать нужно, подобных слов мимо ушей пропускать не следует, но привлекать постороннее внимание к этому досадному происшествию, на мой взгляд, не стоит. Сразу пойдут разукрашенные донельзя сплетни. Злые языки будут говорить, что ты уязвлен до глубины души, что ты ничего из себя не представляешь как композитор, что тебя повсюду отказываются играть…
– Да, согласен, – кивнул Петр Ильич. – Ты, как всегда, мыслишь трезво. Но, – он прижал руку к груди, – здесь свербит обида. И еще этот Ауэр… как он мог?
– Он многим обязан Давыдову.
– Но и мне тоже, в конце концов! А что касается Давыдова, то он любит окружать себя теми, кто ему обязан. Ты и сам превосходно знаешь, во что он превратил петербургскую консерваторию – собрал под свое крыло лизоблюдов и бездарей из самых отдаленных уголков империи и радуется, находя в них поддержку…
С подачи Давыдова число учащихся консерватории и впрямь все росло и росло. Он даже устроил при консерватории общежитие для иногородних студентов, которым не по средствам было снимать жилье в самом дорогом городе империи.
– Мало мне нападок на мою церковную музыку, так еще и это!
Попытка Чайковского поработать на пользу русской церковной музыки вызвала нападки духовенства. Написанную им обедню сочли католической и запретили к исполнению во время религиозных церемоний. «Я бессилен бороться против этих диких и бессмысленных гонений! Против меня люди, власть имеющие, упорно не хотящие допустить, чтобы луч света проник в эту сферу невежества и мракобесия», – страдал Чайковский.
К концу обеда Петр Ильич вспомнил, что в Праге собираются ставить «Орлеанскую деву», и вследствие этого (не без участия вкусной еды, коньяка и общества друга) настроение его улучшилось. Тем более, что на днях он уезжал во Флоренцию, а затем намеревался пожить в Риме. Нет, что ни говори, но он правильно сделал, оставив консерваторию. Сидел бы в Москве, как привязанный…
Ему даже стало немного жаль Карла Юльевича. Что такое пост директора консерватории?
«Суета сует и всяческая суета», – как выразился библейский Екклесиаст. Сиди себе в холодном городе, в унылом казенном кабинете, и разбирай ворох нескончаемых дел.
Провинности преподавателей, невзнос платы за обучение, ремонт классов, пьянство швейцара, закупка необходимого инвентаря…
Какая тоска! Это уже не музыкант, а старший приказчик какой-то получается. Ужас, мрак… Впору удавиться на оконном карнизе!
То ли дело – сочинять музыку, разъезжать по разным, приятным сердцу местам, принадлежать самому себе и никому больше!
Вспомнилось из Лермонтова:
Это почти про него. Почти, потому что страсти и страдания ему не чужды.
Вечером он написал письмо Давыдову. Ответ пришел нескоро – недели через три. Пока его пересылали в Италию, куда к тому времени успел уехать Петр Ильич, прошло еще десять дней.
Давыдов начал с извинений, после которых пустился в длиннейшее рассуждение о сравнительных достоинствах того или иного композитора, а затем перешел к сравнению исполнительского мастерства разных музыкантов, и в конце концов Петр Ильич догадался, что поводом для нападок послужили отнюдь не недостатки его концерта.
Причина крылась в другом. Обида проступала между строк заключительной части письма Карла Юльевича. Ему, чье мастерство давно уже было признано, не предложили играть этого концерта. Не предложили и Ауэру, а отдали какому-то Котеку.
«Можно подумать, что это я упрашивал Иосифа играть мой концерт, – усмехнулся про себя Петр Ильич. – Взрослый солидный человек, а ведет себя словно малое дитя».
Черкнул Давыдову в ответ несколько приветливых, ничего не значащих слов, чтобы не казаться невежливым и сел за пространное письмо Юргенсону. В конверт, адресованный Петру Ивановичу, вложил и дакыдовское письмо – пусть тот развлечется занимательным чтением.
У баронессы фон Мекк было свое мнение об этом скрипичном концерте. Она писала Чайковскому: «Сейчас я играла Ваш скрипичный концерт, Петр Ильич, и все больше от него в восторге. Первая часть с музыкальной стороны чрезвычайно интересна, эффектна и притом написана так легко, свободно; первая тема так величественна, с таким достоинством, что просто прелесть. Она, т. е. вся первая часть, разыгрывается трудно, потому что есть такие оригинальные пассажи для скрипки, что исполнитель не сразу свыкается с ними, потом в некоторых местах трудны ритмы, но зато уж если это все преодолеть, то она очень красива. Я определяю ее происхождение так, что она написана по чисто музыкальному вдохновению, но Canzonetta… о, какая это прелесть! Сколько поэтичной мечтательности, какие затаенные желания, какая глубокая грусть слышатся в ней, эти sons voiles (под сурдинкою), этот таинственный шепот, что это за прелесть!
Господи, как это хорошо! Ну, а последняя часть – это вся жизнь, кипучая, неудержимая. Что за богатство фантазий у Вас, что за разнообразность ощущений! Сколько наслаждения доставляет Ваша музыка!»








